|
|
 |
СТИЛИСТИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА |
||||||||||||||||||||
|
2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 303 с. Внимание: в html-версии II и III главы публикуются по 1-му изданию (Л.: Просвещение, 1978. - С.53-132). |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
 |
СТИЛИСТИКА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА |
||||||||||||||||||||
|
2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 303 с. Внимание: в html-версии II и III главы публикуются по 1-му изданию (Л.: Просвещение, 1978. - С.53-132). |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Предисловие ко 2-му изданиюВ отличие от ряда пособий по стилистике, выпущенных нашими издательствами за последние два десятилетия, эта книга не преследует цель научить студента-филолога читать художественную литературу — в соответствии с действующим учебным планом факультетов иностранных языков эта задача возлагается на курс интерпретации текста и обеспечивающие его пособия. Задача курса стилистики не сводится к тому, чтобы служить введением в курс интерпретации текста. Стилистика преследует свои собственные цели, главная из которых, по нашему убеждению, заключается в том, чтобы связать функционирование языка с социальными и психологическими детерминантами человеческой деятельности и общения, объяснить причины и смысл языковой и речевой вариативности. Создателем этого направления в стилистике является Шарль Балли, который стремился «изучать язык в связи с повседневной жизнью человека, в связи с его поведением, его эмоциями, его отношением к окружающему миру» 1. В наше время нет нужды призывать лингвистов к сближению науки о языке с наукой о человеке и обществе — прагматика или прагмалингвистика стала такой же модой, какой в свое время был структурализм. Но для стилистики связь собственно языковых объектов и проблем с проблемами психологии, социологии и семиотики всегда была и остается в центре внимания. Лишенная социально-психологической опоры, лингвистическая стилистика превратилась бы в чисто констатирующую дисциплину, неспособную объяснить, почему и зачем в разных речевых ситуациях люди говорят и пишут по-разному. Стиль — содержательный аспект речи, и выражаемый им смысл нельзя описать, не пользуясь понятиями других «человековедческих» дисциплин. Потребность осмыслить явления языковой вариативности с позиций общей теории речевой деятельности ощущается особенно остро в сфере лингвистической подготовки будущих преподавателей иностранных языков, поскольку в своей работе преподаватель должен выступать не только как субъект, но и как организатор речевой деятельности. Попытку описать в такой перспективе стилистические ресурсы современного французского языка и представляет собой эта книга. Именно поэтому читатель найдет в ней, наряду с более или менее традиционным лингвистическим материалом, целый ряд понятий из области семиотики, социальной психологии, психолингвистики и теории речевой коммуникации. Автор надеется, что они будут восприняты не как дань моде, а как неотъемлемая часть системы: вряд ли интересно и полезно описывать языковые формы в отрыве от функций, которые они выполняют в речевом общении; функции же эти, как уже было сказано, нельзя адекватно описать, не прибегая к нелингвистическим понятиям. Конечно, широкое введение данных этих дисциплин привело к необходимости пожертвовать некоторой долей собственно лингвистического материала и, в частности, сократить количество примеров. Однако для будущего специалиста охватить систему в целом важнее, чем ознакомиться со всей массой конкретных фактов, в которой она реализуется. Кроме того, многие явления языковой вариативности, составляющей основной объект лингвистической стилистики, описываются в курсах теоретической фонетики и лексикологии; вообще, можно утверждать, что курс стилистики — это не столько новый, ранее неизвестный студентам материал, сколько новый угол зрения, под которым рассматриваются язык и речь. Указанные принципы определяют и систему изложения, принятую в книге: автор стремился не преподносить читателю готовые результаты, а стимулировать совместный поиск истины. Мы руководствовались в этом не только чисто дидактическими соображениями, но и тем завоевывающим все больше и больше сторонников постулатом, согласно которому «определения понятий и терминов науки нашего времени «должны быть незамкнутыми и постепенными», в отличие от схоластической традиции, опирающейся на односложные и «окончательные дефиниции» 2. Примеры, приводимые в книге, взяты из опубликованных французских текстов различных жанров. Кроме того, в главе VII широко использованы записи неподготовленной речи носителей языка, как заимствованные из лингвистической литературы, так и собранные автором и ранее не публиковавшиеся. По сравнению с первым изданием в книгу внесены некоторые изменения. В частности, первая, общетеоретическая глава по существу написана заново (кроме нескольких последних ее параграфов); в связи с выходом в свет книги автора этого пособия «Интерпретация текста» существенно сокращен раздел, посвященный стилистике индивидуальной речи, в главе II; остальные главы подверглись лишь частичной редакционной правке.
[1] Будагов Р.А. Шарль Балли и его работы по общему и французскому языкознанию // Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. — М.: Изд-во иностр. лит., 1955. — С. 7. [2] Будагов Р.А. Категории значения в разных направлениях современного языкознания//Вопр. языкознания. — 1974. — № 4. — С. 18. Р.А. Будагов цитирует А Моля: Моль А. Социодинамика культуры. — М.: Прогресс, 1973. — С. 35—36.
Глава I
|
|||||||||||||||||||||||
| Sa | Sé | |
| S'a | Sé | |
— где нижний этаж соответствует первичной семиотической системе, которую Барт называет денотативной, а верхний — вторичной, коннотативной системе; каждая система представлена планом выражения (Sa — «signifiant») и планом содержания («Sé — «signifié»).
Схема и определение Барта (как, впрочем, и схема Ельмслева, которую мы здесь не приводим) могут получить по меньшей мере два различных толкования в зависимости от того, ставит ли исследователь во главу угла план содержания (Sé) или план выражения (Sa) денотативной системы. Эти два толкования соответствуют уже выделенным нами двум аспектам стиля: стилю содержания и стилю выражения. Сам Барт, как в указанной статье, так и в других своих работах (они посвящены главным образом семиотике литературы), имел в виду в первую очередь коннотации содержания.
Иное толкование концепции Ельмслева — Барта мы находим в работах Ю.С. Степанова, который удачно применил ее к лингвистической стилистике, т.е. к стилю выражения 59. Аналогичным образом идея коннотативной семиотики толковалась в первом издании этой книги. Думается, однако, что в первую очередь она должна быть приложена к речевому поведению человека в целом, а не к отдельным жанрам или типам речи, и к стилю в широком смысле слова, потому что в процессе восприятия речи рядовым носителем языка стиль выражения и стиль содержания, как правило, не расчленяются или расчленяются нечетко. Одна из причин такой недифференцированности восприятия заключается в том, что план содержания того и другого, в сущности, един: как мы уже знаем, и стиль выражения, и стиль содержания отсылают к параметрам коммуникативной ситуации.
Вернемся к содержанию, которое несет стиль речи. Выше, в § 11, мы высказали мысль, что в любом речевом сообщении как бы закодирована информация о речевом акте, в результате которого оно появилось на свет, так как параметры самого сообщения — как план содержания, так и план выражения — определяются параметрами коммуникативной ситуации. Выражаясь математическим языком, можно сказать, что любое сообщение выступает как функция ряда аргументов:
где С — само сообщение, Ан — адресант как носитель статуса, роли и определенных личностных свойств, а также субъект деятельности, преследующий своей речью определенную цель, Ат — адресат, рассматриваемый в тех же аспектах, H — наблюдатель, PC — референтная ситуация, ДС — деятельностная ситуация, ПСФ — предметно-ситуативный фон и КСв — канал связи. Как уже было сказано в § 6, референтная ситуация в принципе не является частью коммуникативной ситуации; однако включить ее в нашу формулу совершенно необходимо, так как, получая отражение в номинативном содержании сообщения, она существеннейшим образом детерминирует последнее.
Наша речевая деятельность в целом может быть уподоблена решению приведенного уравнения, т.е. нахождению неизвестных величин; причем для разных людей, занимающих разные позиции в структуре речевого акта, это равенство будет обладать разными наборами известных и неизвестных. Адресанту хотя бы в общих чертах известно все, что находится в правой части равенства, поскольку он имеет определенное представление обо всех параметрах коммуникативной ситуации; его задача — найти параметры высказывания, т.е. построить сообщение. Интерпретатор (адресат или наблюдатель) решает обратную задачу: ему непосредственно дано само сообщение (план содержания и план выражения) ; в первую очередь он «декодирует» номинативное содержание сообщения — то истолкование, которое получает в сообщении референтная ситуация, а затем, зная закономерные связи между параметрами речи (включая уже воспринятое описание референтной ситуации) и параметрами коммуникативной ситуации, он «вычисляет» остальные аргументы функции — те, которые его интересуют. Сведения о них и составляют коннотативное содержание сообщения.
Названные аргументы — параметры коммуникативной ситуации — имеют разный «удельный вес» в сообщениях, принадлежащих к разным жанрам и типам речи. Так, для сообщений, реализуемых дистантно и предназначаемых не единичному адресату, а целой социальной группе (таких, как книги, статьи, газетная информация, законодательные акты, большинство теле- и радиопередач и т.п.), конкретный предметно-ситуативный фон порождения сообщения, как правило, не важен. Для ряда жанров деловой и научно-технической информации, которые жестко регламентируют построение сообщения, не актуальны личностные свойства адресанта и адресата: такие тексты, как доверенность, патентная заявка, решение суда, коммерческое соглашение, закон, международный договор и т.д., реализуют чисто ролевое общение — такое, когда адресант и адресат выступают только как носители ролей и субъекты сугубо ролевой деятельности, а их личностные качества и состояния никого не интересуют и в сообщении никак не проявляются.
Чем строже регламентируется речь, тем определеннее и в то же время тем беднее стилистическая информация, которую она несет. В только что названных речевых жанрах она воспринимается вполне однозначно (если, конечно, интерпретатор знаком с нормами построения соответствующих текстов) и фактически сводится к указанию на жанр и стоящую за ним роль, как это имеет место в следующем отрывке:
Art. 328. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
Внешнее оформление этого отрывка — он именуется статьей и получает свой порядковый номер, — его план содержания — текст предписывает, как надо квалифицировать некоторые человеческие действия, обычно подпадающие под рубрику противозаконных, в определенных обстоятельствах, — и план выражения, характеризующийся особой организацией фразы (она будет подробно рассмотрена ниже) и обилием специальных терминов, — все это неопровержимо свидетельствует о том, что перед нами статья Уголовного кодекса — особого жанра официальной речи, в котором адресант выступает в специфической роли законодателя. Законодатель — это не личность, а голос государства; именно поэтому в текстах, реализующих эту и подобные ей роли, полностью отсутствует какая бы то ни была субъективная окраска и никому даже в голову не придет ее искать.
Ролевое начало преобладает и в таких сравнительно более гибких жанрах, как научная статья, доклад, монография, учебник, информация в газете, на радио или на телевидении и т.п. О том, каков автор учебника или статьи именно как личность, мы можем более или менее определенно судить лишь тогда, когда он хоть немного, но нарушает жанровую норму или балансирует на грани нормы.
Чем менее строго регламентируется речь в рамках данного жанра, тем богаче и разнообразнее стилистическая информация, которую она несет, и тем больше содержание этой информации зависит от воспринимающего и от процесса восприятия, в частности, от того, какие параметры коммуникативной ситуации известны интерпретатору независимо от сообщения и что его интересует.
В самом деле, если план содержания и план выражения сообщения не жестко детерминированы ролью, если все или почти все параметры коммуникативной ситуации актуальны, т.е. в ощутимой степени определяют выбор, осуществляемый адресантом, то уравнение, приведенное на с. 40, не поддается однозначному решению, так как содержит слишком много неизвестных. Иначе говоря, имея дело с сообщениями, которые несут явный отпечаток личности адресанта, мы далеко не всегда можем с полной уверенностью судить по самому сообщению о значении каждого отдельного параметра коммуникативной ситуации, потому что одно и то же сообщение может быть порождено разным набором параметров.
Последнее можно показать на очень простом примере. Пусть дано сообщение: II se fait tard, vous devez être fatigué. По самому этому высказыванию мы можем заключить лишь то, что, по-видимому, оно возникло в ходе непосредственного неформального или не чисто формального общения, что адресант и адресат (или по крайней мере один адресат) — люди взрослые и скорее всего не очень близкие, а также что они принадлежат к тому социальному кругу, в котором к людям указанного статуса обращаются на «Вы». Что же касается таких важных параметров коммуникативной ситуации, как роли, то тут почти полная неопределенность: говорящий может быть как начальником, так и подчиненным, как преподавателем, так и студентом, как хозяином, так и гостем... Ничего нельзя сказать и по поводу личностных свойств адресанта.
Однако положение существенно изменится, если мы введем хотя бы две известные величины: сопряженные друг с другом роли партнеров по общению. Допустим, что адресант — хозяин, а адресат — гость. В этом случае высказывание немедленно обретает определенный смысл и цель: ясно, что это слегка завуалированное приглашение уйти. Отталкиваясь от этого, можно сделать и некоторые выводы, касающиеся отношений между партнерами: социальный статут адресанта, вероятно, несколько выше, чем статут адресата, иначе он бы не позволил себе и такого намека. Наконец, теоретически рассуждая, эта фраза дает кое-какой материал и для того, чтобы судить о личности адресанта; но конкретные выводы можно было бы сделать лишь на основании ряда аналогичных наблюдений, которые позволили бы выявить с достаточной определенностью его индивидуальную норму поведения.
А теперь представим себе, что эту фразу говорит не хозяин, а гость. В таком случае мы должны приписать говорящему уже иную цель — подготовить и обосновать собственный уход или получить от хозяина заверение, что продолжение визита ему не в тягость. И в том, и в другом варианте адресант хочет продемонстрировать адресату свою предупредительность, из чего опять-таки можно делать определенные выводы о личностных его свойствах и отношениях между партнерами.
Таким образом, для более или менее полного и адекватного восприятия стилистической информации, которая содержится в высказывании или тексте, реализующем личностное общение, интерпретатор должен еще до текста и независимо от него знать какие-то величины из правой части равенства — какие-то параметры коммуникативной ситуации. Тогда, воспринимая сообщение и соотнося его с тем, что ему уже известно о речевом акте, он может сделать вывод о неизвестном параметре или неизвестных параметрах последнего 60.
Это условие — знание интерпретатором каких-то параметров коммуникативной ситуации — оказывается соблюденным практически всегда. Иначе и быть не может, если получателем сообщения является сам адресат, а общение происходит в форме непосредственного контакта; но и тогда, когда мы имеем дело с письменным текстом, хоть что-то из правой части равенства нам, как правило, известно. Известны, в частности, канал связи и жанр сообщения, так как последний обычно прямо указывается на титульном листе книги либо в подзаголовке статьи («роман», «рассказы», «сборник статей», «учебное пособие», «заметки писателя», «судебный очерк», «фельетон» и т.п.) или сигнализируется каким-то иным способом, например местом статьи на газетной полосе. Кроме того, достаточно часто мы имеем некоторое представление и о референтном пространстве текста — хотя бы о том, что в нем возможно и вероятно, а чего не может быть, и, сопоставляя свои представления о нем с описанием, данным в тексте, делаем выводы относительно философской, идеологической или эстетической позиции автора, его проницательности, искренности, степени осведомленности и т.п. Наконец, читая или слушая с начала последовательно развертывающийся текст, мы тем самым знакомимся с деятельностной ситуацией, воплощенной в предыдущей части текста (в «левом контексте») и в какой-то мере определяющей его последующую часть (ведь контекст, как было сказано в § 6, входит в состав деятельностной ситуации). Так, например, читая очередную реплику персонажа романа или пьесы, мы, как правило, уже знаем, что это за персонаж, и представляем себе ситуацию, в которой эта реплика произносится. Аналогичным образом, читая очередную фразу статьи или учебника (хотя бы вот эту самую), читатель знает, какую роль она играет в структуре речемыслительной деятельности, которая развертывается в данном параграфе и в книге в целом, проще говоря, как она связана со всем предыдущим и зачем она тут стоит.
Таким образом, объективные предпосылки для извлечения стилистической информации из текста есть практически всегда. «Узким местом» здесь может оказаться субъективный фактор — знание закономерностей речевого поведения, зависящее от жизненного и речевого опыта интерпретатора, а также умение и привычка сознательно, вдумчиво и критически подходить как к своей, так и к чужой речи. В выработке такого умения немаловажную роль должны сыграть курсы стилистики и интерпретации текста.
Итак, мы знаем, что содержание стилистической информации — это различные сведения о параметрах ситуации общения. Но сами эти параметры представляют собой сложные, многокомпонентные образования. Так, например, параметр «адресант» включает в себя и статус, и роль, и постоянные личностные свойства субъекта речи, и цель, которую он преследует, и его эмоциональное состояние; деятельностная ситуация — это весь «левый контекст» общения, т.е. то, что произошло до речевого акта и привело к нему. Кроме того, параметры коммуникативной ситуации, как мы уже видели, тесно связаны между собой (например, роль адресанта и роль адресата, роль адресанта и канал связи, роль адресанта и деятельностная ситуация, деятельностная ситуация и цель...); это, в сущности, не взаимонезависимые переменные, а разные грани единого целого, теоретически и практически неисчерпаемого. Поэтому содержание стилистической информации не может быть сведено к ответам на стандартный набор вопросов, к совокупности каких-то раз навсегда установленных компонентов. Ведь в зависимости от того, что интерпретатору известно и что его интересует, коммуникативная ситуация может повернуться в стиле сообщения самыми разными своими сторонами.
Вот это мы и попытаемся показать на конкретных примерах. Кроме того, назрела необходимость выделить, наконец, из стиля в широком смысле термина то, что непосредственно составляет предмет лингвистической стилистики — стиль выражения. Нижеследующие примеры помогут нам разобраться, какая же часть стилистической информации приходится на долю последнего, а какая — на долю стиля содержания. Ясно, что к последовательному и систематическому анализу стиля читатель еще не готов; поэтому мы будем апеллировать в основном к читательской интуиции, к неосознанному речевому опыту, в отдельных случаях переводя наиболее характерные выражения на русский язык.
Les deux porte-avions de la flotte américaine en Méditerranée, «Coral Sea» et «Saratoga», ont reçu l'ordre de faire route vers les côtes de la Lybie, afin que leurs appareils se livrent, jusqu'au 31 janvier, à des démonstrations de force contre ce pays. Le Pentagone affirme que ce sont «manœuvres de routine». L'agence «Associated press» parle d'un «petit avertissement» à Tripoli. Le «Washington Post» rapporte que des responsables du département de la Défense ont déclaré aux journalistes: «Vous pourriez dire que cela fait partie de la guerre des nerfs».
Восприятие сообщения, приводимого в качестве примера в книге или статье, можно уподобить восприятию животного в клетке зоологического сада, на которой по какой-то причине нет таблички с надписью: и в том, и в другом случае самая первая реакция воспринимающего одна: что это за зверь? что это за текст?, т.е. нам хочется прежде всего идентифицировать применительно к животному — вид, а применительно к сообщению — жанр, к которому оно принадлежит. Это нужно нам для того, чтобы знать, как относиться к данному тексту: по каким правилам он построен, чего от него можно ждать и как, в соответствии с этими правилами и ожиданиями, его оценивать.
Жанр только что приведенного отрывка опознается сразу и без малейших затруднений: это газетная информация. Обосновать эту интуитивную оценку также нетрудно. Для газеты типична, во-первых, тематика отрывка: международные дела, отношения между США и Ливией; причем, что характерно именно для газеты (а не, скажем, журнала), текст сообщает о вполне конкретном событии — приказе, только что полученном американскими авианосцами. Еще более типичны для указанного жанра заголовки — их целых три: самый первый, общий, формулирующий тему; затем — главный, оценочный, выражающий отношение к излагаемым событиям, и, наконец, подзаголовок, резюмирующий эти события.
Так складывается первый — и часто избыточный — компонент стилистического содержания: информация о жанре. Какую же роль играет в этом стиль выражения — отбор собственно языковых средств для выражения данного содержания? Применительно к газетному тексту его роль относительно невелика: в приведенном отрывке типичным для этого жанра можно считать (с некоторой натяжкой) безглагольное предложение событийной семантики в подзаголовке, затем — употребление названия столицы государства (Tripoli) для обозначения правительства последнего и, наконец, употребление названий государственного органа (le Pentagone), агентства информации (Associated press) и газеты (Washington Post) в качестве субъектов глаголов речи (affirmer, parler, rapporter) 61.
Но, может быть, заголовки текста, охарактеризованные выше как наиболее типичные признаки жанра, тоже следует рассматривать как элементы плана выражения? Действительно, ведь тот факт, что какие-то элементы содержания, кратко резюмирующие весь текст, вынесены в его начало и предваряют более подробное изложение, характеризует не столько содержание, сколько форму его подачи. Но с другой стороны — не меняется ли и само содержание от такой перегруппировки его элементов? Этот вопрос имеет принципиальное значение, поскольку касается семиотического статуса композиции текста: принадлежит ли последняя плану выражения или плану содержания, характеризует стиль выражения или стиль содержания? Вопрос этот важен еще и потому, что определенный порядок изложения материала — очень существенная отличительная черта многих речевых жанров 62.
Мы, однако, не будем предлагать однозначного решения: как и стиль (см. выше, § 1), план выражения и план содержания суть научные абстракции, конструкты, и какой смысл мы будем вкладывать в эти термины, зависит в конечном счете от нас — лишь бы наша трактовка этих понятий была непротиворечивой и ясно сформулированной. Будем считать, что композиция развернутого сообщения занимает как бы промежуточное положение между планом выражения и планом содержания, и, следовательно, выбор на этом уровне лежит в той пограничной области, которая отделяет стиль выражения от стиля содержания и принадлежит одновременно тому и другому (см. выше, § 9).
Вернемся к примеру, приведенному выше. Стилистическая информация, которую он несет, не исчерпывается указанием на жанр — очень существенным ее компонентом является позиция адресанта по отношению к сообщаемым фактам и по отношению к адресату. Оценка сообщаемого факта, во-первых, выражена прямо и недвусмысленно в основном заголовке: действия США квалифицируются как преднамеренная провокация, из чего можно сделать четкий вывод о политической позиции адресанта (каковым здесь является не столько конкретный человек, писавший статью, сколько газета в целом). Сама эта оценка составляет часть эксплицитного содержания, но с точки зрения стиля существенным является факт ее прямого выражения, который свидетельствует о том, что газета «Юманите», откуда взят пример, видит свою задачу не только и не столько в информировании читателя, сколько в формировании общественного мнения (по французской терминологии, это не «journal d'information», a «journal d'opinion»). Так в способе выражения оценки сообщаемого факта проявляется позиция адресанта по отношению к адресату.
Но отношение адресанта к тому, о чем он пишет, проявляется и косвенно — подбором и группировкой фактов в самом тексте. После первого предложения, излагающего событие, сообщается, что говорят о нем американские источники, причем газета сталкивает утверждение Пентагона («manœuvres de routine») с сообщениями «Ассошиэйтед Пресс» и «Вашингтон пост», опровергающими его. Но это противопоставление выражено не прямо — в статье не говорится: «La thèse du Pentagone se trouve démentie par les informations émanant des sources aussi autorisées que l'agence «Associated press» et le «Washington Post» или что-нибудь в этом роде; нет, высказывания американских источников (данные к тому же для большей достоверности в цитатной форме) просто приведены в непосредственном соседстве друг с другом — читатель сам должен сделать вывод, совпадающий с прямой оценкой события, данной в заголовке. Таким образом, стилистическая информация, которую нам удалось извлечь из приведенного отрывка, сводится к следующим компонентам:
1) жанр сообщения, т.е. социальная роль, которую играет адресант, и роль, которую он отводит адресату;
2) отношение адресанта к сообщаемым фактам;
3) идеологическая позиция адресанта;
4) позиция адресанта по отношению к адресату.
Все эти компоненты тесно связаны между собой, причем ведущую роль играет первый. Это вполне естественно: всякая принятая субъектом роль обязательно предполагает определенное отношение к партнеру и к объектам ролевой деятельности. В нашем случае отношение адресанта к сообщаемым фактам и к адресату определяется не только тем, что он журналист вообще, автор международной информации, но и тем, что он сотрудник газеты «Юманите» — центрального органа Французской коммунистической партии. С этим тесно связана и его идеологическая позиция, непосредственно проявляющаяся в отношении к тому, о чем он пишет. Однако — и в этом специфика роли журналиста-сотрудника «presse d'opinion» — его позиция, его отношение к событиям принадлежат не столько ему как личности, сколько газете, которую он представляет.
— Tu as une sale gueule. Qu'est-ce qui ne va pas?
— Je... J'ai des emmerdements. C'est sans importance.
— C'est idiot. On est tout le temps à courir, à droite et à gauche, on n'a plus le temps de s'occuper des vieux copains. Si tu crevais, j'apprendrais ta mort un mois après, par hasard.
— Je ne crèverai pas de sitôt.
Очевидно, что этот отрывок воспроизводит непринужденный бытовой разговор между двумя достаточно близкими друг другу людьми, по всей вероятности, старыми товарищами (говоря on n'a plus le temps de s'occuper des vieux copains, первый партнер, несомненно, имеет в виду своего собеседника). Очевидно также, что разговор этот лишен практической направленности, по крайней мере на данном этапе; можно предположить, что собеседники до этого давно не виделись и встретились случайно.
О том, что собеседники давно и близко знакомы друг с другом, свидетельствует весь строй их разговора, и в первую очередь содержание некоторых реплик: « Tu as une sale gueule» и в особенности «Si tu crevais...» — такое можно сказать либо заведомо низшему по социальному рангу (но слова «vieux copains» исключают такое толкование), либо абсолютно своему человеку, в отношении которого можно быть уверенным, что он не обидится. Такая же непринужденность характеризует стиль выражения: собеседники как будто нарочно выбирают грубые слова: sale gueule, a не, скажем, mauvaise mine; emmerdements, а не ennuis; crever, a не mourir. По-русски этот диалог звучал бы приблизительно так:
— Выглядишь ты фигово. В чем дело-то?
— Да так, неприятности... В общем, ничего особенного.
— Ерунда какая-то получается! Крутишься, бегаешь, высунув язык — некогда даже вспомнить о старых товарищах. Если ты загнешься, я об этом узнаю через месяц, случайно.
— Ну, я еще не собираюсь помирать.
Отношения между собеседниками характеризуются еще двумя моментами:
1) несмотря на грубость своих слов, первый явно проявляет заботу о втором; он даже как будто извиняется за то, что не пытался увидеться с ним;
2) если по социальному рангу партнеры, видимо, равны, то психологический статус первого выше: по крайней мере в этом разговоре он выступает как лидер — инициатива принадлежит ему;
3) отвечая на вопрос первого, второй на секунду запинается: Je... J'ai des emmerdements; можно предположить, что в первый момент он хотел сказать что-то другое, может быть, более конкретно ответить на заданный вопрос, но передумал, решил отделаться общей, мало что говорящей формулировкой; если это так, то в отношениях между ними, видимо, не все гладко, есть какая-то отчужденность.
Кто же эти люди по своему социальному статусу, к какому кругу они принадлежат? Как будет показано ниже, в главе VIII, такой стиль общения имеет двоякое значение: с одной стороны, он может характеризовать людей, не обладающих «хорошими манерами» и не владеющих литературным языком, т.е. принадлежащих к малообразованным слоям общества, для которых эта манера выражаться обычна и общеупотребительна. С другой стороны, сходное речевое поведение достаточно типично и для образованных людей (особенно молодых) в общении с членами своей микрогруппы; оно символизирует социально-психологическую общность, отношение к партнеру как к «своему», а в ряде случаев демонстрирует и сознательную установку на нарочитую простоту и даже грубость. С кем же мы имеем дело в приведенном отрывке — с рабочими, говорящими так, как они говорят обычно, или с интеллигентами, играющими в «мужественную простоту», — об этом трудно судить, не располагая дополнительными сведениями о коммуникативной ситуации.
Эти сведения автор сознательно утаил от читателя, чтобы еще раз показать, как стилистическая информация зависит от того, что нам уже известно о ситуации общения. Приведенный диалог заимствован (с небольшими сокращениями 63) из романа Ж.-П. Сартра «Возраст рассудка». Собеседники (персонажи романа) — сравнительно молодые (тридцать с небольшим) люди, в прошлом близкие друзья. Первый, Брюне, насколько можно судить по тексту произведения, — выходец из крестьянской семьи, получивший образование, в момент действия он активист ФКП. Второй, Матьё, главный герой романа — типичный интеллигент средней руки, преподаватель философии в лицее. Они встретились случайно, в период, когда Матьё переживает острый душевный кризис.
Как только мы вводим эти сведения, многое в тексте проясняется. Становится ясно, например, что стиль их речевого поведения отражает в первую очередь отношения между партнерами по общению, их близость (теперь уже былую), а не их социальное происхождение и культурный уровень, — тот же Брюне в иных ситуациях может говорить вполне интеллигентно. Существенно здесь и то, что они друзья с юношеских лет, а такой стиль общения часто сохраняется по традиции, идущей со времен молодости, — ведь подавляющее большинство молодых людей студенческого возраста разговаривают так или примерно так в своем кругу.
Но речевой манере Брюне можно приписать и определенный политический смысл: для коммунистов той поры (конец 30-х годов) — по крайней мере, если судить об этом по многим произведениям французской литературы, характерно несколько настороженное отношение не только к буржуазной интеллигенции, но и к интеллигентности вообще; сам Брюне, хотя он образованный человек и по своему социальному положению не является рабочим, к интеллигентам себя отнюдь не причисляет («Vous êtes tous pareils, vous autres les intellectuels», — говорит он Матьё при следующей встрече). Следовательно, подчеркнутую «простонародность» его речи, особенно в разговоре с Матьё, можно истолковать также как осознанную или неосознанную попытку отгородиться от этой «социальной прослойки», с которой он все-таки связан хотя бы образованием.
С учетом сведений о собеседниках становится понятным и то, что в их общении Матьё играет как бы подчиненную роль: он запутался, он понимает, что путь интеллигента-индивидуалиста, который он избрал, завел его в тупик, тогда как Брюне полон внутренней силы и убежденности в правоте своего дела. Получает подтверждение и то, что было сказано выше по поводу запинки Матьё во второй реплике диалога: ему стыдно признаться Брюне в том, что его гнетет 64, потому что его непосредственная забота носит сугубо личный и достаточно тривиальный характер. Словом, из этого отрывка диалога, зная хотя бы левый контекст романа, можно сделать вывод, что ему действительно плохо.
На этом можно остановиться, если рассматривать этот текст только как бытовой диалог — общение между двумя как бы реальными людьми, о которых мы в силу каких-то причин располагаем определенными сведениями. Но можно пойти дальше — рассмотреть приведенный кусок во всей полноте его содержания, включая, естественно, и коннотативную (стилистическую) информацию, которую он несет, именно как отрывок из романа — сложного речевого действия, субъектом которого является автор, Ж.-П. Сартр, а адресатом — читатели, в том числе и мы. И здесь мы должны себя спросить, что значит, что Сартр изображает таких героев и изображает их так, а не иначе, т.е. постараться выявить коннотации коннотаций. В самом деле, ведь при такой постановке вопроса все содержание речи и поведения героев, включая коннотативную информацию, оказывается планом выражения семиотической системы авторского текста — коннотативной системы более высокого порядка. Иначе говоря, художественный текст, в котором действуют и говорят какие-то персонажи, оказывается, если так можно выразиться, коннотативно значимым в квадрате. Но выявлением этих «коннотаций второй степени» лингвистическая стилистика заниматься, естественно, не может: это задача другой дисциплины — интерпретации текста.
Подведем некоторые итоги. Коннотативное содержание (стилистическая информация), которое нам удалось извлечь из приведенного отрывка, рассмотренного вне контекста романа, складывается в первую очередь из сведений о жанре общения и, следовательно, о ролях партнеров, а также об их взаимоотношениях. Введение дополнительных сведений о собеседниках не столько расширяет, сколько углубляет эту информацию, перенося центр тяжести с ролевых и статусных характеристик на личностные. В частности, только введя эти сведения, более или менее известные читателю романа из левого контекста, мы смогли сделать определенные выводы о моральном состоянии Матьё.
Как и в предыдущем примере, стиль содержания и стиль выражения тесно сотрудничают друг с другом — информация, которую они несут, фактически неразделима. Однако здесь стиль выражения играет более существенную роль, чем в отрывке из газетного сообщения; это объясняется значительно большей свободой выбора, которой обладают носители данных ролей по сравнению с журналистом. Тем не менее, если бы мы искусственно вычленили из суммарной коннотативной информации только ту ее часть, которую несет стиль выражения, то эта информация стала бы намного беднее, абстрактнее. В частности, отвлекаясь от стиля содержания, мы не смогли бы установить, что Брюне проявляет заботу о товарище и, с другой стороны, играет ведущую роль если не в их отношениях вообще, то во всяком случае в данном разговоре.
Из этого следует, что при анализе стиля конкретного сообщения отвлекаться от содержания этого сообщения вряд ли полезно. Да и можно ли, говоря о каком-то тексте, в самом деле отвлечься от того, что он означает? Но в таком случае анализ стиля конкретного сообщения не есть чисто лингвистическая задача. К этому тезису мы еще вернемся.
В предыдущих примерах мы констатировали в основном солидарность информации, поставляемой интерпретатору стилем содержания и стилем выражения. Действительно, такие актуальные компоненты коннотативного содержания речи, как роли коммуникантов и их личностные характеристики (постоянные свойства и сиюминутные состояния), регулярно проявляются в отборе и того, что говорит или пишет адресант, и того, какими языковыми средствами он это выражает. Имеется, однако, один аспект коннотативной информации, который реализуется преимущественно в стиле выражения. В одном рассказе Мопассана действующие лица разговаривают между собой так:
— Ousque tu vas, comme ça?
— J'vas t'au Havre vé Chambrelan.
— Qué Chambrelan?
— L'guérisseux, donc.
— Qué guérisseux?
— L'guérisseux qu'a guéri mon pé.
— Ton pé?
— Oui, mon pé, dans l'temps.
— Qué qu'il avait ton pé?
— Un vent dans l'dos, qui n'en pouvait pu r'muer pied ni gambe.
— Qué qui H a fait ton Chambrelan?
— Il y a manié l'dos comm'pou' fé du pain, avec les deux mains donc! Et ça y a passé en une couple d'heures!
Коренной француз, в особенности если он человек бывалый, по их речи без труда узнает в этих людях нормандских крестьян, подобно тому как мы легко узнаем выходцев из Южной России или, наоборот, северян — вологодцев или архангелогородцев, а также (хотя и с гораздо меньшей уверенностью) отличаем человека сельского от городского. При этом содержание речи либо вообще никак не помогает нам определить, с кем мы имеем дело (в принципе нормандец или архангелогородец может говорить о чем угодно и что угодно), либо дает лишь косвенные, достаточно расплывчатые указания на это. Так, в содержании приведенного диалога нет ничего специфически нормандского (за исключением географического названия) и почти ничего крестьянского; ясно лишь, что собеседники — люди малообразованные. Информация о том, откуда происходит адресант и кто он по своему социальному статусу (в особенности первая), основывается прежде всего на особенностях выражения — тех свойствах его речи, которые можно расценить как показатели того или иного территориального или социального диалекта.
Понятие «диалект» определяется в лингвистике как «разновидность (вариант) данного языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей, связанных тесной территориальной, профессиональной или социальной общностью» 65. Использование территориального диалекта (или хотя бы каких-то его элементов) характеризует адресанта как уроженца определенного географического района, а социального диалекта — как носителя определенного социального статуса.
В отличие от признаков роли и прочих параметров коммуникативной ситуации, диалектные черты в речи данного носителя языка, как правило, постоянны и не поддаются контролю с его стороны: мопассановские крестьяне говорят так, как они говорят, по той причине, что для них это если и не единственный, то, во всяком случае, самый обычный и естественный способ выражения.
Свойства речи субъекта, отражающие его происхождение, соответствуют тому, что в современной социолингвистике именуется стратификационной вариативностью языка, тогда как признаки роли, отношения адресанта к партнеру и к предмету речи, равно как и характеристики сообщения, связанные с деятельностной ситуацией и предметно-ситуативным фоном, основываются на так называемой ситуативной вариативности языка и речи. «Если языковыми коррелятами стратификационной вариативности являются те языковые различия, которые обнаруживают представители различных социальных слоев и социальных групп, то ситуативная вариативность находит свое выражение в дифференцированном использовании языка в зависимости от социальной ситуации» 66. Иначе говоря, ситуативная вариативность обнаруживается в речи одного и того же человека, попадающего в разные ситуации общения, тогда как стратификационная (диалектная) отличает одних людей от других.
Если несколько расширить эти понятия и приложить разграничение между стратификационной и ситуационной вариативностью не только к плану выражения, но к речевой деятельности в целом, можно наметить еще одно различие между той и другой: ситуативная вариативность обнаруживается и в плане выражения, и в плане содержания, тогда как стратификационная затрагивает преимущественно план выражения.
Однако, несмотря на постоянство их проявления и относительную независимость от ситуации, диалектные черты в речи какого-либо человека далеко не всегда поддаются однозначному истолкованию. Это объясняется, во-первых, тем, что в условиях активного распространения национального языка за счет местных диалектов последние находят прибежище в определенных слоях общества, как правило, малообразованных и социально малоподвижных, — территориальные диалекты превращаются в территориально-социальные 67. Так, во Франции нормандские диалектные черты сохраняются в первую очередь в крестьянской среде; о том, что персонажи рассказа Мопассана — крестьяне, можно догадаться по тому, что они говорят на нормандском диалекте.
Еще важнее то, что в наше время непроходимой пропасти между стратификационной (диалектной) и ситуативной вариативностью нет. В современном мире, по крайней мере в развитых странах, роль стратификационной вариативности в речевой деятельности людей постоянно уменьшается: всеобщее образование и развитие средств массовой информации (в особенности радио и телевидения) приводят к превращению ее в вариативность ситуативную: формы, характерные для социальных и территориальных диалектов, перестают быть единственно возможными для их носителей и превращаются в варианты, сосуществующие в идиолекте носителя с общенародными и, в частности, литературными. Употребление того или другого варианта в речи становится результатом действительного выбора со стороны говорящего: в его официальной речи начинают преобладать литературные формы, а в повседневной, особенно в своем кругу, сохраняются диалектные 68. Такое явление называется диглоссией.
Этот процесс затрагивает в первую очередь лексику, а в последнюю — фонетику: особенности произношения, восходящие к территориальным и (в меньшей степени) к социальным диалектам, оказываются наиболее стойкими. Французу, родившемуся и выросшему, скажем, в Провансе, бывает очень нелегко избавиться от специфического акцента; точно так же выходец из Харькова или Ростова-на-Дону, живущий в Ленинграде или в Москве, может до конца жизни сохранить придыхательное «г».
Элементы социальных (реже территориальных) диалектов встречаются и в речи людей, которые к носителям данного диалекта не принадлежат. Так, они нередко возникают в речи носителя литературной нормы, когда он общается с носителем данного диалекта — «человеком из народа», равно как и «человек из народа», общаясь с интеллигентом, часто стремится говорить «культурно», т.е. следовать нормам литературной, а порой даже и книжной речи. В обоих случаях имеет место приспособление к среде 69, подстройка под ожидания партнера по общению или, точнее, под свое представление о том, какого речевого поведения ждет партнер 70.
Стирание граней между стратификационной и ситуативной вариативностью, а также распространенность речевого приспособления к среде приводят к тому, что вполне однозначно истолковать выбор казалось бы типично диалектной формы чаще всего оказывается невозможно: нередко одни и те же формы отражают оба типа вариативности (именно с этим мы столкнулись при анализе примера из Сартра). «Поэтому трудно однозначным образом истолковать данный сигнал сам по себе, например отличить небрежно говорящего комиссионера от тщательно говорящего водопроводчика» 71, — замечает известный американский социолингвист Уильям Лабов.
Так мы с другого конца подошли к уже сформулированному выводу: если считать, что основная задача стилистики — анализ стиля конкретных речевых сообщений на предмет выявления содержащейся в ней коннотативной информации, то исследователь просто не имеет права игнорировать стиль содержания. Следовательно, такая стилистика не может быть только лингвистической дисциплиной. Но в таком случае возможна ли вообще лингвистическая стилистика? И если да, то что же остается на ее долю? На этот вопрос надо, видимо, ответить так: на долю лингвистической стилистики остается прежде всего исследование стилистических потенций языка — собственно языковых предпосылок возникновения стиля выражения, тех возможностей выбора, которые данный язык предоставляет говорящему или пишущему. Заниматься же конкретными текстами, в частности литературными, извлекать из них всю полноту смысла и в первую очередь коннотативную информацию путем анализа как стиля выражения, так и стиля содержания — эту задачу надо возложить на другую дисциплину — интерпретацию текста, которая основывается на лингвистической стилистике, но в не меньшей степени на поэтике, эстетике и психологии.
Итак, наш разговор о стиле подошел к концу. Заканчивается он на первый взгляд парадоксально: выяснилось, что на протяжении пятидесяти с лишним страниц мы говорили о понятии, которое не может лечь в основу нашей дисциплины. Но разговор был тем не менее полезен: во-первых, выяснение того, чем не является искомая сущность, — дело очень нужное, особенно если вопрос был основательно запутан; во-вторых же, в результате этого разговора мы можем яснее представить себе, для чего служат те кирпичи — лингвистические предпосылки стиля, из которых складывается все здание, без которых коннотативное содержание речи было бы намного бедней.
Итак, наша очередная задача заключается в том, чтобы определить, что же может и должно являться исходным понятием лингвистической стилистики. Для этого необходимо перейти от понятия стиля, которое, как оказалось, не вмещается в рамки нашей дисциплины, к понятиям собственно лингвистическим. Отсюда вопрос, вынесенный в заглавие параграфа. Речь идет о том, чтобы попытаться понять, какие же свойства языковых единиц, отбор которых создает стиль выражения (о стиле содержания мы здесь уже не говорим), делают этот последний значимым свойством сообщения. Для решения этой задачи мы позволим себе заимствовать у Ю.С. Степанова красивый пример, приводимый им во «Французской стилистике» — французский анекдот, в котором «всего в трех фразах рассказывается, как передается распоряжение подать машину начальника:
— Avancez l'automobile du patron! — Подайте автомобиль начальника!
— Sortez la voiture du chef! — Выводите машину хозяина!
— Amenez la bagnole du singe! — Давай мотор обезьяны! («Обезьяна» — ироническое обозначение хозяина в среде рабочих.)
Мы сразу видим, — продолжает Ю.С. Степанов, — что первую фразу произносит лицо респектабельное, стоящее высоко на социальной лестнице и преисполненное почтения к тому, кто стоит еще выше. Распоряжение подхватывает менее важный и более равнодушный к этому служащий. Третья фраза принадлежит рабочему, который смотрит без всякого почтения и на хозяина, и на его машину, и на самый приказ» 72.
И несколько дальше Ю.С. Степанов пишет: «...стилистически удачное сообщение позволяет передать очень экономным способом большое количество информации. Так, если не использовать стилистические возможности, то мысль из предыдущего примера — Давай мотор обезьяны — пришлось бы передать приблизительно так: Выводите машину хозяина! (Но мне-то дела нет ни до хозяина, ни до его машины, ни до приказа!)» 73.
Отдавая должное примеру и вполне соглашаясь с комментарием, добавим один существенный момент, которого, как нам кажется, недостает в толковании последней фразы: «Но мне-то дела нет ни до хозяина, ни до его машины, ни до этого приказа, — а вы свои парни» (отношение к адресату). Если при этом предположить, что фраза произнесена со специфическим корсиканским, пикардским, нормандским или каким-либо еще акцентом, то к толкованию надо добавить еще один пункт: говорящий — корсиканец (пикардиец, нормандец и т.д.).
Итак, три высказывания вполне идентичны по своему номинативному и эксплицитному коммуникативному содержанию (иллокуции) и при этом существенно различны с точки зрения коннотативной информации, которую они несут. Очевидно, что эти различия определяются только стилем выражения — тем, что одно и то же содержание передано в них различными словами, что и делает пример столь ценным для нас. Надо отметить, что примеры такого рода встречаются нечасто и, как правило, носят несколько искусственный характер — ведь изменение коммуникативной ситуации, о которой свидетельствует изменение стиля выражения, в принципе должно было бы повлечь за собой и изменение стиля содержания. Здесь же этого нет, и, более того, все три высказывания построены строго по одной синтаксической схеме: Vimper S de S. Следовательно, разница в стилистической информации, которую несет каждый из вариантов, возникает только за счет того, что синтаксические позиции модели заполнены разными лексемами: avancer — sortir — amener; l'automobile — la voiture — la bagnole; le patron — le chef — le singe. Из этого можно сделать вывод, что каждое из слов любой из этих «троек» несет хотя бы какую-то часть той стилистической информации, которую выражает содержащая его фраза, и по этому признаку противопоставляется своим синонимам из других фраз. Точнее говоря, факт наименования данного понятия именно данным словом несет какие-то сведения о коммуникативной ситуации или о том, как ее представляет себе адресант.
Из девяти лексически полнозначных слов, составляющих три фразы примера, этим свойством в наибольшей степени обладают le singe — (в значении 'хозяин'), la bagnole, amener (в применении к машине и вообще к предмету, а не к лицу или животному) и l'automobile. Так, например, le singe, употребленное в этом значении, сигнализирует, что: 1) субъект речи — вероятнее всего рабочий; 2) он относится к хозяину без особого почтения и без любви; 3) общение происходит в неофициальной обстановке субъект рассматривает адресата как «своего». Относительно 1а bagnole и amener можно с уверенностью утверждать только последнее, а именно, что общение происходит в неофициальной обстановке, a automobile предполагает прямо противоположное — официальность, даже некоторую торжественность речи.
Свойство отдельно взятой языковой единицы нести какие-то элементы стилистического содержания речи при употреблении ее в определенном предметно-логическом значении или в определенной строевой функции и является, очевидно, тем понятием, которое должно лечь в основу всех построений лингвистической стилистики. Мы назовем это свойство стилистическим значением языковой единицы и определим его как дополнительное интуитивно воспринимаемое созначение, реализующееся в речи при выборе данной единицы из ряда денотативно равнозначных (функционально эквивалентных) для выражения определенного предметно-понятийного содержания или выполнения определенной строевой функции. Стилистическое значение несет те или иные элементы информации о ситуации общения — о принадлежности адресанта к определенной социальной или территориальной группе о его отношении к адресату и к предмету сообщения, а также о широком и нечетко очерченном классе жанров, к которому может принадлежать сообщение (более определенную информацию о жанре несет стиль сообщения). Непременное условие возникновения стилистического значения нам уже известно (см. выше, § 8) — это наличие у данной языковой единицы синонимов или вариантов, приводящее к возможности и необходимости выбора.
Для того чтобы понять, что представляет собой стилистическое значение с точки зрения семиотической теории, достаточно вспомнить сказанное в § 12 о семиотическом статусе стилистической информации в целом. Стилистическое значение языковой единицы есть значение коннотативное, элементарная клетка плана содержания той коннотативной системы, которая надстраивается над системой данного естественного языка. Именно поэтому оно может и должно лечь в основу лингвистической стилистики: с одной стороны, оно принадлежит пространству коннотаций в котором располагается вся информация, выражаемая стилем, а с другой — тесно связано с естественным языком, поскольку его означающим является знак естественного языка в единстве своего означающего и означаемого, т.е. знак, выступающий как результат выбора данного означающего для номинации данного означаемого. Все это можно изобразить при помощи схемы, которая уже была использована в § 12. Мы представим ее здесь в несколько иной, как мы надеемся, более понятной редакции:
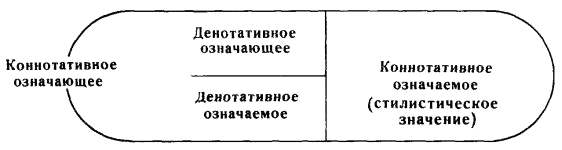
Тому, что мы назвали здесь стилистическим значением и определили как значение коннотативное, в более традиционной терминологии приблизительно соответствует понятие стилистической окраски, которая понимается как часть значения самого слова 74. По поводу слов, наиболее явно вызывающих представление о каких-то речевых ситуациях, — таких, как le singe, la bagnole и amener в приведенном выше примере, говорят, что они стилистически окрашены, и противопоставляют их словам стилистически не окрашенным, нейтральным — таким, как la voiture, sortir, le chef, имея в виду, что эти последние не приурочены ни к какой социальной группе и ни к какому жанру, а также не выражают отношения к адресату и предмету речи. Опираясь на изложенное выше, мы скажем несколько иначе: все слова, вообще все единицы языка, имеющие синонимы либо варианты, которые могут их заменить, обладают стилистическим значением; однако у некоторых, наиболее распространенных и употребительных практически в любых коммуникативных ситуациях, стилистическое значение равно нулю 75.
Таким образом, стилистическое значение языкового знака — это коннотативное означаемое, чьим означающим выступает данный знак как единство денотативного означающего и денотативного означаемого.
Итак, стилистические значения и представляют собой элементарные единицы коннотативного содержания, которое несет стиль сообщения (здесь и далее под словом «стиль» имеется в виду стиль выражения). Отношение коннотативного содержания сообщения 76 к каждому из стилистических значений составляющих его единиц — это отношение целого к части. Сказанное справедливо как для развернутого сообщения, так и для отдельно взятого относительно автономного высказывания. В этом параграфе речь пойдет о соотношении коннотативного содержания высказывания и стилистических значений единиц, составляющих последнее.
Коннотативное содержание высказывания сложнее и богаче, чем образующие его стилистические значения, — эти последние, как мы видели, несут чаще всего лишь какие-то фрагменты информации, выражаемой стилем; разные стилистические значения могут придавать стилю высказывания разные характеристики. Так, мы можем утверждать, что человек, произносящий фразу Amenez la bagnole du singe, — рабочий, только благодаря наличию слова singe; если бы было сказано, допустим, Amenez la bagnole du vieux, то о принадлежности субъекта речи к той или иной социальной группе можно было бы только гадать.
Таким образом, стилистические значения языковых единиц, составляющих высказывание, могут быть и чаще всего бывают разными хотя бы по той причине, что сколько-нибудь развернутое высказывание всегда содержит единицы, обладающие нулевым стилистическим значением. Так, в весьма эмоциональном и фамильярном восклицании Ah, les salauds! Ah, les vaches! Me faire ça à moi! (Queneau) фигурируют слова faire и moi, имеющие, кстати, стилистически окрашенные синонимы. Однако, как правило, эти стилистические значения бывают непротиворечивыми, способными сочетаться друг с другом, что легко объяснимо в свете тех психологических закономерностей, управляющих процессом речевого сообщения, которые мы кратко очертили в предыдущих параграфах. Так, например, искусственно сконструированная фраза Avancez l'automobile du singe! не удовлетворяет этому требованию — она содержит резкий стилистический контраст (automobile — singe) и тем самым как будто отражает внутренне противоречивую позицию субъекта 77. Очевидно, что подобное высказывание может быть порождено только с расчетом на комический эффект.
Вступая во взаимодействие, результатом которого является стилистическое содержание высказывания, стилистические значения влияют друг на друга. Подобно тому, как в лексикологии различают словарные, инвариантные, лексические значения и значения контекстуальные, нам тоже придется различать инвариантные, языковые (в терминологии П. Гиро valeurs stylistiques) и речевые, контекстуальные стилистические значения (effets stylistiques) 78. Инвариантное (внеконтекстное) стилистическое значение потенциально; это значит, что мы формулируем его как своего рода прогноз — говоря, например, что слово type в значении homme принадлежит просторечию, мы имеем в виду, что, как правило, оно употребляется в этом лексическом значении людьми, не владеющими литературной нормой, и, использованное в речи, именно так характеризует говорящего. Однако в каких-то случаях наш прогноз может и не оправдаться — контекстуальное стилистическое значение этого слова может не совпадать с внеконтекстным. В примере Ю.С. Степанова контекстуальные стилистические значения употребленных слов непосредственно реализуют их языковые стилистические значения, valeurs и effets здесь практически совпадают. Однако в сконструированной нами фразе Avancez l'automobile du singe!, если рассматривать ее как ироническую, пародийную, языковые стилистические значения avancer и в особенности automobile переосмысливаются — эти слова выражают уже не официально-почтительное отношение к предмету речи, а насмешку над ним и, как сказано у Л.Н. Толстого, «над тем, кто бы и в самом деле так говорил».
В контексте стилистическое значение языковой единицы может также ослабляться либо, наоборот, усиливаться. Нарушение группового и (или) ролевого (жанрового) узуса, употребление языковой единицы в необычной ситуации или контексте усиливает ее стилистическое значение, придает этой единице особое свойство — экспрессивность (см. ниже, § 46). Наоборот, полное соответствие стиля речи тому, как принято говорить в данном кругу или в данной ситуации, ослабляет или даже полностью нейтрализует для адресата речи стилистические значения составляющих ее единиц, а с ними — и какие-то аспекты стиля. Это касается в первую очередь тех стилистических значений, которые порождаются стратификационной вариативностью. Как пишет П. Гиро, два марсельца, общаясь друг с другом, не осознают того, что разговаривают со специфическим акцентом, — они говорят «как все». Но для присутствующего при разговоре парижанина этот акцент придает их речи характерный марсельский колорит.
Как стилистическое содержание высказывания складывается из стилистических значений составляющих его единиц, так и стиль текста складывается из стилей составляющих его высказываний. Однако если стиль высказывания (фразы) чаще всего — в повседневной речевой практике во всяком случае — бывает един и непротиворечив, то стиль сколько-нибудь протяженного текста, в особенности художественного, представляет собой изменчивую, динамическую его характеристику 79. Это легко объяснимо: позиция субъекта речи в процессе порождения текста может меняться, если она не жестко задана ролью с начала и до конца.
Покажем это на примере сонета Бодлера «Recueillement».
Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir; il descend; le voici:
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci.
Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici,
Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant;
Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.
Мы не будем подробно разбирать это стихотворение — анализ поэтических текстов вообще не входит в нашу задачу. Но и без анализа внимательный читатель ощущает, что стиль второй строфы существенно отличается от стиля первой. В первой строфе и в четвертом стихе второй господствует естественная, разговорная, интимная интонация: Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille — так обращаются к ребенку (sage здесь значит не «мудрый», а «послушный»; sois sage — «веди себя хорошо»). Во второй же строфе 80 — высокая обличительная патетика, воплощенная в сложной метафорической перифразе и подчеркнутая так называемой поэтической инверсией.
Используя нашу отнюдь не поэтическую терминологию, мы можем сказать: изменился предмет речи и в соответствии с этим изменилась позиция субъекта.
Конечно, такой анализ отнюдь не исчерпывает поэтического содержания текста, но при этом и не противоречит ему. Поэтический текст — тоже текст и подчиняется общим закономерностям, о которых сейчас идет речь. Гораздо опаснее, когда анализ поэтического текста игнорирует эти закономерности.
На вопрос, вынесенный в заглавие этого параграфа, можно ответить очень коротко: все. Стилистику нельзя связывать только с лексикой 81; стилистическое значение может иметь единица любого уровня языка — слово, устойчивое словосочетание, грамматическая форма, синтаксическая конструкция, произносительный вариант фонемы, интонационный рисунок фразы, — при условии, что есть хотя бы еще одна форма (означающее), узуально способная выразить то же значение (означаемое). Так, например, во французском языке, как всем известно, некоторые непереходные глаголы (aller, venir, sortir, naître, mourir и др.), а также все местоименные глаголы спрягаются с глаголом être; однако в живой народной речи можно встретить такие высказывания, как J'ai venu u Je m'ai sauvé. Такие формы образования составных времен этих глаголов расцениваются как просторечные. «Просторечность» — стилистическое значение.
Первостепенную важность имеют стилистические значения синтаксических конструкций — как мы увидим в дальнейшем, именно они составляют основу стиля. По выражению П. Гиро, «si le lexique est la chair du style, la structure de la phrase en est l'âme» 82.
В частности, именно синтаксис прежде всего отличает письменную речь от устной; особый, предельно осложненный синтаксис составляет важнейшую черту как научных, так и административно-деловых жанров (ср. приведенный выше отрывок из уголовного кодекса). В то же время специфический аффективный синтаксис является важнейшим средством выражения эмоций (см. главу VI).
В этом — основа автономии стилистики как лингвистической дисциплины. В самом деле, если бы стилистическими значениями обладали только лексические единицы, то стилистика языка оказалась бы излишней: стилистические значения слов и фразеологизмов можно было бы описывать в лексикологии как дополнительные компоненты их предметно-логических значений (что, кстати, и делается во многих учебниках). Собственно говоря, и при существующем положении вещей стилистику можно было бы разбить, как это нередко предлагают 83, на четыре раздела: стилистику лексикологическую, фонетическую (фоностилистику), морфологическую, синтаксическую — и включить каждый из этих разделов в соответствующую дисциплину.
Однако, как справедливо указывает Ю.С. Степанов 84, при таком подходе мы лишили бы наш объект внутренне присущего ему единства: ведь стиль высказывания образуется в результате взаимодействия стилистических значений единиц разного уровня, а сами эти единицы — слова, грамматические формы, синтаксические конструкции, произносительные варианты — обладают либо одинаковыми, либо сходными, во всяком случае сопоставимыми стилистическими значениями. Мы только что убедились в том, что грамматическая форма (способ образования сложного времени глагола) может быть просторечной; но просторечным может быть и слово (например, lambin = lent; cinglé = fou), и синтаксическая конструкция (le type que j'en ai causé = l'homme dont j'ai parlé), и произносительный вариант фонемы или целого слова ([ptεt] = peut-être).
Иначе говоря, план содержания различных «стилистических знаков» един, и в этом единстве их плана содержания — основа единства и автономии стилистики.
Конечно, научный анализ всегда выделяет отдельные стороны и свойства вещей и явлений, расчленяет то, что в действительности неразрывно связано; поэтому стилистические ресурсы лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики можно рассматривать и по отдельности, но на единой основе, не забывая, что все это разные стороны одного и того же — стилистической системы языка.
Кроме того, возможен и иной подход, более отвечающий природе объекта. О нем будет сказано ниже.
Роль, которую играет стиль речи в реальном общении людей, определяет и значение стилистики для преподавания иностранных языков в школе и в вузе. Стиль — неотъемлемое свойство речи, связанное с основными психологическими законами человеческого общения. Речь всегда социально и психологически детерминирована, всегда выполняет определенную социально-психологическую задачу и строится в соответствии с ней. Игнорировать этот факт, заставлять учащегося говорить «не своим голосом», использовать способы выражения, не соответствующие занимаемой им позиции и его личностным свойствам, — это значит совершать насилие над личностью, разрывать сложную цепь психологических и лингвистических зависимостей, связывающую речевое сообщение с личностными и социальными мотивами речевой деятельности, т.е. лишать иноязычную речь всякого интереса и смысла в глазах учащегося.
Современная методика преподавания устной речи оправданно отводит значительное место ситуативным упражнениям, ролевой игре. Этим она стремится сделать речь учащихся психологически мотивированной, добиться того, чтобы они говорили не только потому, что иначе не научишься, но и потому, что у них есть потребность что-то сказать. Однако для того чтобы учащийся мог играть роль естественно, увлеченно, эмоционально — как говорится, «по Станиславскому» — ему надо дать не только интересную роль, но и реальные языковые возможности ее сыграть, т.е. средства выражения, стилистически адекватные роли или, по крайней мере, не противоречащие ей.
Это необходимо не только и не столько для того, чтобы получить полноценную «речевую продукцию», сколько для того, чтобы создать оптимальные психологические условия для говорения на иностранном языке, обеспечить «вхождение в роль». Потому что, если учащийся заранее и не знает, как именно надо говорить на данном языке в данной ситуации, он тем не менее ощущает, как не надо говорить, если его собственный опыт или речевые образцы (тексты из учебника и т.п.) подсказывают ему стилистически неадекватные речевые средства. По той простой причине, что самые общие, глубинные законы стилистики таких европейских языков, как русский, французский, английский, немецкий, испанский и многие другие, в целом едины, учащийся, даже начинающий, остро чувствует стилистическую фальшь; она затормаживает его речевую деятельность, человек не получает от нее внутреннего удовлетворения, не находит себя в своих словах, — и играть становится неинтересно.
Не следует думать, что добиться речи, стилистически адекватной ролевой ситуации, можно только на продвинутых этапах обучения, — все зависит от того, какие роли предлагать и какой степени адекватности добиваться. Конечно, для того чтобы предложить учащемуся роль адвоката в суде или роль политического деятеля, дающего пресс-конференцию, его надо снабдить некоторым минимумом специальных терминов и речевых формул, что, видимо, возможно и целесообразно только на старших курсах языкового вуза. Однако те простейшие ситуативные роли, которые мы предлагаем учащимся на начальных ступенях обучения (прохожий, выясняющий, как попасть в такое-то место, покупатель в магазине, клиент в гостинице, участник международной студенческой встречи и т.п.), могут быть сыграны достаточно правдоподобно без введения какой бы то ни было специализированной лексики, — для этого надо только ввести некоторые общераспространненые модели разговорного синтаксиса и не стеснять свободу выражения в угоду ложно истолкованной лингвистической «правильности».
Вообще самое опасное нарушение стилистических законов в преподавании разговорной речи — это подмена конструкций устной эмоциональной речи конструкциями книжными, осознанные или неосознанные попытки ориентировать устную речь учащихся на образцы письменной речи. Необходимо отдавать себе отчет в том, что устный эмоциональный синтаксис — это не какая-то стилистическая «тонкость», которой можно научить «потом», когда так называемый нормативный (т.е. фактически письменный) синтаксис уже усвоен; иначе в лучшем случае учащийся научится говорить вопреки нашим усилиям, а в худшем — не научится вовсе.
Другой аспект обучения иностранным языкам, где стилистика может и должна оказать неоценимую услугу, — это понимание и анализ иноязычных текстов. Ясно, что стилистическая информация является неотъемлемой частью так называемой эстетической информации, смысла в целом, и адекватное восприятие художественного текста немыслимо, если человек не воспринимает стиля. И самое важное здесь состоит даже не в том, чтобы научить людей узнавать и «декодировать» стилистические приемы, характерные именно для художественной речи; главное — это научить воспринимать в тексте то, что основывается на законах стилистики общенародного языка, а именно коннотации речи повествователя и персонажей, возникающие в результате отбора средств выражения. В § 16, разбирая отрывок из романа Сартра «Возраст рассудка», мы видели, что коннотативное содержание романа включает в себя ответ на вопрос, что значит, что автор изображает таких героев, которые действуют и говорят так, а не иначе. Но чтобы ответить на него, надо сначала определить коннотации речи самих персонажей, как если бы они были живыми людьми, а не литературными героями, — с этой части работы мы и начали. Коннотативное содержание всякой речи складывается, как мы знаем, из коннотаций содержания и коннотаций выражения. Вторые без первых не полны, но и первые без вторых не достаточны для того, чтобы охарактеризовать коммуникативный акт и его участников; так, при анализе названного отрывка мы многое потеряли бы, если бы не сумели оценить то, как говорят персонажи, т.е. стиль выражения. В основе же стиля выражения лежат стилистические значения единиц языка — основной предмет лингвистической стилистики.
Одним словом, стилистика — это не роскошь, а лингвистическая дисциплина, изучающая важную и неотъемлемую часть системы языка, без знания которой нельзя и думать о том, чтобы успешно преподавать его.
[1] См., в частности: Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. — М.: Наука, 1980; Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. — Горький: ГГПИИЯ им. Н.А. Добролюбова, 1975; Хованская З.И. Стилистика французского языка. — М.: Высш. школа, 1984; Одинцов В.В. Стилистика текста. — М.: Наука, 1980.
[2] Так, по определению M.H. Кожиной, автора многочисленных работ по стилистике русского языка, основной предмет стилистики — это «закономерности употребления языка в разных сферах и ситуациях общения и своеобразная организация речи, специфичная для каждой сферы» (Кожина M.H. Стилистика русского языка. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1983. — С. 19). См. также: Васильева А.Н. Функциональное направление в лингвостилистике и его значение в преподавании русского языка как иностранного: Дис. докт. филол. наук. — М., 1981. — С. 16; Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. — М.: Высш. школа, 1982. — С. 10; Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. —2-е изд. — Л.: Просвещение, 1981. — С. 12.
[3] Гальперин И.Р. Проблемы лингвостилистики // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1980. — Вып. IX. — С. 5.
[4] Хендрикс У. Стиль и лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1980. — Вып. IX. — С. 178. См. также: Sumpf J. Introduction à la stylistique du français. — P.: Larousse, 1971; Guiraud P. Essais de stylistique. — P.: Klinicksieck, 1969; Riffatterre M. Essais de stylistique structurale — P.: Flammarion, 1971.
[5] Скребнев Ю.M. Цит. соч. — С. 12.
[6] См.: Винокур Т.Г. Цит. соч.; Арнольд И.В. Цит. соч.
[7] Степанов Ю.С. Французская стилистика. — М.: Высш. школа, 1965.
[8] Михель Г. Основы теории стиля // Новое в зарубежной стилистике. — М.: Прогресс, 1980 — Вып. IX. — С. 274.
[9] Словарь Ройма дает 106 возможных определений к термину style (Reum А. Petit Dictionnaire de style. — Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1953. — P. 562-563).
[10] Guiraud P. La stylistique // Coll. Que sais-je? — P.; PUF, 1963. — P. 6.
[11] Сходную идею высказывает чешский лингвист К. Гаузенблас, который определяет стиль в самом общем смысле этого слова как «определенный способ протекания целенаправленной деятельности, который предусматривает специфику и структуру этой деятельности». (Цит. по: Винокур Т.Г. О содержании некоторых стилистических понятий. // Стилистические исследования. — М.: Наука' 1972. — С. 9; ср.: Кожина M.H. Цит. соч. — С. 44.)
[12] Скребнев Ю.М. Цит. соч. — С. 51.
[13] Р. Харвег говорит по этому поводу о двух «вариантах понятия стиля>, один из которых определяется типологически, а второй — топологически: «Типологически определенный означает определенный на основе признаков, а топологически определенный — определенный на основе мест, в которых встречается тот или иной стиль, т.е. таких мест реализации, как одно или все произведения какого-либо автора, как тот или иной публицистический орган, литературный жанр или литературная эпоха» (Харвег Р. Стилистика и грамматика текста // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1980. — Вып. IX. — С. 213). С этой точки зрения топологически определенными будут сочетания «Стиль «Госпожи Бовари» и стиль Флобера, а типологически определенными — «готический стиль», «романтический стиль» и др., хотя вопрос этот не поддается строго однозначному решению. Мы к нему еще вернемся в главе II.
[14] Ср.: «Если можно говорить о «стиле реализма», о «стиле романтизма», так же как о «стиле такого-то писателя-реалиста», о «стиле такого-то писателя-романтика», хотя особенности стиля этих писателей не полностью соответствуют нашему представлению о реализме или романтизме, то это, по-видимому, потому, что понятия «реализм», «романтизм» являются абстракцией, основанной на реальных текстах, демонстрируемой этими текстами, но, конечно, не сводимой к какому-либо из них» (Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. — М.: Наука, 1977. — С. 44).
[15] В еще большей степени обладает знаковой функцией традиционный народный костюм (по крайней мере, в некоторых культурах): «Народный костюм является одновременно вещью и знаком, точнее говоря, носителем знаковой структуры. Костюм указывает на принадлежность к определенному слою, на национальность, вероисповедание, экономическое положение его владельца, возраст владельца и т.п.» (Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве // Труды по знаковым системам: Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. — Тарту 1975 — Вып VII. — С. 7).
[16] Степанов Ю.С. Семиотика. — М.: Наука, 1971. — С. 83, 94.
[17] Действие романа А. Лану «Майор Ватрен», из которого заимствован пример, происходит во время второй мировой войны, но об этом мы узнаем из более широкого контекста.
[18] На понятии социальной роли мы подробнее остановимся ниже, в § 11.
[19] Васин Е.А., Краснов В.М. Социальный символизм // Вопросы философии. — 1971. —№ 10, — С. 164.
[20] Там же. — С. 166.
[21] Васин Е.А., Краснов В.М. Цит. соч. — С. 166—167.
[22] Эти вопросы достаточно подробно рассматриваются — хотя и под иным углом зрения — в книге: Долинин К.А. Интерпретация текста. — М.: Просвещение, 1985. Однако, поскольку курс стилистики предшествует курсу интерпретации текста, мы воспроизводим здесь соответствующий раздел в несколько измененной редакции.
[23] См.: Основы теории речевой деятельности. — М.: Наука, 1974, — С. 25.
[24] См.: Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974. — С. 26.
[25] Ван Дейк Т.А. Вопросы прагматики текста // Новое и зарубежной лингвистике — М.: Прогресс, 1978. — Вып. VIII. — С. 293.
[26] Напомним, что референтом в языкознании и в семиотике именуется объект реального мира, к которому отсылает знак.
[27] См.: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. — М.: Высш. школа, 1986. — С. 56—59 и 101 — 139; Долинин К.А. Цит. соч. — С. 27—35.
[28] Об иллокутивной функции высказывания см.: Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1986. — Вып. XVII.
[29] В некоторых коммуникативных ситуациях (человек пишет дневник или разговаривает сам с собой) в качестве адресата выступает сам адресант, но и тогда адресант и адресат не тождественны, потому что человек, выступающий в роли адресата собственной речи, всегда как бы раздваивается.
[30] См. об этом: Леонтьев А.А. Психология общения. — Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1974. — С. 187 и сл., а также: Maingueneau D. Initiation aux méthodes de l'analyse du discours: Problèmes et perspectives. — P.: Hachette, 1976. — P. 143—144.
[31] Вводимое нами понятие деятельностной ситуации в общем соответствует модели прошлого — настоящего и модели будущего, которые используются в психологии и психолингвистике (см., например: Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. — М.: Наука, 1969 — С. 146—153).
[32] См.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». — М.: Прогресс, 1975. — С. 198.
[33] См.: Пиотровский Р.Г., Рахубо Н.П., Хажинская М.С. Системное исследование лексики научного текста. — Кишинев: Штиинца, 1981.
[34] См.: Балли Ш. Французская стилистика: Пер. с франц. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1961. — С. 119—120, 122.
[35] Guiraud R. Essais de stylistique. — P.: Klincksieck, 1969. — P. 60.
[36] Помимо названной работы П. Гиро, см., в частности: Хендрикс У. Цит. соч.; Винокур Т.Г. Цит. соч.; Арнольд И.В. Цит. соч.; Marouseau S. Précis de stylistique française. — P.: Masson, 1959.
[37] Долинин К.А. Стилистика французского языка. — Л.: Просвещение, 1978. — С. 19—20.
[38] То, что прямо не сказано, но подразумевается, составляет так называемое имплицитное содержание высказывания. Об имплицитном содержании высказывания см.: Todorov T. Symbolisme et interprétation, — P.: Ed. du Seuil, 1979, a также: Долинин К.A. Интерпретация текста, гл. I.
[39] Впрочем, в последнее время сходные идеи начинают высказывать и лингвисты (см., например: Хованская З.И. Цит. соч. — С. 35—37).
[40] См.: Эпштейн M.H. Аналитизм и полифонизм во французской прозе (стили Стендаля и Бальзака) // Типология стилевого развития XIX века — M.: Наука, 1977. — С. 237—238, 252—253.
[41] Б.X. Бгажноков обозначает это понятие термином «стиль общения» (см.: Бгажноков Б.X. К определению понятия «стиль общения» // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. — М.: АН СССР, 1975—4.2. — С. 229-231.
[42] Эти проблемы составляют основной предмет нашего пособия «Интерпретация текста», хотя сам термин «стиль в широком смысле слова» там не употребляется — для обозначения информации, которую несет стиль в широком смысле слова, там используется выражение «общий коммуникативный подтекст».
[43] Ср.: Степанов Ю.С. Французская стилистика, — С. 21; Кристал Д. и Дейви Д. Стилистический анализ // Новое в зарубежной лингвистике. — М.: Прогресс, 1980. — Вып. IX; Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. — С. 41—53; Marouzeau J. Op. cit. — P. 14-15.
[44] Ср.: Основы теории речевой деятельности. — С. 15—16.
[45] См.: Долинин К.А. Интерпретация текста. — С. 19—22.
[46] Этот параграф воспроизводит с небольшими изменениями содержание § 20 и 21 «Интерпретации текста».
[47] Об общих принципах речевой деятельности см.: Grice H.P. Logic and conversation // Syntax and Semantics. — N. Y.: Acad. Press, 1975. — Vol. 3; Долинин К.A. Интерпретация текста. — С. 42—43.
[48] Основы теории речевой деятельности. — С. 305.
[49] Кон И.С. Социология личности. — М.: Наука, 1967. — С. 23.
[50] Основы теории речевой деятельности. — С. 306.
[51] См.: Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. — Л., 1929. — С. 115—116.
[52] Основы теории речевой деятельности. — С. 307.
[53] Ср.: Национально-культурная специфика речевого поведения. — М.: Наука, 1977. — С. 48—50.
[54] Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. — М.: Изд-во МГУ, 1976. — С. 221.
[55] Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика; Составление, вступительная статья и общая редакция Ю.С. Степанова. — М.: Радуга, 1983. — С. 70—71.
[56] См.: Степанов Ю.С. Семиотика. — М.: Наука, 1971. — С. 21.
[57] Барт. Р. Основы семиологии // Структурализм «за» и «против» // Сборник статей. — М.: Прогресс, 1975. — С. 157; см. также: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка//Новое в лингвистике. — М.: Прогресс, 1960. — Вып. I — С. 368—373.
[58] Барт. Р. Цит. соч. — С. 158.
[59] См.: Степанов Ю.С. Семиотика. — С. 21, 91—97.
[60] Напомним, однако, что вывод, который делает интерпретатор, касается, строго говоря, не объективных условий общения, а их субъективного отражения в психике адресанта (об этом уже говорилось в § 11).
[61] M.H. Кожина рассматривает это явление как частный случай олицетворения — тенденции, вообще свойственной, по ее мнению, языку газеты: см.: Кожина M.H. Цит. соч. — С. 192.
[62] См. об этом: Одинцов В.В. Стилистика текста. — М.: Наука, 1980.
[63] Из текста были исключены авторские ремарки типа «Brunet lui posa la main sur l'épaule.»
[64] В дальнейшем мы увидим, что в неподготовленной заранее устной речи запинки говорящего вовсе необязательно свидетельствуют о его замешательстве, желании что-то скрыть и т.п. Но в литературном тексте они, как правило, значимы (см. об этом: Долинин К.А. Интерпретация текста. — С. 254—255).
[65] Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. — С. 131.
[66] Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. — М.: Наука, 1983. — С. 18. А.Д. Швейцер не включает в понятие стратификационной вариативности различия между территориальными диалектами; однако в указанном отношении территориально обусловленные свойства речи индивида вполне подобны тем, которые отражают его социальное происхождение, в силу чего стратификационную вариативность можно также назвать диалектной, имея в виду как социальную, так и территориальную ее обусловленность.
[67] См.: Швейцер А.Д. Цит. соч. — С. 133.
[68] См. об этом: Гамперц Дж. Дж. Типы языковых обществ // Новое в лингвистике. — М.: Прогресс, 1975. — Вып. VII: Социолингвистика. — С. 188; Гамперц Дж. Дж. Об этнографическом аспекте языковых изменений. Там же. — С. 315—316; Швейцер А.Д. Цит. соч. — С. 197—201.
[69] См.: Балли Ш. Цит. соч. — С. 256.
[70] См.: Основы теории речевой деятельности. — С. 307. Там же приводится показательный в этом отношении пример: «На обращенный к покойному вице-президенту АН СССР И.П. Бардину вопрос В.Г. Костомарова, как он говорит: километр или километр? — был получен такой ответ: «Когда как. На заседании президиума Академии — километр, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно, километр, а то подумают, что зазнался Бардин».
[71] Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. — М.: Прогресс, 1975. — Вып. VIII: Социолингвистика. — С. 153.
[72] Степанов Ю.С. Французская стилистика. — С. 21.
[73] Степанов Ю.С. Французская стилистика. — С. 23.
[74] См., например: Хованская З.И. Цит. соч. — С. 96—176. Уязвимость этой концепции проявляется в том, что, рассматривая стилистическую окраску как «неотъемлемую часть семантической структуры наименования», ее сторонники оказываются не в состоянии объяснить стилистическую значимость некоторых грамматических форм (типа «хочут»), синтаксических конструкций и произносительных вариантов (см. ниже, § 22).
[75] Ср.: Скребнев Ю.М. Цит. соч. — С. 22—23, 37.
[76] Здесь и далее, говоря о коннотативном или стилистическом содержании сообщения, мы имеем в виду лишь ту его часть, которую несет стиль выражения.
[77] Несколько иначе — как «формальное проявление языковой некомпетентности отправителя речи» — трактует такие стилистические контрасты Ю.М. Скребнев (с. 138—139).
[78] Аналогичное разграничение вводится Т.Г. Винокур (См.: Винокур Т.Г. Цит. соч. — С. 52, 57). О зависимости речевого стилистического значения от контекста см. также: Арнольд И.В. Цит. соч. — С. 8; Скребнев Ю.М. Цит. соч. — С. 136—138.
[79] Об этом см. также: Степанов Ю.С. Французская стилистика. —§ 12, — С. 27—30; Винокур Т.Г. Цит. соч. — С. 29; Петрищева Е.Ф. Стиль и стилистические средства//Стилистические исследования. — М.: Наука 1972 — С. 122—124.
[80] В переводе П. Якубовича она звучит так:
Но пусть толпа невежд под плетью наслажденья,
На рабском празднике, в забвении тупом
Проводит эту ночь и копит угрызенья
На совести своей ... Уйдем от них, уйдем!..
[81] Ср.: Скребнев Ю.М. Цит. соч. — С. 9—10.
[82] Guiraud P. La stylistique. — P. 61.
[83] См., например: Пиотровский Р.Г. Цит. соч. Арнольд И.В. Цит. соч.; Guiraud P. La stylistique.
[84] Степанов Ю.С. Французская стилистика. — С. 48—50 (§ 22).
В предыдущей главе мы определили некоторые основные понятия лингвистической стилистики, а именно:
В зависимости от того, какие из этих понятий или даже какой аспект того или иного из них ставится во главу угла, в современной стилистике выделяется несколько направлений или, по существу, несколько стилистик, поскольку представители каждого из них, нередко считают, что именно то направление, которым они нанимаются, и является «настоящей» стилистикой. Таких направлений, именующих себя стилистиками, всего четыре 1:
Кроме того, со стилистикой (в особенности со стилистиками 1 и 2) тесно соприкасается, а иногда и пересекается социолингвистика, занимающаяся социально-групповыми вариантами общенародного языка.
Рассмотрим несколько подробнее каждое из этих направлений или «стилистик».
Как только что было сказано, эта стилистика занимается инвариантными стилистическими значениями языковых единиц. П. Гиро, называя стилистику языка в числе прочих стилистик, определяет ее следующим образом: «Une stylistique descriptive (en langue) qui est un inventaire des valeurs stylistiques de la langue (commune) et, par conséquent, des moyens que celle-ci offre au choix de l'écrivain, en vue d'effets particuliers dans le texte» 2.
В этом определении есть одна неточность. В свое время Ш. Балли категорически отрицал за стилистикой право и обязанность заниматься художественной речью и присущими ей средствами; здесь Гиро как будто впадает в противоположную крайность – подчиняет изучение выразительных средств языка задаче исследования художественной речи. Следовало бы сказать: «... un inventaire des valeurs stylistiques de la langue et, par conséquent, des moyens que celle-ci offre au choix de l'usager».
Таким образом, описательная стилистика (стилистика 1) занимается стилистическими ресурсами того или иного естественного языка. Ее проблематика в основном сводится к следующему вопросу: как в данном языке можно выразить то или иное предметно-логическое содержание, т.е. каков тот выбор, который язык предоставляет в этом отношении говорящему (пишущему) и, главное, каковы стилистические значения каждого из узуальных способов выражения этого содержания?
Так, например, отвечая на вопрос, как в современном французском языке может быть выражено понятие «автомобиль», мы должны были бы, во-первых, составить список синонимов: voiture, automobile, véhicule, auto, quimbarde, tacot, bagnole и т.д., – а затем описать вне-контекстное стилистическое значение каждого. Здесь следовало бы указать, что voitire обладает нулевым стилистическим значением, – это самое употребительное слово ряда, уместное практически в любом контексте и в любой ситуации общения; что automobile – более официальное, книжное слово, а véhicule – тоже книжное, но при этом еще и специфически административное, т.е. употребительное преимущественно в текстах этого жанра 3 – и т.д. и т.п. (вопросу о видах стилистических значений, об их компонентах и способах их описания специально посвящена глава III).
Очевидно, что полным описанием стилистических ресурсов того или иного языка мог бы стать особым образом построенный синонимический словарь, который, во-первых, включал бы не только слова и фразеологизмы, но и единицы других уровней языка, обладающие стилистическим значением (см. § 19), а во-вторых, точно и единообразно описывал бы стилистические значения, присущие каждому синониму или варианту.
Имеющиеся в настоящее время специальные синонимические словари французского языка, как и словари общего типа, отражающие явление синонимии, ни тому, ни другому требованию не удовлетворяют. Тем не менее полезные, хотя и не всегда точные сведения относительно стилистических значений лексических единиц в них обнаружить, безусловно, можно.
Однако в описательной стилистике возможен и иной подход: не от форм к стилистическим значениям, а от значений к формам: каковы основные, исходные стилистические, значения, типичные для данного языка, и как они в нем выражаются? На практике, в большинстве исследований, начиная со стилистики Ш. Балли, используются оба подхода: и от форм к стилистическим значениям, и от стилистических значений к формам.
В компетенцию стилистики языка входят и общетеоретические проблемы, как те, которые были обсуждены в первой главе, так и некоторые другие, в частности, проблема образного (метафорического) употребления лексических единиц, которую мы рассмотрим ниже.
Первой и основополагающей работой по стилистике языка является уже неоднократно упомянутая книга швейцарского лингвиста Шарля Балли 4. Балли впервые легко сформулировал такие понятия, как множественность им разительных средств и стилистическая окраска (в нашей терминологии – стилистическое значение); последнюю он рассматривал прежде всего как несущую аффективное содержание выражаемой мысли и называл caractère affectif. Аффективную, или стилистическую, окраску он подразделял на effet naturels (в русском переводе «собственная эмоциональная окраска») и effet par évocation d’un milieu (в переводе «социальная окраска»); однако и вторую он сводил к эмоциональности, утверждая, что она выражает особые чувства – чувства социальные. В целом Балли определял предмет стилистики следующим образом: «La stylistique étudie les faits d'expression du langage du point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de langage sur la sensibilité» 5.
Такое сведение содержательной стороны стиля к аффективному содержанию вряд ли правомерно, как это было неоднократно отмечено впоследствии. Можно предположить, что Балли смешал способ восприятия стилистических значений и их содержание, – из того, что стилистические значения и стиль воспринимаются не рассудочно, а интуитивно, он сделал вывод, что они выражают чувства. Но, как бы то ни было, книга Балли во многом определила пути развития не только французской, но и мировой стилистики.
Из общих работ по стилистике языка, вышедших во Франции после Балли, наиболее известны книги Ж. Марузо и М. Крессо 6. Однако, как и авторы многих работ, посвященных более частным проблемам описательной стилистики (например, таким, как стилистические ресурсы синтаксиса) 7, Марузо и Крессо рассматривают стилистические ресурсы языка в первую очередь с точки зрения их использования в художественной литературе, что является не вполне оправданным сужением поля исследования.
Эта же особенность характеризует и некоторые вышедшие в Советском Союзе общие работы по стилистике – «Стилистику современного французского языка» М.К. Морен и Н.Н. Тетеревниковой, «Очерки по стилистике английского языка» И.Р. Гальперина, «Очерки по стилистике французского языка» Р.Г. Пиотровского – в той мере, в какой они относятся к описательной, а не к функциональной стилистике, поскольку в них использованы и тот, и другой подход. Так, книга М.К. Морен и Н.Н. Тетеревниковой состоит из двух частей: «Речевые стили современного французского языка» и «Стилистическая характеристика лексических и грамматических средств современного французского языка», причем вторая трактует преимущественно о стилистических эффектах различных классов слов и конструкций в художественной речи. Так же ориентирована и книга Р.Г. Пиотровского. При этом внеконтекстное стилистическое значение нередко подменяется контекстуальным, точнее художественным эффектом, который именуется «стилистическим использованием» или «стилистической функцией».
В целом стилистика языка (и в частности стилистика французского языка) еще ждет своего осмысления и систематического изложения, которое учитывало бы данные не только современной лингвистики, но и смежных наук – социальной психологии и психолингвистики.
Разработка стилистики языка тем более необходима, что стилистика индивидуальной речи и сопоставительная стилистика находят в ней (или должны находить) свою естественную основу и опору. Как пишет П. Гиро, «si on rejette l’idée d’une norme et celle de valeurs stylistiques en puissance dans la langue, comment identifier l’effet de style?» 8 И далее: «C'est par une connaissance plus fine, plus cohérente des pouvoirs de la langue qi accédera à une compréhension plus riche des effets du cours» 9.
В отличие от стилистики языка (стилистики 1), отвечающей на вопрос, каковы стилистические значения (включая, естественно, и жанровую прикрепленность) существующих в языке различных способов выразить данное содержание, функциональная стилистика (стилистика 2) изучает «принципы отбора и использования языковых средств для выражения определенного содержания в различных условиях общения» 10. Иными словами, эта стилистика отвечает на вопрос, как говорят или пишут, т.е. какие средства из числа существующих в языке выбирают н различных сферах общения, характеризующихся определенной тематикой и определенной функцией. Как пишут научные тексты, как – административно-деловые, как разговаривают в деловой или в бытовой обстановке и т.п.
Исходным понятием этой стилистики является понятие функционального стиля. Большинство существующих толкований этого понятия так или иначе основывается на определении, данном в 1955 году академиком В.В. Виноградовым: «Стиль – это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общественного, общенационального ' языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа» 11.
Приведем также определение Ю.С. Степанова: «Функциональный стиль – это исторически сложившаяся, осознанная обществом подсистема внутри системы общенародного языка, закрепленная за теми или иными ситуациями общения (типичными речевыми ситуациями) и характеризующаяся набором средств... выражения и скрытым за ними принципом отбора этих средств из общенародного языка» 12.
Существует и несколько иное (но не противоречащее первому) толкование функционального стиля, опирающееся не на разграничение сфер или ситуаций общения, а на основные функции языка. Оно тоже связано с именем В.В. Виноградова, который в одной из своих более поздних работ писал: «При выделении таких важнейших общественных функций языка, как общение, сообщение и воздействие, могли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: обиходно-бытовой (функция общения); обиходно-деловой, официально-документальный и научный (функция сообщения); публицистический и художественно-беллетристический (функция воздействия)» 13.
Нетрудно заметить, что функциональные стили, выделяемые по сфере (ситуации) и (или) функции общения, непосредственно соотносятся с тем, что мы определили в первой главе как жанровый, или, что то же самое, ролевой компонент стиля (см. § 9). Функциональные стили – это не что иное, как обобщенные речевые жанры, т.е. речевые нормы построения определенных, достаточно широких классов текстов, в которых воплощаются обобщенные социальные роли – такие, как ученый, администратор, поэт, политик, журналист и т.п. 14 Эти нормы – как и всякие нормы ролевого поведения – определяются ролевыми ожиданиями и ролевыми предписаниями, которые общество предъявляет к говорящим (пишущим). Субъект речи (автор) знает, что тексты такого рода, преследующие такую цель, надо строить так, а не иначе, и знает, что другие (читатели, слушатели) ждут от него именно такого речевого поведения; в некоторых же случаях стилевые нормы прямо формулируются в специальных руководствах типа «Язык газеты» или «Le français commercial».
По поводу функциональных стилей часто говорят и пишут, что они выделяются, складываются и развиваются как общепринятые способы выражения в силу своей функциональной целесообразности, т.е. внутренней адекватности, соответствия данных способов выражения тому содержанию, которое надлежит передать в рамках той или иной сферы деятельности (общения). Научному стилю, например, свойственен особый словарь (научная терминология), усложненный синтаксис, безличная форма выражения и некоторые другие черты только потому, что иначе, как часто считается, научное содержание не могло бы быть адекватно выражено. В этом, как иногда утверждают, raison d’être, основной смысл существования научного и других функциональных стилей 15.
Действительно, без специальных терминов научный текст не напишешь, и усложненный синтаксис, как мы видим в дальнейшем, тоже выполняет определенную инструментальную функцию. Однако как часто приходится сталкиваться со злоупотреблениями тем и другим! Не свидетельствует ли это о том, что, наряду с инструментальными функциями, как специальная терминология, как и усложненный синтаксис играют символическую роль: сигнализируют жанр, ориентируют читателя? Причем в некоторых функциональных стилях – таких, как газетно-информационный, публицистический, административный, – специфические черты стиля выполняют, видимо, I) значительно большей степени символическую функцию, чем инструментальную (ср. § 9).
Вообще специфика ни одного функционального стиля не может быть целиком выведена – хотя бы исторически – из специфики содержания. Почему-то раньше – в Древнем Риме, в XVII веке во Франции и в других европейских странах, в XVIII веке в России – научные трактаты нередко писали в стихах 16; широко распространен была также форма научного диалога; и нельзя назвать пожалуй, ни одной веской причины, связанной со спецификой научного содержания, которая могла бы помешать использованию этой формы в настоящее время 17.
Видимо, дело в том, что функциональные стили и вообще речевые жанры отражают не только и, может быть, не столько специфику коммуникативной деятельности которую они обслуживают, сколько традиционное представление о данного рода деятельности, сложившееся в данной культуре, ее (деятельности) социальный ста тут, – т.е. как на нее смотрят в обществе, какие требования предъявляют к тем, кто ею занимается – опять-таки ролевые предписания и ролевые ожидания, которые, будучи приняты субъектом, определяют его отношение к себе как исполнителю роли, к адресату речи как ролевом} партнеру и к предмету речи как объекту ролевой деятельности.
Так, например, в наше время ученый, публикующий результаты своих исследований, выступает как глашатай научной истины, обращающийся к неизвестному читателю-коллеге и не заботящийся о «художественности» изложения (последнее и объясняет, в частности, невозможность появления в наше время ученого трактата в стихах).
Вот еще пример такого же рода, но более сложный. Знаменитые писатели XIX века, такие, как Бальзак, Гюго, Золя, руководствовались в своем творчестве традиционным представлением о высокой миссии художника; для них художник – пророк, или, по крайней мере, учитель жизни, носитель истины и красоты, недоступных простым смертным. Отсюда высокая патетика их стиля. Где-то в конце XIX в. во французской литературе начинается пересмотр взглядов на место писателя в обществе, названный кризисом позитивизма и – шире – началом общего кризиса буржуазной идеологии. Чем дальше, тем больше литератор начинает сомневаться в абсолютной ценности литературы, и этот отказ от роли пророка и носителя истины, превращение писателя в собственных глазах (и в глазах части публики) в «просто человека», свидетеля событий, в принципе не обладающего никакими преимуществами перед читателем, приводит к существенному изменению стилистики французского романа: всеведущий и вездесущий повествователь, бог для персонажей и пророк для читателей, все реже и реже появляется на страницах книг, уступая место либо «регистратору», который лишь показывает персонажей, их поступки, слова и мысли, но явно не высказывает своего отношения к ним, либо вымышленному рассказчику-герою (как правило, не писателю!), который излагает пережитое, причем часто нарочито простым, «нелитературным» словом.
На этом можно было бы и закончить разговор о функциональной стилистике и о функциональных стилях, соли бы не одно связанное с ними недоразумение, возникшее в стилистике уже около четверти века назад, но до сих пор еще до конца не преодоленное.
Из всего сказанного в предыдущем параграфе вытекает, что функциональные стили отражают речь, речевой узус (традицию), нормы речевого поведения в определенных социальных ситуациях; следовательно, функциональная стилистика есть стилистика речи. Между тем многие лингвисты без достаточных на то оснований попытались усмотреть в самой системе языка функциональную дифференциацию, которая соответствовала бы разграничению основных сфер и типов человеческой деятельности (т.е. основных классов ролей, реализующихся в речевой деятельности), – а ведь именно на этой основе выделяют функциональные стили. В результате основные, наиболее крупные и часто выделяемые функциональные стили были объявлены принадлежащими языку, а установление системе функциональных стилей и описание их признано важней шей задачей лингвистической стилистики 18, т.е. стилистики языка.
Стилистику языка (стилистику 1) попытались подменить функциональной стилистикой (стилистикой 2), что не пошло на пользу ни той, ни другой, и лишь породило! многочисленные трудности, противоречия и бесконечные, не всегда плодотворные дискуссии.
Лингвисты, отождествлявшие функциональную стилистику со стилистикой языка, опирались – явно или неявно – на понятие социальной окраски (см. выше, § 23), которую стали именовать просто стилистической окраской и рассматривать как «способность языковых средств (слов, выражений, грамматических форм) вызывать представление об обычной, ограниченной определенными рамками, сфере их употребления» 19, т.е. как специфический отпечаток функционального стиля. И если бы стилистическая окраска языковой единицы (то, что мы называли стилистическим значением) сводилась к принадлежности ее к тому или иному функциональному стилю, то изучение функциональных стилей действительно оказалось бы в то же время изучением стилистики языка (второй подход – от стилистических значений к формам, как было указано в § 24). Иначе говоря, если бы дело обстояло так, что, устанавливая совокупности единиц, из которых складываются функциональные стили, мы тем самым получали бы описание стилистических ресурсов языка, списки форм, обладающих одинаковыми стилистическими окрасками, – функциональная стилистика, идущая от ситуативно и функционально обусловленного употребления, сомкнулась бы со стилистикой языка, идущей от внеконтекстного стилистического значения.
Но для этого нужно было бы, чтобы хотя бы большинство единиц, характерных для того или иного функционального стиля, не употреблялись бы или употреблялись существенно реже во всех остальных, т.е. чтобы большинство понятий выражались бы в разных функциональных стилях по-разному. В естественных языках же такое, как известно, не наблюдается – тексты, относимые к тому или иному функциональному стилю, складываются в основном из единиц, которые широко употребляются и в других функциональных стилях и специфического отпечатка этого стиля не несут 20.
С другой стороны, внеконтекстные стилистические значения языковых единиц (даже если вычесть наиболее многочисленные в языке единицы с нулевым стилистическим значением) по функциональным стилям не раскладываются или раскладываются с натяжкой. Ролевые (жанровые) компоненты стилистических значений довольно часто соотносят слово не с одним функциональным стилем, а одновременно с несколькими; такие французские слова, как indélébile (= ineffaçable), préconiser (= recommander), promptement (= vivement), inopiné (= innatendu), châtier (= punir), effecteur (= faire) и многие, многие другие, могут быть охарактеризованы как нерасчлененно книжные. Так, например, глагол chatie может быть употреблен и в трагедии – [Ils] Adorent dans leurs ferm le Dieu qui les châtie. (Racine), – и в газетном заголовке – Châtier les vrais coupables! (Humanité).
С другой стороны, «стилистическая окраска» слова или устойчивого сочетания может соотносить его с какой-то узко специализированной сферой употребления. Так бывает с научными терминами – они нередко вызывают представление не только об определенной дисциплине, но и о конкретной научной школе, в рамках которой они созданы и употребляются. Устойчивые терминологические сочетания structure de surface (поверхностная структура) и structure profonde (глубинная структура) принадлежат не просто лингвистике, но так называемой порождающей грамматике.
Но «стилистическая окраска», понимаемая как соотнесенность с определенным жанром, вообще не исчерпывает стилистического значения языковой единицы – как уже было отмечено и как мы увидим в дальнейшем, последнее складывается, как правило, из нескольких компонентов, в частности, включает в себя эмоциональный или эмоционально-оценочный компонент, который функциональной стилистикой не учитывается.
Все эти факты породили множество трудностей и споров – о так называемой «проницаемости» или «непроницаемости» функциональных стилей, об их языковом или в речевом статуте, о критериях их выделения, об их номенклатуре 21.
Так, например, долго спорили о том, существует ли в современных европейских языках функциональный стиль художественной литературы.
Противники выделения такого функционального стиля утверждали, что современной художественной речи свойственна принципиальная разностильность, «смешение элементов разных речевых стилей национального языка» 22. Ясно, что если толковать функциональные стили как нормы речевого построения текстов различных жанров, то нет никаких препятствий для того, чтобы рассматривать в ряду функциональных стилей и стиль художественной литературы в целом, несмотря на его стилистическую неоднородность, – ведь, как уже было сказано в первой главе, стиль любого текста состоит из различных стилистических значений. И если мы решаем, что функциональный стиль выделяется на основе сферы деятельности, которую он обслуживает, и основной функции объединяемого в нем класса жанров (а все функциональные стили выделяются именно так, а не иначе), то сложность и неоднородность его состава по должна нас останавливать: значит, порождая тексты итого класса жанров, люди пишут (говорят) так, а не иначе. Выяснить, как люди пишут и говорят в различных социальных ситуациях, включая сюда и различные жанры, – в этом ведь и состоит основная задача функциональной стилистики.
Другое дело, что, может быть, правильнее было бы не стремиться к такому широкому обобщению. Традиционные функциональные стили чересчур обобщают, объединяют под одной рубрикой весьма разнородные речевые ситуации (это относится в особенности к публицистическому, разговорному и, так называемому художественному стилю, если он выделяется именно как стиль). По-видимому, в конкретных исследованиях методологически целесообразнее исходить не из «больших» функциональных стилей, а из более дробных речевых жанров или, как их назвал В.В. Виноградов, речевых стилей 23, учитывая при этом социально-психологические чрезмерности, о которых мы говорили в первой главе.
Во избежание терминологической путаницы, может быть, даже было бы полезно также отказаться от самого термина функциональный стиль» – «речевой жанр» во всех отношениях предпочтительнее. Интересно, что английские исследователи широко используют термин register 24 – 'регистр', по значению практически совпадающий с тем, что мы называем здесь речевым жанром. Во многих советских работах нестилистического характера, в частности в исследованиях по статистике речи, широко используется также термин «подъязык» («подъязык радиоэлектроники», «подъязык газетной информации» и т.п.), под которым подразумевается совокупность единиц общенародного языка, используемых в текстах данного жанра. Конечно, термин – это не самое главное. Главное же заключается в том, чтобы каждое направление стилистики четко осознавало свои возможности и свои задачи и не пыталось бы подменить собой остальные.
В рамках этой стилистики возможны по крайней мере два направления:
1) стилистика конкретного речевого акта или конкретного текста, т.е. описание стиля как динамической характеристики речевого сообщения, обусловленной всем комплексов факторов, как социальных, так и личностных, которые формируют стиль и отражаются в нем;
2) стилистика, изучающая индивидуальный стиль, т.е. общие принципы отбора средств выражения, присущие некоему субъекту и характеризующие или его идиолект 25 в целом, или его речь в рамках каких-то определенных речевых жанров.
Чаще всего объектом и того, и другого направления выступает художественная речь – стиль художественного текста и стиль писателя. Однако в принципе таковым может быть и стиль практического сообщения – главным образом, в психолингвистической перспективе, как отражение внешних и внутренних условий общения, – равно как и стиль данного субъекта как представителя определенной социальной или территориальной группы, носителя определенного уровня культуры или определенных характерологических свойств.
Исследование речевой продукции отдельных личностей широко применяется также в психопатологии (в частности в патологии речи) 26. Но – и это важно отметить – ив психолингвистике, и в социолингвистике, и в психопатологии обычно не ограничиваются изучением стиля, а исследуют речевую деятельность в целом (не только, как говорят, но и что говорят или пишут).
Рассмотрим теперь – по необходимости бегло – некоторые основные проблемы стилистики художественной речи в ее обеих разновидностях – стилистика текста и стилистика автора 27. Первую Гиро определяет так: ««La stylistique textuelle ou critique stylistique ou explication des textes en vue d'en relever, décrire ou interpréter les effets de style dans leur contexte particulier» 28.
Видимо, главная проблема, связанная со стилистикой художественной речи, заключается в союзе «ou», трижды употребленном в этой формулировке: la stylistique textuelle doit-elle seulement relever et décrire les effets de style dans leur contexte particulier ou les interpréter? Иначе говоря, должна ли эта стилистика ограничиваться описанием языкового материала, из которого составлен текст, т.е. своеобразия авторского выбора, не задаваясь вопросами «зачем» и «почему», либо же она должна попытаться объяснить этот выбор как часть общей художественной системы текста и в конечном счете объяснить эту систему в целом?
Для нас этот вопрос имеет самое непосредственное, не только теоретическое, но и практическое значение; с ним сталкиваются все, кому приходится заниматься так называемым анализом текстов: должны ли мы в нашем анализе ограничиваться выявлением определенных классов слов, конструкций, «стилистических приемов» (метафор, эпитетов, сравнений, повторов, градаций и т.п.) или же стремиться как можно глубже понять структуру и целостный смысл текста, как теперь часто говорят, извлечь из него максимум информации?
В нашей науке, в зависимости от того, какой ответ дается на этот вопрос, т.е. как определяются задачи стилистики художественной речи, различают лингвистическую стилистику художественной речи и литературоведческую стилистику (хотя само содержание этих терминов не всеми исследователями понимается одинаково).
В западной стилистике на этом основании противостоят друг другу две традиции: традиция, идущая от австрийского филолога Лео Шпитцера, так называемая генетическая стилистика, по своему подходу к материалу соответствующая тому, что у нас называют литературоведческой стилистикой, и позитивистская традиция изучения стиля, которую связывают в первую очередь с именем французского лингвиста Шарля Брюно 29.
Эти же два подхода обнаруживаются в изучении авторского стиля в целом. А.В. Федоров определяет эти подходы так: «Один из главных вопросов лингвистического изучения стиля писателя – это вопрос о соотношении языковых средств, используемых им, с национальным языком на данном этапе его развития... Комплексное литературно-лингвистическое изучение языка художественных произведений, вернее – стиля писателя или литературной школы, имеет целью выяснение своеобразия и закономерностей в сочетании языковых средств, образующих систему стиля писателя или школы как целого» 30.
Академик В.В. Виноградов, касаясь этого вопроса, писал:
«Лингвистически обоснованная стилистика художественной литературы изучает стиль как внутренне цельную и единую систему взаимосвязанных структурных элементов, находящихся между собою в разных формах связи, соотношений и взаимодействий. Но она не в состоянии по характеру своих приемов, задач и методов привести к пониманию и осознанию словесно-художественного произведения как воплощения единоцелостного смысла, «замысла» писателя.
Проблема замысла автора, идейных тенденций, заложенных в литературном произведении, его тематики, связи сюжета и образов персонажей с действительностью и мировоззрением писателя, вопрос о месте данного литературного произведения в общем контексте современной ему литературы, об отношении самого автора к воспроизводимой и художественно преобразованной действительности и многие другие подобные вопросы – связаны с искусствоведческим (в том числе и литературоведческим) понятием стиля и составляют предмет изучения стилистики литературоведческой, а тем самым и поэтики» 31.
Таким образом, В.В. Виноградов считал, что стилистика художественной литературы должна ставить перед собой ограниченную задачу – изучение словесного стиля, но «как внутренне цельной и единой системы взаимосвязанных структурных элементов».
Однако возможно ли изучение стиля именно как «внутренне цельной и единой системы» без обращения к иным аспектам или уровням «словесно-художественного произведения как воплощения единоцелостного смысла, «замысла» писателя»?
Возьмем два отрывка из романа А. Камю «Посторонний». Стиль этого романа, по единодушному мнению как Французских, так и советских критиков, отличается «естественностью», «простотой», «некнижностью», «прозрачностью», «сухостью», «сдержанностью» и т.п. 32 Первый отрывок – начало романа; второй взят из 6-й (последней) главы первой части.
1. Aujourd'hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile: «Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués». Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
L'asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé deux jours de congé à mon patrcn et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit: «Ce n'est pas de ma faute». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, Ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
2. ... Et cette fois, sans se soulever, l'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté sous le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes souicils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu.
Не входя в детали, отметим очевидное: если стиль первого отрывка вполне соответствует приведенным выше оценкам, то стиль второго им явно противоречит: этот кусок текста, состоящий из девяти сравнительно коротких фраз, содержит около десятка достаточно «сильных» метафор и сравнений (так, например, солнечный луч, отразившийся от ножа, назван последовательно longue lame étincelante, le glaive éclatant, épée brûlante). Вообще в последних семи абзацах главы можно насчитать около тридцати подобных выражений. Каким, образом, обходясь средствами только «лингвистически обоснованной стилистики», можно представить стиль этого романа как «внутренне цельную и единую систему»? Чисто лингвистическими средствами мы можем установить здесь только известную общность синтаксического рисунка фраз – их простоту, краткость, и также преобладание и в том, и в другом отрывке так называемого бинарного ритма, т.е. такой организации фраз, при которой различные компоненты их синтаксической структуры (сочиненные предложения, однородные члены или группы членов предложения) употребляются попарно: Je prendrai l’autobus à deux heures et j’arriverai dans l’après-midi; Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux.
Ясно, что сам по себе этот вывод большой ценности не представляет, не ведет ни к более глубокому пониманию текста, ни к углубленному познанию значения и функционирования различных единиц и моделей языка.
Стиль несет информацию о субъекте речи. Как было оказано выше, стиль – динамическая, меняющаяся характеристика текста; эта изменчивость отражает изменения состояния субъекта. А единство стиля текста обеспечивается единством роли (жанра) и единством личности субъекта: переходя из одного состояния в другое, человек все же остается самим собой. Жанровое (ролевое) единство стиля текста – это единство внешнее, внешняя норма»; оно заключается в том, что оба отрывка относятся к жанру романа от первого лица. Оно не нарушилось бы и в том случае, если бы мы взяли отрывки из двух разных романов, принадлежащих к этому жанру, вообще стиль жанра относится к компетенции стилистики. 2. Внутреннее же единство стиля – то, которое может и должно интересовать стилистику художественной речи, – обеспечивается единством личности субъекта. Значит, в личности повествователя, героя Камю, и нужно искать «общий знаменатель» стиля того и другого отрывка. Это он, герой-повествователь, таков, что воспринимает социальное поверхностью сознания, фиксируя только внешнюю канву даже не событий, а обстоятельств; ему безразлично все или почти все, что волнует окружающих его людей – деньги, карьера, даже женитьба. При этом он не старается казаться, вести себя так, как это полагается в том обществе, в котором он живет. И если он не испытывает особенного горя, узнав о смерти матери, то и не пытается вызвать его в себе, а тем более симулировать. Вот этим его свойствам и соответствует стиль большинства глав первой части романа, в том числе и приведенного выше отрывка из первой главы. Но этот же герой, равнодушный к социальным ценностям, болезненно остро реагирует на природные – в первую очередь солнце и море 33. Так осмысляется стиль второго отрывка и всей этой главы.
Вообще, применительно к любому литературному тексту, можно утверждать, что единство стиля обеспечивается единством образа повествователя, который определяется как носитель стиля и оценок 34.
Но образ субъекта речи, т.е. повествователя (повествователя-героя или повествователя-автора), складывается в нашем сознании не только из того, как он говорит, но и из того, что он говорит и вообще как себя ведет. Это положение применимо и к практической, и к художественной речи: мы моделируем партнера по общению, руководствуясь всеми доступными нам проявлениями его личности и занимаемой ею позиции – его поведением в целом (см. выше, гл. I, § 2 и 15). В том случае, когда повествователь – фиктивный рассказчик-герой, как у Камю, мы судим о нем по тому, что и как он говорит, и по тому, как он поступает. Сказанное выше о герое «Постороннего» основывается и на анализе стиля, и на анализе его поведения в целом (так, в первом отрывке характерно, что он пишет «не о том» – фиксирует разные мелочи, но ни слова о чувствах, которые он должен был бы испытать; ни слова даже о том, что он их не испытывает).
Если же мы имеем дело с повествователем-автором, то его поведение, открытое нашему восприятию, – это текст со всем, что он содержит: общая сюжетная линия, поступки героев, т.е. их поведение, в том числе и речение, композиция, прямой авторский комментарий и оценки и, конечно, авторский стиль.
Из этого следует, что глубоко воспринять и правильно истолковать стиль как содержательную (а не формальную) сторону текста можно только рассматривая его к системе целого, в его многообразных и нерасторжимых связях с остальными уровнями текста – сюжетным, композиционным и т.д. Точно так же все эти уровни можно адекватно воспринять и истолковать только в неразрывной связи со словесным стилем.
Рассматривать словесный стиль в системе целого тем более необходимо, что художественный текст отличается от любого другого, с одной стороны, особой теснотой, органичностью связей между уровнями и элементами различных уровней, а с другой – своей уникальностью, несводимостью к другим художественным и нехудожественным текстам. Конечно, каждый художественный текст, как правило, принадлежит к тому или иному жанру (роман, рассказ, поэма и т.д.) и, следовательно, подчиняется жанровым нормам; однако нормы эти таковы, что оставляют большую свободу индивидуальной интерпретации роли. Более того, всякий подлинно художественный новаторский текст обязательно в той или иной мере нарушает жанровые нормы – читательские ожидания 35. По выражению Ю.М. Лотмана, художественный текст ведет себя непредсказуемо.
Непредсказуемый и уникальный смысл, который несет каждый высокохудожественный текст, – смысл идейный, философский, эстетический, психологический, – может быть вполне адекватно выражен только этим текстом, всей его структурой, всей совокупностью составляющих его элементов и их связей. Поэтому пытаться анализировать стиль вне системы, в отрыве от остальных сторон или уровней текста – занятие малоплодотворное. Один из самых авторитетных советских филологов В.М. Жирмунский писал: «... стилистика литературного произведения, рассматриваемая с точки зрения его стиля, представляет в широком смысле проблему историко-литературную. Постановка этой проблемы, конечно, требует от исследователя предварительного знакомства с лингвистической стилистикой, с историей литературного языка и синонимикой средств речевого выражения, которыми располагал писатель, но она не может ограничиваться лингвистической стилистикой. Иначе методы рассмотрения окажутся неадекватными специфике объекта как произведения художественного, а его результаты будут мало интересными и мало поучительными для понимания этой специфики.
Так – называемая «литературоведческая стилистика» представляется единственным видом стилистического исследования, соответствующим качественным особенностям своего предмета – произведения художественного слова» 36.
Анализ стиля должен быть анализом текста в целом.
Но из этого не следует, что анализ текста, особенно учебный анализ, должен включать в себя всю проблематику, так или иначе с этим текстом связанную, – некоторые вопросы, касающиеся, в частности, истории создания произведения, мы можем оставить в стороне. На этом основании Ю.С. Степанов и И.В. Арнольд выделяют стилистику восприятия, которую надо отличать от стилистики от автора 37. «В стилистике восприятия внимание концентрируется не на писателе, а на результате его творчества, на воздействии, которое текст оказывает на читателя, т.е. на самого анализирующего» 38. Иными словами, стилистика восприятия, к которой можно отнести и наш учебный анализ, занимается не творческой биографией автора и историей создания произведения, а тем, что объективно содержится в тексте и может быть воспринято.
И.В. Арнольд справедливо замечает также (опять-таки ссылаясь на Л.В. Щербу), что такой подход к тексту особенно важен для подготовки преподавателей иностранных языков, которым необходимо не только сообщить некоторую «лингвистическую информацию», т.е. показать функционирование выразительных средств языка в «живом» тексте, но и привить навыки высокой культуры чтения 39.
Итак, исследование стиля в отрыве от всей системы текста не может быть плодотворным. Но, с другой стороны, такое исследование нуждается в солидной лингвистической базе – иначе оно неминуемо впадает в субъективизм. Такой базой должна быть в первую очередь стилистика языка – стилистика 1. Ею могла бы стать и функциональная стилистика, точнее, тот ее раздел, который занимается изучением общих свойств художественной речи. Обычно его рассматривают либо как составную часть поэтики, либо как самостоятельную дисциплину – теорию поэтической речи, по определению В.В. Виноградова, или риторику, как ее продолжают называть на Западе 40.
Но как бы эта дисциплина ни называлась, ясно, что она тоже не может быть целиком лингвистической, поскольку ее предмет – общие правила или законы построения текстов того класса жанров, который составляет понятие художественной литературы. Уже античная риторика включала в себя, наряду с учением о словесном выражении, «учение о нахождении» и «учение о расположении». Ограничение предмета теории поэтической речи закономерностями словесного построения текста может привести к отрыву словесной формы от содержания, что свойственно многим современным западным исследованиям и в первую очередь работам Р. Якобсона 41. Поиски «секрета поэтичности» художественного текста прежде всего в словесной его структуре составляют основное содержание и только что упомянутой книги Ж. Дюбуа и группы авторов «Rhétorique générale». Показательны в этом отношении и некоторые формулировки П. Гиро, например: «[...] c'est le langage qui constitue, au sens le plus concret du terme, la substance de l'œuvre». [...] Inutile de dire que dans la littérature actuelle, où cette primauté du langage est affirmée et systématiquement exploitée par la plupart des écrivains, toute exégèse purement idéelle, sur la pensée de Valéry, la métaphysique de Claudel, la philosophie – de Camus, etc., pour légitime qu'elle soit, n'atteint jamais le cœur de l'œuvre, dont le sens véritable est'dans l'expression linguistique que cette philosophie, cette métaphysique ont assumé»» 42.
На это, видимо, лучше всего ответить словами Г.А. Гуковского – блестящего и глубокого исследователя стиля Пушкина и Гоголя: «в искусстве все значит, все элементы произведения есть смысл, [...] образ потому и образ, что он есть образ чего-то, образ идеи» 43.
Характерно, что в этих своих рассуждениях П. Гиро опирается на опыт современной французской литературы, в частности тех ее течений, которые вполне сознательно стремятся изгнать из литературы всякую внелитературную проблематику, вообще всякое жизненное содержание или же рассматривают его лишь как предлог для создания «самоценной» словесной структуры. Нет нужды доказывать, что такие устремления глубоко чужды традициям русской и советской литературы, русской и советской филологии.
Итак, ни анализ текстов, ни общая теория такого анализа не должны ограничиваться исследованием чисто словесной ткани произведения, или законов построения словесного ряда. Поэтому ни та, ни другая дисциплина (если их вообще рассматривать как отдельные дисциплины) не сводятся полностью к той или иной стилистике в узколингвистическом смысле этого слова. Однако целостный анализ текста может основываться на тех же принципах, что и лингвистическая стилистика, в частности на принципе коннотации – значимого выбора из ряда имеющихся возможностей.
Как уже неоднократно говорилось, мы судим о человеке по его поведению в целом. Кто-то в какой-то определенной ситуации сказал кому-то «Fous le camp!» («валяй отсюда!»). Что значит, что он выразил это так, а не как-нибудь иначе, например, «Allez-vous en!»? Что значит, что он вообще сказал это собеседнику? Что значит, что он прибег к речи, а не просто вытолкал собеседника за дверь? И вообще он мог бы вместо этого предложить ему чашку кофе – что значит, что он поступил так, а не иначе?
Но аналогичные вопросы мы можем задать и по поводу литературного текста: что значит, что герой-повествователь «Постороннего» пишет таким слогом, а не иным (например, как герой-повествователь повести В. Гюго «Последний день приговоренного к казни»)? 44 Что значит, что, узнав о смерти матери, он ничего не пишет об испытываемых им чувствах? Что значит, что ему все равно, есть ли с хлебом или без хлеба, ехать ли в Париж или оставаться в Алжире, жениться на женщине, которая ему нравится, или не жениться? Что значит, что он без всякого сопротивления позволяет соседу втянуть его в какую-то более чем сомнительную историю? Что значит, что он без всякой веской причины стреляет на пляже в человека, которого он до этого не никогда не видел? Что значит, что перед казнью он прогоняет священника, пришедшего его утешать? Что значит, что Камю создал такого героя? Что значит, что он избрал форму повествования от лица героя? И т.д. и т.п.
Любое художественное произведение можно рассматривать как результат некоторой последовательности актов выбора на разных уровнях или этапах его порождения: на уровне первоначального замысла, на уровне сюжета, общей композиции произведения, композиции его отдельных частей и т.д., включая, естественно, и уровень словесного стиля. Эти акты выбора не являются взаимонезависимыми – они образуют иерархически организованную систему, в которой воплощается первоначальный замысел. На данном этапе порождения текста каждый конкретный акт выбора (выбор слова, конструкции, выбор какого-то сметного хода, детали, способа или порядка изложении и т.д.) обусловлен целым рядом факторов: мировоззрением автора, его эстетическими пристрастиями, вообще его личностью, но также и ранее принятыми решениями, предшествующими актами выбора.
Так, скажем, при передаче речи персонажа выбор на уровне словесно ряда обусловлен и выбором способа передачи речи прямая, косвенная или несобственно-прямая речь), и ситуацией, и сюжетным заданием, и личностью героя, т.е. всеми ранее принятыми решениями, в результате которой герой стал тем, что он есть, а сюжет дошел до данной очки, – плюс еще не воплощенная часть замысла.
Путь анализа не обязан повторять путь синтеза, но обязан учитывать его закономерности. И если мы рассматриваем процесс порождения текста как иерархически организованную последовательность актов выбора, то, видимо, задача исследователя – выявить, оценить и, главное, объяснить смысл, содержательную функцию тех из них, которые могут быть учтены и объяснены. Мы должны оценить то, что есть в тексте, с точки зрения того, что могло бы быть. В свое время А.М. Горький говорил: «Необходимо иметь возможно точное представление не только о «я, что любит автор и о чем он говорит охотно, но и о том, что ему ненавистно или чуждо, чем он предпочитает молчать» 45.
Авторский выбор всегда значим. Помимо своей основной, «денотативной» функции (сюжетной, композиционной и т.п.), каждый элемент художественного произведения несет определенный коннотативный смысл, свидетельствует о каких-то общих или индивидуальных закономерностях, которым подчиняется текст, сигнализирует «стиль» (в широком смысле слова), жанр, эстетическую систему, идеологию. Выявить так понимаемое коннотативное значение хотя бы важнейших, узловых элементов текста на разных его уровнях – это и значит проанализировать текст.
С чего начинать анализ? В принципе, исследование может начинаться с любого конца: как «сверху», от действия, так и «снизу», от словесного стиля. Однако наиболее естественным представляется начать «сверху», с событийной, фабульной стороны текста, чтобы в конце концов придти к анализу словесного стиля, – хотя бы потому, что так легче, такой подход ближе всего соответствует спонтанному читательскому восприятию: ведь рядовой читатель прежде всего обращает внимание на события.
Здесь нет возможности подробно излагать ход анализа 46. Наша задача заключалась лишь в том, чтобы показать, как явление коннотации может лечь в основу не только анализа словесного стиля, но и анализа текста в целом. Детальная разработка и изложение такого метода – это задача другой, еще не написанной книги.
Идея сопоставительной стилистики была выдвинута еще Шарлем Балли. Балли считал – видимо, без достаточных оснований, – что сопоставлять со стилистической точки зрения можно только языки, отражающие так называемый «европейский психический склад». «В выразительных средствах этих языков, то есть в свойственных им способах выражения чувств – скажем прямо, – в их стилистике, имеются бесчисленные случаи абсолютного подобия и менее абсолютные, но еще более многочисленные аналогии. Поэтому вполне естественно предположить, что существует некая «европейская стилистика», подобно тому как существует европейский психический склад» 47. И дальше: «Итак, общие черты европейских языков являются той основой, которая позволяет стилистике расширить сферу своей деятельности, центром которой является родной язык, и изучать с точки зрения последнего другие современные языки. Стилистика может сопоставлять их, чтобы выявить в первую очередь сходные черты, а затем и различия» 48.
Об этих предполагаемых различиях говорится следующее: «Прежде всего сходные черты европейских языков могут обнаруживать определенные количественные различия: та или иная общая тенденция, отчетливо проявляющаяся в одном языке, может быть менее выражена в другом; то или иное явление, характерное для выразительной системы одного языка, может начисто отсутствовать в другом; большие различия могут быть обнаружены в природе образов, в образной речи вообще; наконец, языковые факты, вызывающие представление об определенной социальной среде, символическая и социальная окраска экспрессивных фактов различных языков... подсказали бы немало весьма интересных выводов. Но для того чтобы подобное исследование было плодотворным, необходимо изучать всю систему каждого языка в целом – в настоящее время это практически невозможно из-за недостатка материала» 49.
Из приведенных отрывков следует, что Балли, говоря о сопоставительной стилистике, выдвигал два круга проблем:
Первая задача, насколько автору известно, никем еще не была осуществлена, хотя «национальных» стилиcтик европейских языков с тех пор появилось немало. Причина, видимо, в том, что эти национальные стилистики, как правило, построены на разных методологических принципах (т.е. зачастую это просто «разные стилистики») и не сводимы друг с другом. Кроме того, такая работа – по понятным причинам – одному человеку не по силам и потребовала бы согласованных действий целой группы исследователей.
Усилия лингвистов, называвших и называющих свои исследования сопоставительно-стилистическими, оказались направленными, на выявление различий между языками. Воображения и замечания о специфических свойствах языков и о различиях между ними высказывались еще и античные времена. Позже, в эпоху формирования и укрепления позиций национального языка, в разных странах в разное время национальный язык сопоставляли с языком-конкурентом (в романоязычных странах – с латынью) и с соседними языками на предмет прославления достоинств первого (см., например, «Deffense et illustration de la langue français» известного поэта XVI века И. Дю Белле).
В филологии нового времени идея сопоставительного изучения языков возникла еще в первые десятилетия XIX века, в эпоху романтизма, когда в центре внимания и истории, и литературы, и эстетики, а затем и лингвистики оказывается проблема исторического и национального своеобразия, неповторимости эпохи и национального характера. В лингвистике этот обостренный интерес к национальному характеру проявился в учении В. Гумбольдта о внутренней форме языка, в которой непосредственно проявляется «душа народа», «гений расы». Так родилась идиоматология, которую П. Гиро определяет как «изучение национальных стилей – либо описание характерных черт одного языка по сравнению с другими языками, либо объяснение его специфических особенностей историческими, этническими и социальными факторами» 50.
За прошедшие с тех пор полтора столетия конкретные методы и цели сопоставительного изучения языков менялись, эволюционировали. В XX веке, в связи с нуждами общественной практики, родилась новая дисциплина – теория перевода 51.
Дисциплина, которая сегодня именует себя сопоставительной стилистикой, развивается в двух направлениях. Первое, наиболее богато представленное в литературе, – направление, так сказать, теоретико-переводческое. К нему непосредственно относятся работы, вышедшие в серии «Bibliothèque de stylistique comparée под редакцией А. Мальблана; важнейшие среди них – J.-P. Vinay et J. Darbelnet. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Р., 1958 и А. Malblanc. Stylistique comparée du français et de l’allemand. Р., 1961. К нему же относятся и работы А.В. Федорова, в частности «Очерки общей и сопоставительной стилистики» (М., 1971). С этим направлением смыкаются руководства по переводу с того или иного языка на другой 52.
Второе направление, представленное в основном книгой Ю.С. Степанова (точнее, ее первой частью, разделом А – «Французская национальная, норма, описанная извне»), не ставит своей целью обобщить и обосновать практику перевода. Непосредственная задача указанного раздела книги Ю.С. Степанова – сопоставление типовых способов построения сообщения на разных уровнях во французском языке с типовыми, нормативными способами построения русского сообщения; «сопоставление того, что считается правильным и неправильным в одном языке, с тем, что считается правильным и неправильным в другом языке» 53. Однако путем этого сопоставления Ю.С. Степанов стремится выявить не только различия национальных норм, но и стоящие за ними различия национальных характеров, «дух» того и другого языка (см., в частности, § 77, «Сравнение с семантической точки зрения. Национальное своеобразие сравнений», где выявляются «метаобразы» русских и французских узуальных сравнений).
Это направление сопоставительной стилистики сближается, с одной стороны, с идиоматологией как выявлением связей между языком и национальным характером, а с другой – с сопоставительными исследованиями строго лингвистического плана, в которых сравниваются не только нормы, но и структуры языков, однако без далеко идущих выводов, касающихся национального психического склада 54.
Из этого по необходимости краткого обзора сопоставительных исследований можно вывести одно заключение: как то, так и другое направление сопоставительной стилистики сравнительно мало отличается от смежных дисциплин, которые стилистикой себя не именуют. Иначе говоря, в сопоставительной стилистике мало собственно стилистического в том смысле, в каком, на наш взгляд, следует понимать этот термин.
А. Мальблан прямо заявляет, что сопоставление «жанров и стилей двух языков» составляет задачу второго этапа сопоставительной стилистики 55; он же в своей книге ограничивается первым этапом, т.е. установлением соответствий между двумя языками на уровне общего фонда литературного языка: «C'est l'étude de ce fond commun qui peut être la première étape de la stylistique comparée du français et de l'allemand, nous laissons à nos successeurs le soin d'aller plus loin, de détailler et d'approfondir, de scruter les niveaux et les époques ...» 56
В книге Ю.С. Степанова (в указанном ее разделе, посвященном сопоставлению национальных норм двух языков) собственно стилистические замечания, порой очень интересные и тонкие, немногочисленны и далеко не всегда органически связаны с основной линией изложения. Это не удивительно, так как сопоставляются национальные нормы, а не системные отклонения от них, т.е., в сущности, языки' в целом как специфические способы анализа и отражения действительности, а не возможности выбора, «ассортименты» выразительных средств, которые предоставляет в распоряжение говорящего каждый из них.
Элементы подлинной сопоставительной стилистики обнаруживаются у Ю.С. Степанова в другом разделе, названном «Французская национальная норма, описанная изнутри», где проводится – хотя и достаточно бегло – сопоставление стилистических систем французского, и русского языков, но только на уровне лексики.
По сравнению с названными работами, советские исследования по сопоставительной стилистике теоретико-переводческого направления и вообще советские исследования по теории перевода 57 уделяют значительно больше внимания собственно стилистической проблематике. Однако эта собственно стилистическая проблематика, рассматриваемая в сопоставительном плане, почти целиком относится к стилистике художественной речи – к традиционным литературным стилям рассматриваемых пар языков, к их просодическим системам, а также к проблемам индивидуального стиля автора оригинала и переводчика.
Таким образом, приходится сделать вывод, что сопоставительная стилистика как лингвистическая дисциплина еще не построена или, во всяком случае, еще не достроена; а то, что нам сегодня предлагают под этим названием, чаще всего не в меньшей степени относится либо к сравнительной типологии, либо к теории перевода, чем к стилистике.
Конечно, можно утверждать, как это иногда и делается, что сопоставление языков на предмет выявления специфики каждого – тоже стилистическое исследование, выявляющее особенности национального стиля, т.е. национального языка как стиля 58. В этом случае, очевидно, «дух языка» или национальный характер должны рассматриваться как план содержания, «стилистическая информация» о субъекте, в качестве которого выступает все языковое сообщество.
Поскольку понятие стиля относительно и может применяться к значимому выбору на разных уровнях человеческой деятельности, такая точка зрения имеет право за существование. Но чтобы последовательно рассуждать о языках как стилях, пришлось бы сконструировать некий идеальный язык, инвариантный по отношению ко всем реально существующим естественным языкам, средства которого обладали бы нулевым стилистическим значением. При этом и здесь «стиль языка» надо было бы изучать в контексте общего стиля коммуникативной деятельности «субъекта», т.е. народа, его поведения в целом. Об этом пишет и Ю.С. Степанов, который в конце соответствующего параграфа призывает изучать «единство: национальный характер – национальное искусство (прежде всего словесное) – национальный язык», все части которого связаны друг с другом, во многом подобны друг другу и противопоставлены другим таким же национальным единствам» 59.
Но и для осуществления таких грандиозных проектов нужна прочная лингвистическая база. Ведь главная причина недостроенности здания сопоставительной стилистики, в более скромном понимании этого термина, заключается именно в ее отсутствии.
Такой базой может и должна стать стилистика языка (стилистика 1). На этой основе можно строить и общеевропейскую стилистику, о которой мечтал Балли, и другие такие же региональные стилистики, например общую стилистику языков юго-восточной Азии, и сопоставительные стилистики разных языков, не обязательно принадлежащих к одной и той же историко-культурной наднациональной общности. Весьма вероятно, что на этом пути удалось бы сформулировать и определенные стилистические универсалии, короче говоря, создать общую стилистику как составную часть общего языкознания.
Итак, мы рассмотрели четыре различных по своим объектам и задачам стилистики, каждая из которых несомненно может и должна внести существенный вклад в наши знания о человеке, его языке и используемых им системах коммуникации. Этот обзор показывает, что одна из стилистик – стилистика языка – занимает особое положение по отношению к трем другим, а именно является основой для каждой из них.
Стиль начинается со стилистического значения. Изучение стилистики должно начинаться с того ее раздела, который описывает стилистические значения и способы их реализации в речи. В этом и состоит основная задача настоящей книги.
[1] О возможности существования трех стилистик говорил еще Балли (см.: Французская стилистика, § 20-21 и 27-28); у нас получилось на одну стилистику больше за счет того, что Балли не разграничивал те, которые в нашем списке значатся под № 1 и 2. Сходным образом выделяет различные стилистики П. Гиро (Guiraud P. La stylistique, р. 67-71, а также: Essais de stylistique, p. 27).
[2] Guiraud P. Essais de stylistique, р. 27. Ю.М. Скребнев называет эту стилистику «стилистикой единиц» или «ономатологической стилистикой» и противопоставляет ее «стилистике последовательностей» – см.: Скребнев Ю.М. Цит. соч., с. 78-80.
[3] Ср. пример, приводимый в словаре Бенака: Un commerçant vent des automobiles que tout le monde appelle voitures, mais que le fisc classe dans la catégorie des véhicules automobiles. – Вénac H. Dictionnaire des synonymes. P., Hachette, 1956, p. 1015.
[4] Bally Ch. Traité de stylistique française. 1e éd. Heidelberg, 1909.
[5] Bally Ch. Traité de stylistique française. 2e éd., p. 16.
[6] Marouzeau J. Précis de stylistique française. 4e éd. P., Masson, 1959; Marouzeau J. Aspects du français. P., Masson, 1970; Cressot M. Le style et ses techniques. P., PUF, 1959.
[7] См., например: Boillot F. Psychologie de la construction dans la phrase française moderne. P., 1930: Ullmann S. Valeur stylistique de l'inversion dans L’ Education sentimentale. – Le français moderne, XX, 1952; Le Bidois R. L'inversion du sujet dans la prose contemporaine (1900-1950), étudiée plus spécialement dans l'œuvre de Marcel Proust. P., Artrey, 1952; Guberina P. Valeur logique et valeur stylistique des propositions complexes. Théorie générale et application au français. Zagreb, 1954.
[8] Guiraud P. Essais de stylistique, p. 44.
[9] Ibid, p. 45.
[10] Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Цит. соч., с. 9.
[11] Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. – «Вопр. языкознания», 1955, № 1, с. 73.
[12] Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 218.
[13] Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 6. Аналогичным принципом руководствуются при выделении функциональных стилей лингвисты Пражской школы. См., например: Долежел Л. Вероятностный подход к теории художественного стиля. – «Вопр. языкознания», 1964, № 4; Гавранек Б. О функциональном расслоении литературного языка. – В сб.: Пражский лингвистический кружок. М., «Прогресс», 1967. С этой же точки зрения характеризует различные функциональные стили И.В. Арнольд: «специфика каждого стиля вытекает из особенностей функций языка в данной сфере общения» (Цит. соч., с. 55). Однако сам набор функций у И.В. Арнольд иной, непосредственно восходящий к классификации Р. Якобсона.
[14] По определению А.Н. Мороховского, функциональные стили суть «общественно осознанные стереотипы языкового поведения» – см.: Мороховский А.Н. Экспликация некоторых исходных понятий стилистики в терминах структурной лингвистики. – В сб.: Проблемы лингвистической стилистики. М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1969, с. 94.
[15] См., например: Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Цит. соч., с. 18; Основы теории речевой деятельности, гл. 18; Лаптева О.А. Внутристилевая эволюция современной русской научной прозы. – В сб.: Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., «Наука», 1968; Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. Пермь, Изд-во Пермского гос. ун-та, 1966 и другие работы.
[16] Наиболее известные примеры – это «О природе вещей» Тита Лукреция Кара, «Поэтическое искусство» Буало и «Ода стеклу» Ломоносова.
[17] Об этом в весьма категорической форме пишет А.А. Леонтьев: «Мы считаем необходимым подчеркнуть ... что главное в систем критериев стиля – это, на наш взгляд, не целевая характеристика высказывания ..., а традиционные правила выбора и комбинирования языковых средств, традиционные правила речевого реагирования на ту или иную социально осознанную, кодифицированную ситуацию». И дальше: «Пожалуй, одна из наиболее характерных в плане традиции стилистических модификаций – это «научная» речь. Она, в сущности, «наукообразна» исключительно по традиции, и, если отвлечься от употребления определенной терминологической лексики, чаще всего нет никаких оснований не говорить на те же темы по-другому» – Леонтьев А.А. Понятия «стиль речи» и «стиль языка» в ряду других понятий лингвистики речи. – «Сборник научных трудов». М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1973, вып. 73, с. 47, 48.
[18] См., например: Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. М., Изд-во лит. на иностр. яз., 1958; Морен, М.К., Тетеревникова Н.Н. Цит. соч.; Пиотровский Р.Г. Цит. соч.: Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики; Ефимов А.И. Стилистика русского языка. М., «Просвещение», 1969; Привалова М.И. О типах и стилях русского литературного языка. – В сб.: Вопросы теории и истории языка. Изд-во ЛГУ, 1969; Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. Эта точка зрения неоднократно высказывалась и академиков В.В. Виноградовым, на которого ссылаются практически все, пишущие о функциональных стилях (кроме приведенных выше определений см.: Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, с. 5, 201). Однако у В.В. Виноградова можно найти и другую формулировку: «В рамках языкознания стилистика занимается, прежде всего, оценкой языковых явлений (слов и выражений) со стороны «дополнительных качеств», т.е. качеств, накладываемых на их непосредственно-смысловое содержание, их понятийном значение» (там же, с. 166, сноска).
[19] Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Цит. соч., с. 11; см. также: Ахманова О.С. О стилистической дифференциации слов. – Сборник статей по языкознанию к 60-летию академика В.В. Виноградова, М., Изд-во МГУ, 1958, с. 29 и многие другие работы.
[20] «Обычно функциональный стиль определяют по наличию в нем стилистически маркированных языковых единиц, являющихся приметами данного стиля, характеризуя последний как совокупность или даже набор этих единиц. Очевидно, что такое определение недостаточно, неполноценно, во-первых, потому, что такие средства-приметы составляют ничтожный процент в потоке речи». – Кожина М.Н. О речевой системности функционального стиля. – «Сборник научных трудов», вып. 73. М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1973, с. 194.
[21] Хорошо обоснованную критику попыток установить исчерпывающую классификацию функциональных стилей см.: Скребнев Ю.М. Цит. соч., гл. II. Об этом же см.: Долинин К.А. О некоторых понятиях лингвистической стилистики. – «Сборник научных трудов», вып. 73, М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та им. М. Тореза, 1973.
[22] Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Цит. соч., с. 130; см. также: Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики, с. 57-58.
[23] См.: Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, с. 15-16.
[24] См., например: Ure J.N. The Theory of Register and Register in Language Teaching. – The University of Essex, 1966.
[25] Идиолект – «совокупность индивидуальных (профессиональных, социальных, территориальных, психофизических и др.) особенностей, характеризующих речь данного индивида; индивидуальная разновидность языка». – Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., «Сов. энциклопедия», 1966, с. 165.
[26] Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. М., Изд-во МГУ, 1975, гл. 3 и 4; Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., Изд-во МГУ, 1975.
[27] Мы не будем излагать здесь историю стилистики художественной речи, разбирать отдельные ее направления, оценивать их достоинства и недостатки и т.д., как это делается, например, во «Французской стилистике» Ю.С. Степанова. Читатель может непосредственно обратиться к этой книге, а также к книге В.В. Виноградова «О языке художественной литературы» (М., Гослитиздат, 1959) и к работе П. Гиро «La stylistique (см., в частности, гл. IV – La stylistique génétique ou stylistique l’individu).
[28] Guiraud P.Б. Essais de stylistique, р. 27.
[29] О двух традициях в западной стилистике см.: Степанов Ю.С. Французская стилистика, § 122, 123, а также: Guiraud Р. La stylistique, chap. IV.
[30] Федоров А.В. Очерки общей и сопоставительной стилистики, с. 56-57.
[31] Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, с. 79.
[32] См., например: Евнина Е.М. Современный французский роман. М., Изд-во АН СССР, 1962, с. 100.
[33] «В подлиннике сдержанный, “безличный” рассказ героя пронизан яркой метафоричностью, всегда необычайно интенсивной, когда герой приходит в соприкосновение с природой, солнцем, морем, небом, когда он отдается непосредственному чувственному восприятию». – Яхнина Ю. Три Камю. – В сб.: Мастерство перевода. Сб. 8. М., «Сов. писатель», 1971, с. 281-282.
[34] Л.Н. Толстой писал: «цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету». – Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90-та т. М., Гослитиздат, 1949, т. 30, с. 18.
[35] Об этом см.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., «Искусство», 1970. Этот принцип иногда называют принципом или эффектом обманутого ожидания – об эффекте обманутого ожидания в стиле см.: Арнольд И.В. Цит. соч., с. 42-46 (§ 8).
[36] Жирмунский В.М. Стихотворения Гете и Байрона «Ты знаешь край?.» («Kennst du das Land?...» – «Know you the land?...»). Опыт сравнительно-стилистического исследования. – В сб.: Проблемы международных литературных связей. Л., Изд-во ЛГУ, 1962, с. 50-51.
[37] Степанов Ю.С. Французская стилистика, § 10, 126; Арнольд И.В. Цит. соч., § 3. Оба автора указывают, что основы стилистики восприятия заложены в ставших классическими «Опытах лингвистического анализа стихотворений» академика Л.В. Щербы (см.: Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., Учпедгиз, 1957.)
[38] Арнольд И.В. Цит. соч., с. 19.
[39] Там же, с. 20-22.
[40] См., например: Dubois J., Edeline F. et autres. Rhétorique générale. P., Larousse, 1970. Риторика – ораторское искусство или, шире, искусство хорошего слога, особая наука, сложившаяся в античной Греции и просуществовавшая вплоть до XIX века. На смену риторике пришла стилистика. Однако в последнее время на Западе наблюдается тенденция к возрождению риторики, но на современной научной основе. О риторике см.: Античные теории языка и стиля. Под ред. О. Фрейденберг. Л., 1936; Краткая литературная энциклопедия, т. 6. М., «Сов. энциклопедия», 1971, с. 304-305, а также: Guiraud P. La stylistique, ch. 1.
[41] См., в частности: Jakobson R. Linquistics and Poetics. – «Style in Language», ed. by Th.A. Sebeok. The M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts. 1968.
[42] Guiraud P. Essais de stylistique, p. 15.
[43] Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. Саратов, Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1946, с. 25.
[44] Такое сопоставление делается в книге Е.М. Евниной «Современный французский роман» (с. 100).
[45] Цит. по книге К.И. Чуковского «Из воспоминаний» (М., «Сов. писатель», 1959, с. 224).
[46] Несколько более развернуто, хотя тоже далеко не полно, эта концепция изложена в статье автора «Об одном возможном подходе к анализу прозаического текста», напечатанной в сборнике «Стилистика романо-германских языков» («Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена», т. 491. Л., 1972).
[47] Балли Ш. Французская стилистика, с. 41.
[48] Там же, с. 41-42.
[49] Там же, с. 42-43. О сопоставительной или «внешней» стилистике см. также: Вally Ch. Le langage et la vie. Р., 1926, р. 105.
[50] Guiraud P. La stylistique, р. 87. Основные этапы развития идиоматологии как выявления связей между языком и национальным характером изложены во «Французской стилистике» Ю.С. Степанова (§ 6, с. 14-21). Там же дана библиография.
[51] О теории перевода см. обобщающую работу А.В. Федорова «Основы общей теории перевода» (М., «Высш. школа», 1968), а также сборники «Мастерство перевода», выходящие с 1964 г.; на французском языке важнейшее исследование в этой области: Mounin G. Les problèmes théoriques de la traduction. Р., 1963; см. также: «Langages», N 28, décembre 1972 (номер специально посвящен проблемам перевода).
[52] Например: Гак В.Г., Левин Ю.Д. Курс перевода. Французский язык. Изд. 2-е. М., «Междунар. отношения», 1971; Комиссаров В.В., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч. 1. М., Изд-во лит. на иностр. яз., 1960; ч. II. М., «Высш. школа», 1965.
[53] Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 13.
[54] Например: Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка (в оригинале Linguistique générale et linguistique français. 2e éd. Р., 1944), где французский язык сопоставляется с немецким; Гак В.Г. Беседы о французском слове. М., «Междунар. отношения», 1966; Гак В.Г. Русский язык в сопоставлении с французским. М., «Высш. школа», 1975.
[55] Malblanc А. Stylistique comparée du français et de l’allemand. P. Didier, 1961, p.16.
[56] Malblanc A. Op. cit., р. 18.
[57] Важнейшие из этих исследований разбираются в упомянутых выше книгах А.В. Федорова.
[58] Именно так понимается стиль в таких, например, работах, разделенных более чем полувековым интервалом, как Strohmeyer F. Der Stil der französischen Sprache. Berlin, 1910 и Бородина М.А. и Смольевский А.А. К вопросу о стиле национального языка. – «Сборник научных трудов», вып. 73. М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та им. М. Тореза, 1973.
[59] Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 21.
Итак, всякая стилистика, любое явление, которое мы определяем как стилистическое, основывается на возможности и необходимости выбора одного означающего (лексической единицы, грамматической формы, синтаксической конструкции, произносительного варианта) из ряда потенциально возможных, взаимно эквивалентных в отношении некоторого означаемого.
В отличие от стилистики индивидуальной речи, изучающей акты выбора, уже реализованные тем или иным автором в том или ином тексте (или общие принципы отбора выразительных средств, характерные для данного автора), в отличие от функциональной стилистики, которая выявляет тенденции коллективного, т.е. свойственного всем носителям языка отбора выразительных средств в зависимости от сферы общения, речевого жанра, – стилистика языка, как уже было сказано, изучает те возможности (наборы означающих), которые данный язык предоставляет говорящему для выражения того или иного означаемого, с точки зрения стилистического (коннотативного) значения, присущего каждому из этих потенциально возможных способов выразить данное содержание. Впрочем, эта стилистика может идти и иным путем: не от форм к стилистическим значениям, а от значений к формам. При таком подходе к материалу стилистика языка отвечает на вопрос, каковы основные, исходные стилистические значения, присущие данному языку, и как они в нем выражаются.
Основная задача этой главы и состоит в том, чтобы попытаться выявить типичные для французского (а, может быть, и не только французского) языка исходные внеконтекстные стилистические значения языковых единиц различных уровней.
Чтобы лучше уяснить себе, что такое стилистическое значение, из чего оно складывается и какими свойствами обладает, рассмотрим какой-нибудь французский синонимический ряд. Можно было бы воспользоваться здесь уже приведенным выше рядом voiture – automobile – véhicule – auto – bagnole – guimbarde – tacot. Однако для выявления типовых стилистических значений лексических единиц удобнее взять глаголы, а не существительные, потому что в глаголе стилистическое значение выступает в более явном виде, более четко отграничивается от предметно-логического значения, чем в существительном.
Поставим вопрос так: как можно выразить в современном французском языке понятие «умереть» (говоря о человеческом существе) и какую дополнительную информацию несет выбор каждого из этих синонимов, иначе говоря, каково стилистическое значение каждого из них? При этом не будем стремиться к исчерпывающей полноте списка – удовлетворимся несколькими общеизвестными и более или менее употребительными выражениями. Не будем смущаться и тем обстоятельством, что некоторые из этих выражений обладают определенными «смысловыми оттенками», т.е. компонентами денотативного значения, которых другие лишены: эти компоненты выявляются только в определенных контекстах; достаточно часто же различия такого рода нейтрализуются, и эти «квазисинонимы» включаются в общую стилистическую парадигму.
На первую половину вопроса отвечает следующий список, где каждый синоним для удобства дальнейшего рассуждения обозначается символом Е (от слова «expression») и порядковым номером:
E1 – mourir ( = умереть)
E2 – décéeder ( = скончаться)
E3 – crever ( = издохнуть, подохнуть, сдохнуть)
E4 – expirer ( @ испустить дух)
E5 – claquer ( @ загнуться)
E6 – rendre l'esprit ( @ отойти)
E7 – trépasser ( @ упокоиться)
Что касается второй половины вопроса, то тут прежде всего бросается в глаза разница между стилистическими течениями этих семи синонимов: эквивалентные в отношении общего денотативного (предметно-логического) знамения, эти выражения представляют его, так сказать, и разном свете, с разных, порой противоположных позиций. Мы ощущаем это интуитивно, но наша интуиция может быть подкреплена наблюдением над текстами (собственно говоря, на этом она и основывается) и простейшим лингвистическим экспериментом.
Подберем сначала для каждого из выражений списка, начиная с Е2, типичный для него контекст (контексты):
E2. Paul Bastid, ancien dirigeant du parti radical socialiste, est décédé dans la nuit du 29 au 30 octobre à l'âge de 82 ans. (Humanité)
E3. Le vieil Hindenburg va crever, Johanna ... Crever, oui, crever! Comme un chien! (J.-P. Sartre, «Les Séquestrés d'Altona»)
E4. 1) Pris d'une bronchite en allant chez des amis, c'est le 18 novembre 1922 que Marcel Proust expirait. (Lagarde et Michard, XXe siècle)
2) Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire! (Rouget de Liste)
E5. Un gentleman dans un frac
A dit: Poupée, si je claque,
J'voudrais qu'ce soit dans un lac,
Un lac de cognac.
(Современная песня)
E6. Quelques heures après il rendit doucement l'esprit, le dix-septième de janvier de l'année 395, l'an seizième de son empire et la cinquantième de son âge. (Fléchier)
E7. Tous furent remplis d'admiration et rendirent grâces à Dieu; ensuite ils ensevelirent le saint corps avec honneur. Or, elle trépassa le 8e jour d'octobre, vers l'an du Seigneur 290. (Jacques de Voragine, «La Légende dorée»; traduction moderne)
Попробуем теперь заменить в каждом из этих контекстов употребленное в нем выражение поочередно всеми остальными синонимами, вошедшими в наш список. Ясно, что с точки зрения общего смысла этих отрывков – как говорится, на уровне денотативного значения – такая замена возможна, поскольку все семь синонимов денотативно равнозначны: какой из них ни возьми, в какой контекст ни вставь, все равно читатель поймет, что человек, о котором идет речь, умер, или умрет, или умирает, или может умереть.
Таблица 1.
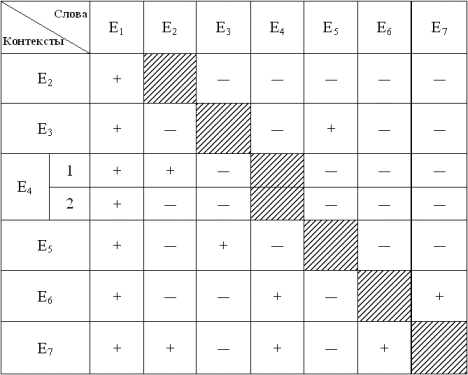
Но сохранится ли при такой замене общий характер каждого из текстов как «речевого действия», обладающего определенной прагматикой, т.е. выполняющего определенное задание и отражающего определенное отношение субъекта речи к сообщаемому факту и к процессу коммуникации? Другими словами – останется ли хотя бы в относительной неприкосновенности стиль каждого из отрывков?
Конечно, отвечая на этот вопрос, в каждом конкретном случае приходится руководствоваться опять-таки интуицией, языковым чутьем. Но если обратиться с нашим вопросом к информантам – носителям языка и если их ответы совпадут, то интуиция приобретает необходимую доказательность. Так и было сделано в данном случае. Результаты опроса трех информантов представлены в таблице, где горизонтальные строки соответствуют приведенным выше примерам, а вертикальные столбцы – синонимам из списка; знак + или – в каждой клетке таблицы означает возможность или невозможность подстановки данного выражения в данный контекст без нарушения общего характера и стилистической целостности последнего. В тех случаях (очень немногочисленных), когда мнения информантов расходились, вопрос решался большинством голосов. Само собой разумеется, что каждый синоним свободно подставляется в свой собственный контекст, – поэтому соответствующие клетки таблицы заштрихованы.
Минусов в таблице получилось значительно больше, чем плюсов (точнее, в два раза больше). Из этого следует, что, по крайней мере в данном случае, взаимозаменяемость синонимов в контексте, которую часто рассматривают как один из важнейших признаков синонимии 1, на практике оказывается весьма ограниченной. Скажем сразу, что обнаруживается всякий раз, когда от рассмотрения отдельных, так сказать, обезличенных предложений, мы переходим к рассмотрению относительно целостных контекстов, несущих явный отпечаток ситуации, в которой они были порождены, и задачи, которую ставил перед собой субъект речи 2, – т.е. всякий раз, когда мы вводим в поле зрения лингвистики человека как личность и партнера социально обусловленной коммуникации. Как явствует из всего сказанного в первой главе, вне такого подхода стилистика просто не может существовать.
Вернемся к таблице и посмотрим более пристально, как взаимодействует каждое из выражений с «чужими» контекстами. Прежде всего бросается в глаза универсальность Е1 (mourir), которое легко вписывается в любой контекст, не нарушая, а лишь слегка сглаживая стиль. Такой же широкой стилистической сочетаемостью обладает слово voiture из ряда voiture – automobile – véhicule – auto – bagnole и т.д. Теперь должно быть ясно, почему, подбирая типичные контексты для каждого из синонимов mourir, мы начали сразу с Е2: для Е1 практически любой контекст хорош; оно широко употребляется и в газете, и в житиях святых, и в современной поэзии, и в разговорной речи; им можно воспользоваться, говоря и о знаменитом, всеми почитаемом писателе (C’est en plein gloire qu’il [Anatole France] mourut en 1924. – Lagarde et Michard), и о герое Сопротивления (Un home est mort qui n’avait pour défense / Que ses bras ouverts à la vie. – Eluard), и о гангстере, погибшем в пьяной драке (Un des truands est mort à la suite de ses blessures pendant qu’on le transférait à l’hôpital. – Humanite). Схематически отношение Е1 к другим выражениям нашего списка можно изобразить так:
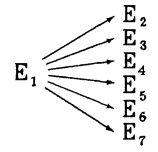
Это значит, что Е1 способно заменить любой другой синоним ряда; из чего однако, не следует, что любой синоним способен заменить Е1 в любом, контексте, – иначе Е2, Е3, Е4 и т.д. тоже были бы взаимозаменяемы между собой; таблица же показывает, что дело обстоит иначе.
Е1 находится, таким образом, в совершенно особенном, привилегированном положении по сравнению с другими членами ряда. Почему? Потому что mourir само по себе передает факт без всякого комментария, не сообщает ровным счетом никакой дополнительной информации о субъекте речи и ситуации общения, которая могла бы войти в противоречие с контекстом. Е1 имеет нулевое стилистическое значение; но, как мы уже говорили (§17), нулевое стилистическое значение – это не отсутствие стилистического значения. В терминологии Ш. Балли mourir (как и voitureе в соответствующем синонимическом ряду) – это идентифицирующее слово (terme d’identification) для данного синонимического ряда. Идентифицирующее слово определяется в его «Стилистике» как «самое простое, самое общее и самое понятное слово, которое содержит в зародыше все остальные слова синонимического ряда» 3, как слово, «выражающее основной смысл, общий для всех синонимов, причем в наиболее объективной, наиболее рассудочной и наименее эмоциональной форме» 4.
В лексикологии идентифицирующее слово именуется доминантой синонимического ряда; слова, рассматриваемые как доминанты, чаще всего стоят во главе статей синонимического словаря.
Идентифицирующее слово, как правило, наиболее употребительно; это самый обычный способ выразить данное понятие.
По сравнению с Е1 остальные синонимы гораздо более капризны, т.е. специализированы в своем употреблении. Если внимательно посмотреть на нашу таблицу, можно обнаружить ряд взаимных симпатий и антипатий, притяжений и отталкиваний. Так, полностью взаимозаменяемыми (по крайней мере в данных контекстах) оказались Е3 (crever) и Е5 (claquer), Е6 (render l’esprit) и Е7 (trépasser). Это можно записать так: Е3  Е5; Е6
Е5; Е6  Е7. В то же время эти пары четко противостоят одна другой:
Е7. В то же время эти пары четко противостоят одна другой:
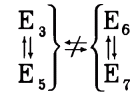 ,
,
то есть контексты, характерные для Е3 и Е5, как правило, не принимают Е6 и Е7, а контексты, в которых нормально фигурируют Е6 и Е7, никогда не допускают замены последних Е3 и Е5. (Примерно в таких же отношениях находятся bagnole, guimbarde и tacot, с одной стороны, и automobile и véhicule – с другой). Причина таких отношений между названными четырьмя синонимами mourir заключается в том, что Е3 и Е5 имеют стилистическое значение, противопоставленное стилистическим значениям Е6 и Е7, по-видимому, еще более близким друг другу. Стилистические значения внутри каждой пары сближаются друг с другом, а стилистические значения каждой из пар противостоят друг другу в первую очередь своими эмоционально-оценочными компонентами: как видно из соответствующих контекстов, Е3 и Е6 имплицитно выражают отрицательное отношение говорящего к субъекту, о котором идет речь 5, а Е6 и Е7 – сугубо положительное. Эмоционально-оценочный компонент стилистического значения слова может участвовать в формировании двух аспектов прагматической информации, выражаемой стилем высказывания: эмоциональное состояние субъекта речи и отношение субъекта к предмету и (или) адресату речи (см. выше § 7).
По этой же линии Е3, Е5 и им подобные (не фигурирующие в списке) противостоят Е2 (décéder). Так же, как Е6 и Е7, это выражение предполагает положительное (во всяком случае, почтительное) отношение говорящего к субъекту; этим и объясняется:
 . Впрочем, относительно этой последней формулы следует сделать ту же оговорку, что и относительно предыдущей:
. Впрочем, относительно этой последней формулы следует сделать ту же оговорку, что и относительно предыдущей:
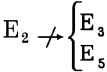
имеет менее императивный характер, чем
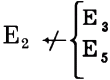 ; Е2 (так же, как Е6 и Е7) может иногда фигурировать в «уничижительном» контексте, т.е. в контексте, выражающем в целом отрицательное отношение к субъекту, – в таких случаях говорят об ироническом употреблении слова с положительной эмоциональной окраской; при таком употреблении эмоционально-оценочный компонент стилистического значения слова как бы «меняет знак (ср. выше, в § 17 и 18, фразу: Avancez l’automobile du singe!). Аналогичным образом, но на денотативном уровне, человеку, сказавшему глупость, можно, например, заметить: «Votre remarque est bien subtile!» – как правило, с соответствующей «иронической» интонацией. Такое явление называется антифразой.
; Е2 (так же, как Е6 и Е7) может иногда фигурировать в «уничижительном» контексте, т.е. в контексте, выражающем в целом отрицательное отношение к субъекту, – в таких случаях говорят об ироническом употреблении слова с положительной эмоциональной окраской; при таком употреблении эмоционально-оценочный компонент стилистического значения слова как бы «меняет знак (ср. выше, в § 17 и 18, фразу: Avancez l’automobile du singe!). Аналогичным образом, но на денотативном уровне, человеку, сказавшему глупость, можно, например, заметить: «Votre remarque est bien subtile!» – как правило, с соответствующей «иронической» интонацией. Такое явление называется антифразой.
Противоположный по направлению переход – употребление слова с отрицательной эмоциональной окраской в положительном значении – вообще возможен, но не в нашем случае. Такое бывает, например, в языке влюбленных, в обращении к ребенку и т.п. В русском языке с его развитой суффиксальной системой подобное переосмысление эмоциональной окраски слова может порождать парадоксальные по своей сути образования, например, «мордочка» в применении к детскому лицу: «морда», уничижительный синоним слова «лицо», принимает здесь уменьшительно-ласкательный суффикс, несущий прямо противоположное стилистическое значение. Ср.: французское ласкательное «Mon petit rat».
Вернемся к таблице взаимозаменяемости синонимов. Итак, мы как будто установили причину, по которой E3 (crever) и Е6 (claquer) не вписываются в контексты, характерные для Е2 (décéder), Е6 (render l’esprit) и Е7 (trépasser); и наоборот: контексты, характерные для Е3 и Е5, как правило, не принимают Е2, Е6 и Е7; короче говоря:
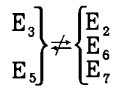
Но почему же, с одной стороны, нет полной взаимозаменяемости между Е2 и Е6, Е7 (если контекст Е7 еще способен принять Е2, то контекст Е2 выражение Е7 не принимает, т.е. Е2 → Е7, но Е7  Е2), а с другой стороны – почему
Е2), а с другой стороны – почему
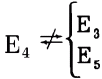 ? Ведь Е2, равно как Е6 и Е7 обладает положительной эмоциональной окраской, а Е4, судя по примеру Е4 (2) – Que tes ennemis expirants / Voient ton triomphe et notre gloire., – способно выразить отрицательное отношение к субъекту, подобно Е3 и Е6 (в особенности если вспомнить, что в другой строфе «Марсельезы» эти враги именуются «cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés»). Но в то же самое время expirer в контексте Е4 (1) как будто выражает положительное отношение к субъекту (c'est le dix-huit novembre 1922 que Marcel Proust expirait), то есть Е4 обладает, по-видимому, нулевой эмоциональной окраской, что должно было бы позволить ему фигурировать и в «отрицательных» контекстах, подобных Е3 и Е5.
? Ведь Е2, равно как Е6 и Е7 обладает положительной эмоциональной окраской, а Е4, судя по примеру Е4 (2) – Que tes ennemis expirants / Voient ton triomphe et notre gloire., – способно выразить отрицательное отношение к субъекту, подобно Е3 и Е6 (в особенности если вспомнить, что в другой строфе «Марсельезы» эти враги именуются «cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés»). Но в то же самое время expirer в контексте Е4 (1) как будто выражает положительное отношение к субъекту (c'est le dix-huit novembre 1922 que Marcel Proust expirait), то есть Е4 обладает, по-видимому, нулевой эмоциональной окраской, что должно было бы позволить ему фигурировать и в «отрицательных» контекстах, подобных Е3 и Е5.
Очевидно, совпадение или несовпадение эмоционального компонента стилистического значения синонимов еще не решает вопроса об их взаимозаменяемости, из чего следует, что стилистическое значение не исчерпывается эмоциональным компонентом, положительной или отрицательной эмоциональной окраской. Должно быть что-то еще, что мешает полной взаимозаменяемости Е2 и Е6, Е7, Е4 и Е3, Е6. Это «что-то» вынесено в заглавие параграфа.
Балли считал эту сторону стилистического значения не компонентом, т.е. составной частью последнего, а особым типом стилистической окраски: по его мнению, слово обладает либо собственной эмоциональной окраской («effet naturel»), либо социальной окраской, которая именуется в подлиннике «effet par évocation d'un milieu» (дословно «эффект, вызываемый представлением о той или иной среде»). Мы же будем рассматривать стилистическое значение не как нечто цельное и неразложимое, а как составную единицу – подобно тому, как в современной семантике предметно-логическое значение слова рассматривается как совокупность (система) элементарных единиц смысла, именуемых семами или семантическими множителями.
Итак, будем считать, что стилистическое значение лексической единицы складывается из двух основных компонентов: эмоционального и, условна говоря, социально-жанрового, эмоциональной и социальной окраски. Ниже мы рассмотрим проблемы, связанные с социально-жанровым компонентом, в более общем плане. А пока вернемся к нашим синонимам.
Какие же конкретные свойства стилистических значений Е4 (expirer), с одной стороны, и Е3 и Е5 – с другой, мешают их взаимозаменяемости? Не вдаваясь в подробности, не пытаясь точно определить, представление о какой же социальной среде или жанре вызывает глагол expirer, скажем, что это выражение вообще – а в особенности рядом с crever и claquer – выглядит как слово «высокого стиля», т.е. слово важное, торжественное, обладающее определенным социальным престижем (об этом свидетельствуют и оба контекста); что же касается crever и laquer, то они вообще – а в особенности рядом с expirer (а также décéder, rendre l’esprit и trépasser) – воспринимаются как стилистически сниженные. Е3 и Е5, таким образом, противостоят Е2, Е6 и Е7 одновременно по обоим компонентам стилистического значения, а Е4 – только по второму, социально-жанровому. Друг другу же они не противостоят ни по тому, ни по другому (что и определяет их взаимозаменяемость), но слегка различаются по второму: claquer обычно оценивается как более сниженное, чем crever (словарь Бенака, в частности, определяет claquer как арготизм).
В ряду voiture – auto – bagnole и т.д. слова bagnole, guimbarde и tacot противостоят automobile и véhicule прежде всего по социально-жанровому компоненту стилистического значения как стилистически сниженные стилистически возвышенным. В то же время quimbarde и tacot противостоят не только automobile и véhicule, но и bagnole по эмоционально-оценочному компоненту как уничижительные оценочно-нейтральным. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что слово bagnole может быть употреблено в такой фразе, как Ça c'est de la bagnole! (Ch. Rochefort) ( = «Вот это машина, так машина!»), где ни guimbarde, ни tacot сказать невозможно; но при этом bagnole часто фигурирует и в уничижительных контекстах типа: Elle est moche, ta bagnole! ( @ «Барахло у тебя машина!»).
Что же касается неполной взаимозаменяемости Е2 (décéder), с одной стороны, и Е6 и Е7 – с другой, то здесь дело обстоит несколько сложнее. Как мы установили, все три. имеют положительную эмоциональную окраску; на первый взгляд, не противостоят они друг другу и по социальной окраске: во всяком случае, стилистически сниженным ни одно из них не назовешь. Причина их неполной взаимозаменяемости состоит в том, что, с одной стороны, déséder (как и véhicule) в современном языке приурочено (хотя и не очень жестко, а скорее вероятностно) к одной определенной сфере употребления – к жанру официальных документов, извещений и т.п., т.е. к так называемому административному стилю; однако в классическом языке этот глагол употреблялся и в иных контекстах («Honore les gens de bien qui sont décédés!» – Fléchier; цит. по Grand Dictionnaire Larousse). С другой стороны, render l’esprit и trépasser воспринимаются современными французами как слова с явной архаической окраской. Ясно, что слово подчеркнуто «высокого стиля», да еще с архаической окраской, не вписывается в контекст современного официального документа, типичный для décéder; но в то же время это последнее выражение, как правило, не диссонирует в контексте, типичном для Е6 и Е7, поскольку сравнительно недавно (с лингвистической точки зрения, конечно) оно было употребительно и в такого рода контекстах.
Из всего сказанного в двух предыдущих параграфах можно сделать два принципиально важных для нас вывода.
1. В отличие от эмоционально-оценочного компонента стилистического значения, который выступает либо как положительная, либо как отрицательная, либо, наконец, как нулевая эмоциональная окраска – три значения 'одного и того же признака – и таким образом представляет собой своего рода одномерную шкалу с тремя основными делениями (+, 0, –), тот компонент стилистического значения, который мы условно назвали социально-жанровым, предполагает существенно большее разнообразие более или менее разнородных признаков или «окрасок». Только в наших примерах их обнаружилось три: 1) степень стилистической возвышенности – сниженности; по этому признаку наши семь синонимов можно расположить в таком порядке («сверху вниз»): trépasser, rendre l'esprit – expirer – décéder – mourir – crever – claquer; automobile, véhicule – voiture – auto – guimbarde – bagnole – tacot; 2) приуроченность к определенному более или менее четко очерченному классу речевых жанров; по этому признаку выделяется décéder; 3) степень архаичности – новизны слова; здесь как архаизмы выделяются trépasser и rendre l’esprit; остальные с этой точки зрения выступают как немаркированные, т.е. нейтральные. Но этими тремя признаками социально-жанровая окраска языковой единицы не исчерпывается. Уже упомянутый выше французский лингвист Пьер Гиро насчитывает всего шесть основных компонентов или разновидностей социальной окраски (valeur évocatoire) 6:
Таким образом, социально-жанровый компонент, в отличие от эмоционального – одномерной шкалы, удобно представить себе в виде многомерного пространства. Ниже мы вернемся к этому вопросу и посмотрим, как можно упорядочить это пространство, для того чтобы экономно и по возможности точно описывать стилистические значения языковых единиц.
2. Проделанный нами эксперимент показал, что эмоциональная и социально-жанровая окраски суть самостоятельные компоненты стилистического значения слова. Однако между стилистической возвышенностью и положительной эмоциональной окраской, равно как и между стилистической снижеиностью и отрицательной эмоциональной окраской, обнаруживается своего рода взаимное тяготение: из четырех выражений, которые мы определили как стилистически возвышенные, три (décéder, trépasser и render l’esprit) несут положительную эмоциональную окраску, а оба выражения с отрицательной эмоциональной окраской являются в то же время стилистически сниженными. И так обстоит дело не только во взятом нами синонимическом ряде – это общая тенденция. Конечно, исключения бывают – то же expirer, которое, как было отмечено выше, имеет нулевую эмоциональную окраску; ср. также; agissements, machination, espion и другие – слова, которые, не будучи стилистически сниженными, несут явно отрицательную эмоциональную окраску. Можно найти и стилистически сниженные выражения с положительной эмоциональной окраской, например фамильярно-арготическое субстантивированное dur (Sans doute je l’estimais toujours: c’était un dur. – Sartre). Но в целом тенденция, о которой только что шла речь, бесспорно существует 7.
Каковы же истоки этой тенденции? И не ставит ли она под сомнение нашу классификацию, само разграничение двух основных компонентов стилистического значения лексической единицы? Видимо, все-таки нет: ведь уже наш простейший эксперимент показал, что разграничивать их не только полезно, но и необходимо.
Что касается самой тенденции, то ее можно объяснить следующим. Социально-жанровый компонент стилистического значения обычно сигнализирует принадлежность субъекта к определенной группе и (или) принадлежность сообщения к определенному классу речевых жанров, т.е. ролевую структуру коммуникации. Выше мы отметили, что, с одной стороны, понятия группы (среды) и роли соотносительны (см. § 8), ас другой, – что интернализованная роль предполагает (хотя и в достаточно широких пределах) определенное эмоционально-оценочное отношение к предмету и адресату речи (§ 10). Так, например, социальные роли (и соответствующая социальная среда), которые на уровне речевого поведения характеризуются употреблением арго (как бы мы ни определяли это понятие), отличаются в целом грубовато-циничным отношением к миру, человечеству, социальным ценностям (см. ниже, § 126). Отсюда преобладание среди арготизмов слов' с отрицательной эмоциональной окраской типа claquer. Кроме того, низкий социальный престиж, которым пользуются среди остальной части общества типичные носители арго, отрицательное отношение к ним со стороны «порядочных людей» может привести к переосмыслению эмоционального компонента стилистической окраски (подробнее об этом см. ниже).
Нельзя забывать и то, что эмоциональное отношение говорящего к предмету речи может выражаться непосрёдственно денотативными значениями лексических единиц, так называемой оценочной лексикой: «Je la nommai cent fois perfide et déloyale / Je comptains tous les maux qu’elle m’avait causés...» (A. De Musset)
По-видимому, в стилистически возвышенных контекстах отрицательное отношение к предмету речи выражается по преимуществу денотативно (как и положительное отношение в стилистически сниженных контекстах). Но в применении к эмоционально-оценочной лексике сама задача разграничения денотативного и коннотативного представляет значительные трудности, к этой проблеме нам еще придется вернуться.
Эксперимент, который мы проделали с лексическими синонимами, может быть проведен и с единицами других уровней языка. Однако для экономии места мы этого делать не будем: и так ясно, что ненормативная грамматическая форма les chevals или Je m’ai sauvé (см. выше, § 20) не вписывается в грамматически правильный контекст, а какая-нибудь типично разговорная конструкция будет выглядеть неуместной в научной статье.
Выше, в § 20, мы утверждали, что план содержания различных «стилистических знаков» един, т.е. что единицы разных уровней языка обладают либо одинаковыми, либо сходными, во всяком случае, сопоставимыми стилистическими значениями. Это было показано на примере нелитературной формы образования passé composé местоименного глагола (Je m’ai sauvé), отдельного слова (cinglé ‘fou’), ненормативной синтаксической конструкции типа le type que j’en ai cause и произносительного варианта [рtεt] ( = peut-être), – всем этим выражениям мы приписали одно и то же стилистическое значение – просторечность. Теперь мы можем обобщить это наблюдение и написать, что единицам всех уровней языка потенциально присущ социально-жанровый компонент стилистического значения, или, иначе говоря, социально-жанровая окраска.
Однако в этом отношении между лексическими единицами и единицами других уровней есть и существенная разница. В предыдущем параграфе мы установили, что социально-жанровая окраска лексических единиц может быть достаточно разнообразной: только по степени стилистической возвышенности – сниженности члены рассмотренного нами синонимического ряда mourir образуют градацию из шести членов; кроме того, некоторые слова могут быть приурочены к какому-то определенному классу жанров, а также к языку определенной социальной, территориальной или возрастной группы. Единицы других уровней языка такого разнообразия социально-жанровых окрасок, как правило; не дают. Так, ряд вариантов, в который входит названная здесь форма образования passé composé местоименных глаголов, насчитывает всего два члена: нормативную форму (Je me suis sauvé) и ненормативную. Здесь уже не градация, а, как говорят, бинарная, т.е. парная оппозиция: нормативность – ненормативность. Это относится и к ненормативным синтаксическим конструкциям, вообще – к большинству фактов грамматики, как морфологии, так и синтаксиса (подробнее об этом см. § 79, 120).
Фонетическая вариативность дает обычно несколько более расчлененный диапазон стилистических значений; в частности, произносительные варианты слов и отдельных фонем могут четко характеризовать говорящего как носителя каких-то диалектных черт языка, а также отражать его представление о ролевой структуре коммуникации (см. ниже, § 83). Но в целом, по сравнению с лексическими синонимами, произносительные варианты тоже обладают более обобщенной социально-жанровой окраской.
Сходная картина получается и в отношении того, что мы назвали выше эмоционально-оценочным компонентом стилистического значения. Только что упомянутые ненормативные формы и конструкции, как и их нормативные эквиваленты, эмоциональной окраски лишены – это касается вообще всех фактов интерперсональиой вариативности (см. выше, § 8), т.е. такой вариативности, которая отражает происхождение индивида и не оставляет ему свободы выбора. Эмоциональной окраски лишены и явления фонетической вариативности – за исключением интонации и так называемого эмфатического ударения. Впрочем, диалектные особенности произношения могут косвенно отражать эмоциональное состояние субъекта: в речи людей, овладевших лишь в сознательном возрасте литературной произносительной нормой, диалектные черты нередко возникают снова в моменты сильного волнения 8. Однако такие рецидивы, косвенно свидетельствуя об эмоциональном возбуждении говорящего, оценочного компонента сами по себе не несут – вызвавшая их эмоция может быть как положительной, так и отрицательной.
Последнее характерно и для синтаксической вариативности или синонимии на уровне поверхностного синтаксиса (подробнее об этом типе вариативности будет сказано в § 74-75). Этот тезис заслуживает более подробного рассмотрения.
Возьмем две фразы:
- En liberté surveillée qu'il est, Léon! (Aragon)
- Léon est en liberté surveillée.
Денотативная и десигнативная эквивалентность обеих фраз не подлежит сомнению. Грамматическая структура у них тоже одинакова: в обеих Léon – подлежащее, en liberté surveillée – предикатив (именно такая общность грамматической структуры и характеризует поверхностно-синтаксические синонимы). Что касается их стилистических значений, то мы ощущаем, что первая отличается от второй – стилистически нейтральной, – прежде всего, большей эмоциональностью, явно выраженным эмоциональным отношением субъекта к предмету речи, которое и отражено в специфической структуре фразы и в сопутствующей этой структуре особой интонации. Однако оценку предмета речи сама по себе эта конструкция не несет: в приведенном примере мы не можем судить, какие именно чувства вызывает у субъекта речи сообщаемый факт, доволен он им или недоволен. Об этом свидетельствует и то, что мы можем заполнить «гнезда» конструкции самыми различными по значению оценочными словами – например: Un brave type qu’il est, Léon! и Un salaud qu’il est, votre Léon!
Вообще: синтаксические конструкции, выражающие эмоцию, безразличны к характеру этой эмоции, одни и те же конструкции употребляются для выражения и одобрения, и осуждения, и гнева, и радости, и страха, и удивления, и т.д., и т.п. Из этого следует, что синтаксическим конструкциям присуща не эмоционально-оценочная, а просто эмоциональная окраска, и с этой точки зрения поверхностно-синтаксические синонимы противопоставляются друг другу прежде всего как эмоциональные неэмоциональным (правда, как мы увидим в дальнейшем, градация эмоциональности здесь возможна – денотативно эквивалентные синтаксические конструкции могут быть не только эмоциональными или неэмоциональными, по принципу «все или ничего», но и более или менее эмоциональными).
Однако эмоциональностью – неэмоциональностью и нормативностью – ненормативностью стилистическое значение синтаксических конструкций не исчерпывается.
Возьмем такую фразу:
On constate [...] qu'il existe des formules intonatives d'approbation et de doute, variables ethniqfuejnent, qui incitent l'émetteur à poursuivre ou a arrêter son message. (Dubois)
Наш читательский опыт подсказывает, что это вне всякого сомнения отрывок из научной, в частности лингвистической книги или статьи. Пытаясь оправдать это впечатление, мы, видимо, укажем в первую очередь на лексику – общекнижные слова: formule, approbation, variable, inciter; специальные термины: intonatif, ethniquement, émetteur. Однако дело здесь отнюдь не только в лексике. Перестроим эту фразу следующим образом:
On constate qu'il existe des formules spéciales qui relèvent de l'intonation. Elles servent à exprimer l'approbation et le doute et varient selon les peuples. Ces formules incitent l'emetteur à poursuivre ou à arrêter le message.
Количество книжных слов и специальных терминов уменьшилось очень незначительно, тем не менее стиль отрывка существенно изменился. Если первый вариант несет на себе явный отпечаток письменной речи, то второй мог бы быть порожден и устно – так, допустим, мог бы излагать этот материал на экзамене студент. Приведем сходный русский пример: «Заяц бежит так быстро, что волку его не поймать. – Быстрота бега зайца делает невозможной (маловероятной) поимку его, волком».
Чем конкретно отличаются друг от друга эти варианты, мы сейчас разбирать не будем – об этом пойдет речь в главе VII. Для нас важно сейчас другое: приведенные примеры показывают, что, помимо нормативности – ненормативности и эмоциональности – неэмоциональности, синтаксические структуры могут обладать еще одной стилистической характеристикой – они могут быть преимущественно приурочены либо к устной, либо к письменной речи. Условно назовем этот компонент стилистического значения спонтанностью – неспонтанностью.
Таким образом, мы получили три базовых компонента или признака стилистического значения синтаксических конструкций, причем каждый из этих признаков может выступать в двух значениях – положительном и отрицательном, со знаком плюс и со знаком минус (нормативность – ненормативность, эмоциональность – неэмоциональность, спонтанность – неспонтанность). Такие признаки в лингвистике называются дифференциальными, или различительными (так, например, фонемы р и b различаются по дифференциальному признаку глухость – звонкость).
Однако первые два могут быть с успехом применены и для описания стилистических значений единиц других уровней языка, в частности лексики. Выше, в § 38 и 39, мы установили, что, по сравнению с лексикой, единицам других уровней языка свойственны более обобщенные стилистические значения: например, там, где лексика дает градацию, морфология и синтаксис дают бинарную оппозицию. Но стилистические значения тех и других единиц все равно сопоставимы, потому что эта градация сводима к бинарной оппозиции, – все многочисленные и разнообразные социально-жанровые окраски лексических единиц могут быть соотнесены с нейтральной, нулевой, и определены как нормативные или ненормативные в зависимости от того, располагаются ли они выше или ниже последней на шкале стилистической возвышенности – сниженности (последняя фактически совпадает со шкалой нормативности – ненормативности). Так, если взять уже использованный нами синонимический ряд глагола mourir (см., в частности, § 37,1), то trépasser, rendre l’âme, expirer, décéder и саму доминанту ряда mourir мы определим как нормативные выражения, а стилистически сниженные crever и claquer – как ненормативные. Аналогичным образом voiture, automobile, véhicule и auto должны быть признаны нормативными, а bagnole и tacot – стоящими за пределами нормы. Вообще все виды социально-жанровой окраски лексических единиц, за исключением, может быть, архаичности новизны, можно подвести под оппозицию «нормативность – ненормативность», т.е. спроецировать «многомерное пространство» на эту ось (подробнее этот вопрос будет обсужден ниже, в главе VIII) 9.
Такое сведение разнообразных социально-жанровых окрасок лексических единиц к простой бинарной оппозиции нужно лишь как начальный этап их классификации – для того, чтобы отразить их сопоставимость с обобщенными социально-жанровыми окрасками фактов грамматики, в частности, стилистическую близость всей сниженной, ненормативной лексики и ненормативных явлений других уровней языка, с одной стороны, и нормативного в лексике и в грамматике (а также в фонетике) – с другой. После того как это первичное деление всех лексических единиц на нормативные и ненормативные произведено, мы можем вносить все необходимые уточнения, строить более дробную и тонкую классификацию их стилистических значений.
Все сказанное здесь о социально-жанровой окраске относится и к эмоциональной: любая языковая единица может быть определена как потенциально эмоциональная или потенциально неэмоциональная, а уже потом – как носитель положительной или отрицательной эмоциональной окраски (если таковая ему вообще присуща).
Что касается спонтанности – неспонтанности, то эта характеристика приложима в первую очередь к синтаксису, но, как мы увидим в дальнейшем, своеобразно отражается и в лексике. Поэтому, отвлекаясь пока от частностей, мы можем исходить из того, что любая единица языка может быть охарактеризована с указанных трех точек зрения, даже если она и не обладает вариантом или синонимом, который имел бы противоположное стилистическое значение. В этом случае единице приписывается то значение признака, которое выступает как немаркированный член оппозиции. Так, например, имперфект индикатива, практически не имеющий денотативных эквивалентов, может быть охарактеризован как форма неэмоциональная, нормативная и спонтанная. Таково же стилистическое значение всех форм, которые мы определяем как стилистически нейтральные.
Но, являясь базовыми дифференциальными признаками стилистических значений языковых единиц, эти три стилистические характеристики должны тем самым выступать и как дифференциальные признаки стиля – ведь стиль складывается из стилистических значений. Всякое высказывание – устное, письменное, разговорное, книжное, официально-деловое, художественное и т.д. – прежде всего эмоционально или неэмоционально (более или менее эмоционально), спонтанно или неспонтанно (более или менее спонтанно), нормативно или ненормативно (более или менее нормативно).
Из этого не следует, что стилистический анализ высказывания (текста) должен и может ограничиваться констатацией этих признаков стиля. Нет, такой анализ – это только начало; как мы уже говорили в предыдущей главе, цель анализа текста состоит в том, чтобы построить модель структуры коммуникации и личности субъекта речи как диалектического единства общего и частного, социального и индивидуального. Но начинать строить надо с фундамента, и прежде всего надо прочно овладеть языком этих первичных, базовых коннотаций. Задаче научить этому языку и подчинена вся остальная часть этой книги.
Прежде чем закончить этот раздел, укажем еще одно возможное применение нашей системы из трех базовых дифференциальных признаков стилистического значения и стиля. Если эти признаки могут характеризовать стиль любого высказывания, то, очевидно, они могут быть использованы и для стилистической классификации основных типов речи.
Обозначим каждый из признаков символом: а – эмоциональность, a – неэмоциональность; с – спонтанность, с – неспонтанность; н – нормативность, н – ненормативность. Теперь мы можем составить таблицу всех возможных сочетаний этих признаков и посмотреть, каким типам речи или «функциональным стилям» соответствует каждая комбинация.
Таблица 2
| 1. а с н | Эмоциональный нормативный разговор – «литературно-разговорная речь». |
| 2. а с н | Эмоциональный ненормативный разговор – «фамильярно-разговорная речь». |
| 3. а с н | Эмоциональная неспонтанная литературная речь – «публицистический стиль», «ораторский стиль», «литературно-повествовательный стиль» и т.п. |
| 4. а с н | Эмоциональная неспонтанная ненормативная речь – например, дружеское письмо человека, не владеющего литературной нормой; тип менее распространенный, чем первый, второй и третий. |
| 5. а с н | Неэмоциональный нормативный разговор; тип менее распространенный, чем первые три. |
| 6. а с н | Неэмоциональный ненормативный разговор; тип малораспространенный. |
| 7. а с н | Неэмоциональная неспонтанная литературная речь – очень большая группа «информационных» жанров: «официально-деловой стиль», «научный стиль» и т.д. |
| 8. а с н | Неэмоциональная неспонтанная ненормативная речь – например, официальное письменное обращение человека, не владеющего литературной нормой. Тип речи, по распространенности близкий к четвертому. |
Анализ восьми возможных сочетаний первичных стилистических окрасок показывает, что не все восемь реализуются в речи с одинаковой частотой: наиболее распространенными являются первый, второй, третий и седьмой типы. Наименее распространенным – шестой тип. Промежуточное положение занимают четвертый, пятый и восьмой. Это явление объясняется тем, что первичные стилистические признаки не вполне взаимонезависимы: с тяготеет к а, спонтанная речь по преимуществу эмоциональна, в особенности если субъект речи не владеет литературной нормой. К этому явлению мы еще вернемся.
Для того чтобы ответить на этот вопрос, а также попутно выявить некоторые другие свойства стилистического значения, представим уже использованный нами синонимический ряд в виде следующей схемы:
Таблица 3
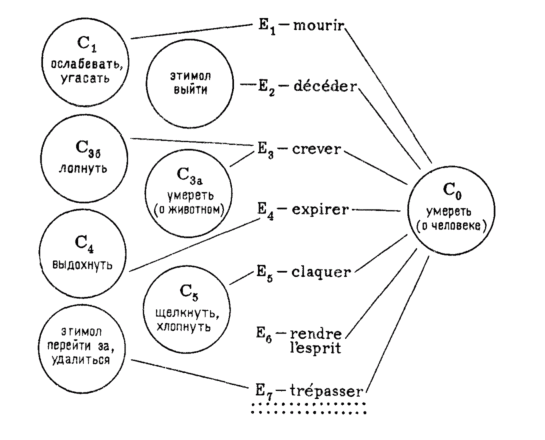
Смысл этой схемы понять нетрудно: она изображает (в упрощенном виде) отношения между семью выражениями (означающими), составившими наш список, и их возможными денотативными значениями (означаемыми) С (от слова contenu); символом С0 (в кружке справа) обозначено их общее денотативное значение – то, которое позволило объединить их в один синонимический ряд; другие возможные денотативные значения этих выражений, обозначенные символом С с соответствующим порядковым номером, изображены в кружках в левой части схемы 10; в таких же кружках, но без символа С, значатся этимологические значения тех из них, которые, кроме С0 иных денотативных значений в современном языке не имеют.
Первый вывод, который можно сделать из этой таблицы, собственно говоря, был уже сформулирован выше (в главе I) как исходная аксиома. Здесь мы выразим его несколько иначе: стилистическое значение языковой единицы не заключено ни в ее денотативном означаемом С, ни в означающем Е, взятом как чистая форма, т.е. как комплекс фонем или графем; оно возникает лишь при соединении данного Е с данным С, т.е. практически при использовании данного означающего как знака данного означаемого.
В самом деле, рассмотрим по отдельности правую и левую части схемы применительно к Е3 – crever. Стилистическое значение Е3 в смысле С0 мы уже выяснили: оно складывается из отрицательной эмоциональной окраски и некоторой стилистической сниженности; его хорошо иллюстрирует контекст, приведенный в § 33: Le vieil Hindenburg va crever. … Oui, crever, crever, comme un chien! Но уже в значении С3а ('умереть' – о животном) crever дает совсем иной стилистический эффект, ср.: Elle va crever, la pauvre bête! То же в русском языке, например у Есенина: «Все прошло, поредел мой волос / Конь издох, опустел наш двор». Отношение Есенина к «братьям нашим меньшим» общеизвестно – об отрицательной эмоциональной окраске здесь не может быть и речи.
Аналогичные наблюдения можно было бы произвести и над Е1, Е3, Е4, Е5 в значениях С1, С3б, С4 и С5: при изменении С стилистическое значение данного Е меняется 11. Употребленное в ином значении, слово включается уже в иной синонимический ряд (если таковой имеется), в котором оно может занимать иную позицию. Так, например, Е1 – идентифицирующее слово с нулевым стилистическим значением в ряду Е1, Е2, Е3 и т.д., объединенном С0, – выступает как стилистически возвышенное, подчеркнуто литературное выражение в денотативном значении С1 ('ослабевать, угасать').
Такое изменение стилистического значения при изменении С происходит, однако, не всегда. Его часто не бывает при полной омонимии (какого бы происхождения она ни была): vol (полет) и vol (кража), louer (снимать, брать напрокат) и louer (хвалить), tirer (тянуть) и tirer (стрелять), cours (течение, ход) и cours (лекция, урок) – идентифицирующие слова и как таковые имеют нулевое стилистическое значение. Однако в тройке boîte (ящик), boîte (картер) и boîte (тюрьма) последнее выражение фамильярно, в то время. как первые два нейтральны. Вообще разные денотативные значения одного слова обычно дают разные стилистические значения в том случае, если одно из них является первичным, а другое (или другие) – производным (переносным), т.е. при полисемии. Наши Е1, Е3, Е4 и Е5 относятся как раз к такому случаю.
Итак, мы установили, что стилистическое значение слова зависит от того, в каком денотативном значении оно мыслится: в многозначном слове различным денотативным его значениям соответствуют, как правило, различные коннотативные. Но чем определяется само коннотативное значение, его основные компоненты, которые мы выделили? Почему décéder имеет положительную эмоциональную окраску и употребляется преимущественно в текстах официального характера, а crever пежоративно и фамильярно?
Одну качественную закономерность мы как будто обнаружили: идентифицирующее слово, доминанта ряда, т.е. слово с нулевым стилистическим значением, как правило, самое распространенное; в соответствии с этим при полисемии основное, т.е. самое распространенное денотативное значение слова, обычно дает нулевое стилистическое значение – на схеме Е1 (С0), Е3 (С3б), Е4 (С4), Е5 (С5); производные же (исторически переносные) значения чаще бывают стилистически окрашены (Е3, Е4 и Е5 в значении С0, а также Е1 в значении С1). Нарушается эта закономерность в том случае, если исторически первичное значение слова выходит или начинает выходить из употребления. Так, в современном французском языке слово chef в его исторически первичном значении 'голова' (от лат. caput) – явный архаизм, употребляющийся почти исключительно в иронических контекстах, в то время как производное значение 'глава, начальник' дает стилистически нейтральное выражение (ср.: chef d’entreprise, chef de bataillon, chef d’Etat и т.п.).
Нельзя ли вообще объяснить стилистическое значение слова, взятого в некотором узуальном денотативном значении, его первичным денотативным значением – живым, бытующим в современном языке, или мертвым, этимологическим?
Что же, попробуем. Возьмем, с одной стороны, пежоративные и стилистически сниженные Е3 (С0) и Е5 (С0), а с другой – стилистически возвышенные (хотя и в разной мере) Е2 (С0), Е4 (С0), Е6 (С0), Е7 (С0). Все они по своему происхождению иносказания метафорического (или метонимического) характера. Связь между исходным значением и С0 в большинстве случаев достаточно прозрачна: décéder и trépasser представляют смерть как уход; empirer – как выдох, т.е. прекращение дыхания (ср.: rendre le dernier soupir – 'испустить последний вздох '); rendre l’esprit – как 'отдачу души' (очевидно, богу – ср. русск.: 'отдавать богу душу'); при этом, так как латинское spiritus (> esprit) первоначально значило 'дыхание', исконное этимологическое значение Е6 оказывается в сущности таким же, как у Е4. Несколько менее естественным кажется переход от первичных значений crever и claquer к значению 'умереть'. Между этимологическими значениями этих выражений, кстати, много общего:, crever восходит к лат. crepare ('трещать', 'треснуть'), а claquer – ономатопеического, т.е. звукоподражательного происхождения (от claque). Таким образом, в обоих случаях исконное этимологическое значение – 'издать резкий, сухой звук'; отсюда, видимо, 'внезапно разрушиться с резким звуком' – ср.: le pneu a crevé (шина лопнула); l’ampoule électrique a claqué (лампочка перегорела). Таким образом, оба они представляют смерть как внезапное разрушение. При этом возможно, что для crever значение 'умереть' [о животном] исторически предшествовало 'умереть' [о человеке], хотя, судя по примерам самого раннего употребления crever в значении 'умереть', относящимся к XIII веку и приводимым в словаре Литре, можно заключить, что это выражение с самого начала применялось как к животным, так и к человеку.
Итак, на первый взгляд, определенная зависимость между первичным денотативным и стилистическим значением слова, употребленного в производном денотативном значении, действительно обнаруживается: все «возвышающие» синонимы mourir первоначально обозначали или обозначают действия, которые могут быть совершены только одушевленным субъектом, а claquer и crever в исходных значениях применялись, наоборот, только к неодушевленным предметам и, следовательно, имплицитно уподобляют человека вещи; во-вторых, первые, если опять-таки исходить из их этимологического значения, как бы смягчают идею смерти (не умер, а «ушел», или «испустил последний вздох», или «отдал богу душу»), т.е. по своему происхождению являются эвфемизмами 12; вторые же, «снижающие», представляют эту идею гораздо более неприкрыто и грубо (да еще уподобляют усопшего вещи, а то и животному).
Все это верно, но верно и то, что вполне «приличное» французское слово tête, доминанта ряда, происходит от латинского testa – 'глиняный горшок', а русские выражения «испустить последний вздох», «испустить дух» и «издохнуть», этимологические близнецы, имеют различные, даже противоположные (ср. первое и последнее) стилистические значения. К этому можно добавить, что crever в значении 'умереть' [о человеке], самим своим происхождением как будто осужденное на роль пежоративного и фамильярного слова, в былые времена, например, в XVI веке, судя по контекстам, в которых оно употреблялось, не имело такого ярко выраженного стилистического значения, как теперь. Например:
Nous lui jurerons toute fidélité et service [...] pour crever tous à ses pieds pour son dit service (A. d'Aubigné) 13
Таким образом, первичное денотативное значение слова не может во всех случаях объяснить его современное стилистическое значение и, скажем сразу, даже объясняя, как правило, не определяет его, т.е. не мотивирует в сознании современных носителей языка. В самом деле, коль скоро речь идет о выражениях узуальных, т.е. широко известных и привычных (а именно о таких мы и говорим, и из таких составлен наш список), рядовые носители языка, употребляя или воспринимая их, отнюдь не анализируют их внутреннюю форму, не соотносят данное их значение с первичным. Восемь французов из десяти, надо думать, вовсе не знают, откуда пошло слово décéder, но все прекрасно ощущают его стилистическое значение.
Но и в тех случаях, когда внутренняя форма слова вполне прозрачна, когда первичное денотативное значение продолжает бытовать в языке, оно не всплывает в сознании носителя языка при спонтанном употреблении этого слова в ином, исторически производном значении. Любой француз, видимо, способен проанализировать внутреннюю форму expirer в значении 'умереть', точно так же, как любой русский способен ответить на вопрос, откуда произошло слово «издохнуть»; но употребляя эти слова в связной речи, в предложениях, соотносящихся с какими-то реальными или воображаемыми ситуациями, ни тот, ни другой не представляет себе смерть как «последний вздох» в буквальном и конкретном смысле этого выражения; даже говоря «Он испустил последний вздох» или Il a rendu le dernier soupir, никто на самом деле ни о каком вздохе не думает: во всех этих случаях слово (или фразеологическое выражение) употребляется как условный и всем известный знак соответствующего понятия.
Лишь тогда, когда мы сталкиваемся с каким-то выражением впервые, мы начинаем соотносить то значение, в котором оно употреблено, с его первичным, буквальным значением, т.е. воспринимаем его как образ (подробнее об этом см. ниже); так происходит, например, в «Двенадцати стульях», в той сцене, где гробовщик Безенчук объясняет Воробьянинову, как в среде гробовщиков принято говорить о смерти людей, принадлежащих к разным социальным группам, – тоже лекция по лингвистической стилистике! Впрочем, дело здесь не столько в необычности (весьма относительной) выражений, сколько в том, что речь Безенчука (как и наше рассуждение) носит, как говорят, метаязыковый характер: это речь о языке, о словах, в которой эти слова выступают не как знаки каких-то понятий, а как предмет речи внимание сосредоточено не на обозначаемых ими понятиях, а на самих словах, что способствует актуализации, оживлению их внутренней формы.
Поскольку же в обычной речи наиболее употребительные лексические единицы в своих узуальных значениях используются как условные знаки соответствующих понятий, не вызывая представления о своих первичных денотативных значениях, постольку эти последние не могут мотивировать в сознании носителя языка стилистические значения этих единиц. Так подтверждается в применении к конкретной проблеме стилистического значения общее положение Шарля Балли, согласно которому «этимологическое родство двух слов само по себе не представляет никакой ценности для нашего исследования и имеет значение только в том случае, если это живое родство; а живым оно может быть только в том случае, когда оно покрывается и обеспечивается общностью смысла, непосредственно ощущаемой говорящим. Все, что может быть сближено только в результате размышления и анализа, все, что не есть стихийное языковое чувство, не имеет отношения к данному состоянию языка и не может служить предметом нашего исследования» 14.
Из всего сказанного мы можем заключить, что в целом для рядового носителя языка узуальное стилистическое значение, т.е. стилистическое значение, порожденное узуальным употреблением данного выражения, так же условно и немотивированно, как и его денотативное значение. Знак коннотативной семиотической системы (коль скоро речь идет именно об установившейся, общепринятой системе) имеет такой же условный и символический характер, что и большинство знаков денотативной семиотической системы естественного языка.
Используя язык в повседневном общении, люди, как правило, не задаются, вопросом, почему то или иное слово означает то или иное понятие; точно так же они не задумываются над тем, почему, употребленное для обозначения этого понятия, оно несет именно такое, а не какое-нибудь другое стилистическое значение: так уж повелось.
Однако в естественных языках не все условно и немотивированно. Даже в таком «абстрактном» языке, как французский 15, существует множество выражений, в которых большинство носителей языка ощущает определенную связь между означающим и означаемым и при обычном употреблении, не вдумываясь специально в этимологию или в структуру слова.
Так, например, член разобранного нами синонимического ряда mourir, décéder и т.д. Е3 (С0) crever (о человеке), видимо, сохраняет живую связь с Е3 (С3а) crever (о животном); иначе говоря, в каких-то случаях Е3 (С0) воспринимается как образ (ср. наш контекст Е3: [...] Crever, oui, crever! Comme un chien!), и его отрицательная эмоционально-оценочная окраска оказывается мотивированной если не первичным, то во всяком случае более распространенным денотативным значением этого слова. Это же, видимо, можно сказать и о таких общеупотребительных образных выражениях как âne ('individu à l’esprit borné') pie ('femme bavarde'), matou ('coureur de femmes') и многих, многих других.
Наличие в сознании рядового носителя языка такой связи между означающим и означаемым, т.е. психологическая мотивированность знака, придает ему особое свойство – экспрессивность 16.
Мы определим экспрессивность как такое свойство языкового знака, в силу которого он воспринимается деавтоматизированно, непосредственно воздействует на воображение адресата и (или) на его эмоциональную сферу 17. Экспрессивность относится к стилистическому значению языковой единицы, но не является таким же его компонентом как эмоциональность, спонтанность и нормативность, поскольку сама по себе не несет информацию о субъекте речи, а лишь определяет характер и интенсивность восприятия как этой стилистической, так и предметно-логической информации, содержащейся в знаке. Экспрессивность связана с мотивированностью знака, но она не есть мотивированность – во-первых, потому, что определяется не отношением означающего и означаемого, а характером восприятия, а во-вторых, по той причине, что мотивированность – не единственный источник экспрессивности.
В речи экспрессивным может быть практически любое выражение, если оно неожиданно, непредсказуемо 18. Эта непредсказуемость может быть чисто смысловой, так сказать, сюжетной – на этом основаны практически все анекдоты (но, конечно, не только они). Она может быть смысловой и в то же время стилистической – такую экспрессивность приобретает, например, последнее слово четверостишья Гийома Аполлинера «Le paon»:
En faisant la roue, cet oiseau
Dont le pennage traîne à terre,
Apparaît encore plus beau,
Mais se découvre le derrière.
Непредсказуемость может быть и чисто стилистической, когда выражение контрастирует со своим контекстом только стилистическим значением:
Et voyant tout à coup sa voiture en fourrière, sa liberté perdue, l'abîme sous ses pas et le soleil éteint, Crainquebille murmura; «Tout de même!» (France)
Здесь последнее выражение экспрессивно именно своей неэкспрессивностью – градация из четырех одинаково построенных именных групп-дополнений с общим значением 'несчастье', восходящая от вполне конкретного sa voiture en fourrière к метафорическому и гиперболическому le soleil éteint, как будто подготавливает взрыв, крик отчаяния и возмущения, вместо которого фраза разрешается максимально банальным tout de même. В повседневной речевой практике такого рода экспрессивность возникает всякий раз, когда какое-то выражение, обладающее определенной социально-жанровой окраской, употребляется в несоответствующей ей ситуации и контексте (см. выше, § 18); ощущение неловкости, которое вызывают такие факты 19 – это тоже экспрессивность, но неуместная.
Источником экспрессивности в речи может быть и необычная сочетаемость:
Le gendarme s'est dispersé. (Beckett)
C'est la faute à ceux qui pleuvent. (Blavier) 20
Ясно, однако, что к стилистике языка эти случаи экспрессивности прямого отношения не имеют, поскольку возникают лишь в речи, в определенном контексте. Экспрессивность, присущая выражению и вне контекста, как свойство его языкового стилистического значения имеет два основных источника: один из них мы уже упоминали – это мотивированность знака; другой же, относительно более редкий, состоит в том, что можно назвать нарушением социально-культурных конвенций в слове. Оба источника могут одновременно придавать экспрессивность одному и тому же выражению. Скажем сначала несколько слов о втором, а затем вернемся к первому.
В каждой культуре есть некоторое число понятий, находящихся под запретом – их не полагается упоминать, во всяком случае, не полагается называть прямым словом, хотя последнее, как правило, существует и известно всем. В случае же необходимости это запретное понятие как-то обозначить, употребляют иносказания, эвфемизмы, которые снижают экспрессивность, присущую прямому обозначению. Таким, как говорят, табу в христианстве было (и, в принципе, остается) имя божие, но не во всяком контексте, а лишь упоминаемое «всуе» – в качестве клятвы, божбы и т.д. Отсюда целая серия ругательств-эвфемизмов, в которых слово dieu сознательно подвергалось искажениям: pardi, pardienne, morbleu, venterbleu, sangdi и т.д. В современном речевом обиходе они почти не употребляются, однако ругательства с «запретным» словом dieu – Nom de Dieu! Bon Dieu! – продолжают существовать и являются весьма экспрессивными – настолько, что их употребление возможно лишь в фамильярной речи. Другие примеры – если не французские, то русские – читатель легко найдет сам. Следует отметить, что степень запретности и, следовательно, экспрессивность прямых наименований соответствующих понятий во французском речевом этикете меньше, чем в русском.
Экспрессивность запретных слов объясняется тем же психологическим механизмом, что и экспрессивность неожиданного слова в контексте: запретные слова экспрессивны потому, что они нарушают конвенцию, противоречат общепринятому и ожидаемому, т.е. тоже входят в противоречие с контекстом, но не каким-то конкретным, речевым, а с контекстом всей культуры.
К этому явлению примыкают и те случаи, когда общество предписывает определенное отношение к тем или иным понятиям – к смерти, к любви, к материнству, к начальству и т.д.; тогда слова, имеющие иную, противоположную стилистическую окраску, тоже приобретают повышенную экспрессивность. Примером здесь могут служить уже многократно использованные нами crever и claquer: к смерти и к умершему полагается относиться с почтением, а эти глаголы нарушают конвенцию.
Само собой разумеется, что и в том, и в другом случае можно говорить лишь о потенциальной языковой экспрессивности слов. В контексте же и эти слова подчиняются общей закономерности: чем неожиданнее, тем экспрессивнее; ясно, что в речи, где каждое третье слово – запретное, экспрессивность каждого из них существенно снижается.
В современной лингвистике различают три вида мотивированности знака: морфологическую, фонетическую и семантическую. Морфологическая мотивированность заключается в наличии связи между значением языковой единицы и ее морфологической структурой – такой связи, которая устанавливается, например, в производных словах типа le pommier, le camionneur, l’écoulement и т.д. Ясно, что такая мотивированность не делает слово экспрессивным, поскольку оно является узуальной языковой единицей. Другое дело, если слово образовано вновь, причем по окказиональному, не вполне обычному варианту словообразовательной модели. Так, например, П. Данинос в книге «Snobissimo» создает ряд имен, производных от автомобильных марок – peugeotiste, jaguarex, bentleyien, citröeniste, – которые безусловно экспрессивны и в контексте осмысляются как комические. Экспрессивность таких окказиональных слов тем больше, чем необычнее сочетание компонентов, корня и аффикса; например, mendigoterie (< mendigo арго ‘mendiant’), guidenapper (букв. ‘похитить гида’ – по аналогии с kidnapper), gabrielliser (< Gabrielle – имя собств.) 21. Необычность слова деавтоматизирует – восприятие, заставляет читателя самого провести анализ его структуры, обновляет значение его компонентов.
Определенную экспрессивность могут придавать словам аффиксы или, точнее, словообразовательные модели, обладающие собственным стилистическим значением, такие, например, как суффиксы -ard, -aille, -asse и др.; модели усечения (Amerlo < Américan, alloques < allocation, perpète < perpétuité ‘réclusion criminelle à perpétuité’) и удвоения (pêle-mêle, foufou, bébête, tohu-boh и прочие «штучки-дрючки» фамильярной и арготической речи) 22. Об этом будет сказано несколько подробнее в § 80.
О морфологической мотивированности – в несколько расширительном значении этого термина – можно, видимо, говорить и применительно к фразеологизмам, по крайней мере к тем, которые обладают прозрачной смысловой структурой. Так, например, jouer franc jeu потенциально экспрессивнее, чем être franc (sincere) или parler franchement (sincèrement). Но и здесь решающим фактором является степень употребительности, привычности выражения. Так, вряд ли глагольный фразеологизм perde connaissance, теоретически более мотивированный, чем простой глагол s’évanouir, является и более экспрессивным. Вообще потенциальная экспрессивность фразеологизмов больше связана с их семантической мотивированностью, которой мы коснемся ниже.
О фонетической мотивированности слова можно говорить тогда, когда носители языка усматривают определенную связь между его значением и его звучанием. Эта связь может быть реальной, исторически оправданной, если слово имеет ономатопеическое, т.е. звукоподражательное происхождение (таковы, например, глаголы aboyer, miauler, croasser, crisser, craquer, cliqueter и др.), и мнимой, приписанной слову в силу общей тенденции к мотивации (pétiller, crever, casser, siffler, le fouet, etc.).
Кроме этого, давно и многократно высказывалась мысль, что какие-то очень широкие и неопределенные значения присущи отдельным звукам или комбинациям звуков языка 23. Ш. Балли писал о том, что мы склонны приписывать символическое значение звукам или сочетаниям звуков, основываясь на ощущаемых при артикуляции и видимых при восприятии движениях губ, языка, челюстей. Так, артикуляция губных p, b, f, при которой щеки говорящего раздуваются, может вызвать представление о полноте, избытке и тем самым мотивировать такие слова, как bourrer, bousoufler, empiffer, gonfler, enfler. При артикуляции /u/ и /y/ «губы вытягиваются; это движение, даже вне речевой деятельности, выражает плохое настроение, насмешку, презрение»; этим Балли объясняет, что существительные на -ouille (vadrouille, fripouille, bredouille, andouille, nouille и др.), а также прилагательные на -u (bourru, grinchu, malotru, têtu и т.д.) «являются уничижительными или шутовскими ... или становятся ими в переносном значении» 24.
По наблюдениям Ю.С. Степанова, во французском языке сочетание /fi/ часто связывается с неприятным смыслом (chialer, chicane, chiche, chiffe, chipper, chipie и др.) 25; А. Мартине отметил существенно большую частотность фонемы b в арго по сравнению с литературной нормой, что объясняется, по его мнению, особой экспрессией этого звука, которую он получил в результате частого употребления в слове imbécile, где он к тому же удлиняется под влиянием эмфатического ударения 26.
Многократно высказывались также различные (но нередко и совпадающие) мнения о символическом значении или экспрессивной окраске гласных; так, по мнению Марузо, /е, i/ – светлые, высокие, /c/ – важный, низкий, /у, ø, u/ – глухие 27 и т.д. Имеются и экспериментальные подтверждения таких наблюдений 28.
Какое значение эти факты имеют для стилистики языка? Иначе говоря, в какой мере явления звукового символизма придают экспрессивность тем словам, в которых обнаруживается какое-то соответствие между значением и звучанием? Надо полагать, что во всех таких случаях мы имеем дело с сугубо потенциальной экспрессивностью, которая реализуется в речи лишь при благоприятных условиях 29.
В повседневной речи реализации этой потенциальной экспрессивности может способствовать особое эмфатическое произношение. Что же касается художественной, в особенности поэтической речи, которая нередко прибегает к «звукописи», то здесь сама читательская установка способствует реализации потенциальной экспрессии слова. Опытный читатель знает, что в поэзии слово вообще приобретает особую значимость. Кроме того, выявлению скрытых потенций слова, в том числе и фонетической мотивированности, способствуют метрика и рифма. Так, например, в известном стихотворении Верлена –
Dans l'interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable
– первое лексически полнозначное слово l'interminable своей формой, в частности длиной, непосредственно реализует свое значение: оно действительно «бесконечно», «необозримо», растянуто почти на целый стих. Но это его свойство выявляется, в первую очередь, именно метрической организацией текста – в обыденной речи оно скорее всего осталось бы незамеченным.
Однако художественная речь не столько использует потенциальную языковую экспрессивность фонетически мотивированных слов, сколько придает им свою, вторичную мотивированность. Любой многократный повтор звука или сочетания звуков в стихе, независимо от их собственной символической значимости, воспринимается как знак или образ смысла того сегмента речи, в котором он обнаруживается 30, и этот сегмент речи в целом становится экспрессивным, фонетически мотивированным:
Droite et roide est la côte et le sentier étroit. (Chapelain)
Sous ses voûtes on souffre ... (Hugo)
Doucement, sur son léger coussin de plumes, le cygne rame et s'approche. (Renard)
Семантически мотивированным называют такой знак, который обусловлен другим знаком, именем другого предмета или понятия, с которым означаемое этого знака связано определенной ассоциативной связью. Иначе говоря, семантически мотивированный знак основан на образе, чаще всего на метафоре или метонимии.
Как известие, образное происхождение в языке имеют все слова абстрактного значения, да и не только они одни. Однако семантически мотивированными, с точки зрения рядового носителя языка, являются лишь те лексические единицы, в которых образность не полностью стерлась. Ясно, что нас может интересовать лишь такая семантическая мотивированность, поскольку только она (а не мотивированность для лингвиста) является источником экспрессивности (см. выше, § 44).
Семантически мотивированными бывают как отдельные слова, так и фразеологизмы; впрочем, точно разграничить те и другие в данном случае нелегко, потому что слова в так называемом переносном значении, как правило, обладают более ограниченной сочетаемостью, чем в прямом, необразном. Так, например, глагол ramper в прямом значении употребляется практически с любым обстоятельством места, в то время как в переносном значении ('пресмыкаться перед кем-нибудь') этот глагол обязательно требует предлога devant, вводящего имя лица.
Трудности представляет и само выделение семантически мотивированной (в указанном смысле) лексики – никто не может категорически утверждать, что то или иное выражение воспринимается большинством носителей языка как образное, экспрессивное, или, наоборот, как утратившее образность. Как, например, квалифицировать с этой точки зрения глагол abbatre в значении 'ôter l'energie, l'espoir, la joie'? (ср. у Корнеля: Je demeure immobile, et mon âme abattue / Cède au coup qui me tue). Видимо, он все-таки больше не воспринимается как образный. A s'abriter derrière quelqu'un? Abreuver (d'injures, de caresses, etc.)? Clouer (La surprise le cloua sur sa chaise)? Здесь, видимо, многое зависит от индивидуальных особенностей восприятия, от речевого опыта субъекта.
Если отвлечься от этих трудностей и попытаться выделить те единицы словаря, которые представляются хотя бы потенциально экспрессивными, то обнаруживается любопытная закономерность: переносное значение подавляющего большинства таких слов и фразеологизмов либо несет элемент оценки, либо выражает высокую интенсивность действия, качества, состояния, т.е. обладает более или менее ярко выраженной эмоциональной окраской 31 (о связи интенсивности и эмоциональности см ниже, § 101). Приведем небольшой список слов и фразеологизмов, взятых наудачу из словаря Робера; толкования и примеры заимствованы оттуда же (в сокращении).
По-видимому, лексическое и стилистическое значение, с одной стороны, и образность – с другой, взаимообуслoвливают и поддерживают друг друга. Эмоциональная оценочность как компонент мысли толкает на употребление образного выражения, а преимущественное употребление этого выражения с эмоционально-оценочной «нагрузкой» поддерживает его образность 32. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что многочисленные слова образного происхождения, обозначающие «нейтральные», т.е. не вызывающие эмоционального отношения к себе понятия (bras d'un fauteuil, lit d'une riviére и т.п.), былую образность потеряли полностью.
Если же говорить отдельно о фразеологизмах, то, кроме указанного фактора, частичному сохранению их образности, видимо, способствует раздельнооформленность, прозрачность их внутренней формы, т.е. относительно большая мотивированность 33 (об этом см. также § 81).
Образная экспрессивность как слов, так и фразеологизмов может получать подкрепление в контексте. Выше было сказано, что глагол abattre в переносном значении потерял былую образность; однако в такой фразе как Abattu par tant de malheurs, il a trouvé cependant des forces pour se relever эта образность частично восстанавливается, подхваченная глаголом se reveler – тоже бывшей метафорой. Два стершихся образа, приведенные в соответствие, поддерживают и как бы воскрешают друг друга. К этому эффекту приводит вообще всякая детализация языкового образа – ср. пример, приводимый Балли: Cette comédie est faite pour dérider les plus moroses и Cette comédie dériderait les fronts les plus soucieux, где «вместо смутного эмоционального образа возникает четкая картина – для этого было достаточно одного штриха» 34.
В целом образность выражений, подобных тем, что приведены в нашем списке, не следует преувеличивать. В большинстве случаев это образность остаточная, реализующаяся лишь при благоприятных условиях. Все подобные выражения кажутся образными и экспрессивными по сравнению с немотивированными словами; однако подлинную экспрессивность сообщает речи индивидуальный образ, в первую очередь индивидуальный образ поэтической речи. Именно на материале индивидуальных поэтических образов удобнее всего показать то, что можно назвать семантическим механизмом образной экспрессивности. Этому будет посвящена следующая глава.
Итак, мы установили, что для первичного, самого обобщенного описания стилистического значения единицы языка нам достаточно трех дифференциальных признаков: ±а, ±с и ±н, которые при необходимости могут быть уточнены. Они же применимы для описания стиля сообщения и основных типов речи (классов речевых жанров).
Эти признаки (с необходимыми уточнениями), по-видимому, исчерпывают стилистические характеристики наиболее употребительных языковых единиц, тех, которые выступают как узуальные и произвольные немотивированные знаки соответствующих понятий. Стилистические значения такого рода единиц можно назвать узуальными. Узуальные стилистические значения выступают как условные, немотивированные и относительные – в том смысле, что, как пишет Ю.С. Степанов, «дополнительная, стилистическая информация заключена ... не в слове самом по себе ..., а в отношении слова к его синонимам». И дальше: «Слова стилистически окрашенные – книжные или фамильярные, хвалебные или уничижительные, воспринимаются такими только по отношению к стилистически не окрашенным, нейтральным. Нейтральные составляют норму, на фоне которой воспринимаются отклонения» 35.
Однако в языке, помимо знаков, воспринимающихся как вполне произвольные, существуют знаки, которые представляются носителям языка более или менее мотивированными. Эти знаки, помимо того или иного стилистического значения, обладают, хотя бы в потенции, особым качеством – экспрессивностью, которое проявляется в том, что отмеченные им выражения воспринимаются деавтоматизированно, непосредственно воздействуют на воображение и эмоциональную сферу адресата.
Одним из важнейших источников экспрессивности является семантическая мотивированность, или образность. Образность противостоит узуальности: чем узуальнее знак, тем слабее его образность; рассмотренные в предыдущем параграфе выражения уже принадлежат языку, уже узуальны, хотя и менее обычны, чем немотивированные знаки, – поэтому они обладают лишь остаточной образностью. Образная экспрессивность в полной мере присуща окказиональным употреблениям – таким, которые в словарях не фиксируются, потому что не принадлежат языку. В сущности, это не что иное, как частное проявление общей закономерности: чем реже, тем экспрессивнее. В силу этой закономерности наиболее экспрессивным должно быть такое выражение, которое вообще никогда не употребляется для обозначения данного содержания. Такое выражение – это и есть индивидуальный образ.
Индивидуальные образы не принадлежат языку и, следовательно, не подведомственны стилистике языка. Однако попытаться понять семантические процессы, происходящие при их восприятии, мы обязаны: каждый отдельный индивидуальный образ принадлежит речи, но явление окказиональной образности характерно для естественного языка в целом.
Рассмотрев явление индивидуальной образности, мы вернемся затем к узуальным синонимическим средствам языка и узуальным стилистическим значениям.
[1] См., например: Вилюман В. Г. Существительные-синонимы в английском языке. Л., Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена, 1972 и др.
[2] Эта мысль была высказана, в частности, Г.О. Винокуром, который, – видимо, несколько преувеличивая, – утверждал, что свобода взаимозаменяемости синонимов в живой речи «является просто-напросто фикцией» (см.: Винокур Г.О. Проблемы культуры речи. – «Русский язык в советской школе», 1929, № 5, с. 85).
[3] Балли, Ш. Французская стилистика, с. 121.
[4] Там же, с. 131.
[5] Синонимический словарь Бенака определяет crever следующим образом: «crever ... est péjoratif appliqué aux hommes» (p. 609); a Dictionnaire Bordas квалифицирует его как «injurieux» (Davau M., Cohen M., Lallemand M. Dictionnaire du français vivant. Paris – Bruxelles – Montréal, 1972, p. 318).
[6] Guiraud P. La stylistique, р. 51-52; примеры – как французские, так и русские – в необходимых случаях добавлены автором (более обширный и разнообразный иллюстративный материал будет дан ниже, в гл. VIII).
[7] Подробнее об этом (на материале русского языка) см.: Винокур Т.Г. О содержании некоторых стилистических понятий.
[8] Об этом см.: Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте. – В сб.: Новое в лингвистике, вып. 7. М., «Прогресс», 1975, с. 120.
[9] Наша шкала нормативности – ненормативности (возвышенности – сниженности) хорошо согласуется с понятием социального престижа слова, которое, по мнению Ю.М. Скребнева, должно лечь в основу стилистической классификации лексики (Скребнев Ю.М. Цит. соч., с. 99).
[10] Для упрощения схемы Е3 и Е5 рассматриваются только как непереходные глаголы; поэтому их значения как переходных глаголов здесь не фигурируют. Под денотативным значением здесь и далее понимается предметно-логическое значение в целом, т.е. денотативно-десигнативное значение.
[11] Этот факт отмечал еще Шарль Балли, а из современных исследователей – Ю.М. Скребнев (цит. соч., с. 97).
[12] «Эвфемизм [...] троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-л. предмета или явления». – Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов, с. 521.
[13] Цит. по Dictionnaire de la langue française, par E. Littré, tome premier, 1863, p. 896.
[14] Балли Ш. Французская стилистика, с. 52.
[15] В лингвистике широко распространено мнение, что французский язык отличается, например, от немецкого и русского большей абстрактностью, немотивированностью слова, т.е. скрытостью внутренней формы. См., например; Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка, § 566-570; Степанов Ю.С. Французская стилистика, § 46; Гак В.Г. Беседы о французском слове. М., «Междунар. отношения», 1966; Malblanc А. Ор. cit., § 34-39.
[16] О связи между мотивированностью и экспрессивностью см.: Guiraud P. Essais de stylistique, р. 72-73.
[17] Несколько иное определение экспрессивности дается в книге И.В. Арнольд «Стилистика современного английского языка», с. 110-116.
[18] Это явление, обозначаемое разными терминами – остранение, актуализация, эффект обманутого ожидания, отклонение от нормы (écart) и др., – нередко рассматривается как лежащее в основе всякого словесного искусства. Такая точка зрения более или менее подробно разбирается И.В. Арнольд (цит. соч., § 7-8); см. также: Dubois J., Edeline F. et autres. Rhétorique générale. P., Larousse, 1970, Introduction et le chap. VI.
[19] Балли Ш. Французская стилистика, § 223.
[20] Примеры заимствованы из книги Dubois J., Edeline F. Et autres. Rhétorique générale.
[21] Примеры С.С. Семеновой – см.: Семенова С.С. Речевые неологизмы и их стилистические функции в современной французской прозе. Кандид. дисс.
[22] Янко-Триницкая Н.А. «Штучки-дрючки» устной речи. – «Русская речь», 1968,. № 4.
[23] См. об этом, в частности: Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака. Л.,1971; Chastaing M. L’audition colorée. – «Vie et langage», 1960, № 12, 1961, № 7; из более старых работ важнейшая – Grammont M. Traité de phonétique. P., 1933; см. также: Cressot M. Op. cit.; Marouzeau J. Précis de stylistique française.
[24] Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка, с. 147.
[25] Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 72.
[26] Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., Изд-во иностр. лит., 1960, § 4, 58. Обобщая подобного рода наблюдения, Ю.М. Скребнев пишет: «Существо стилистической значимости звуков и звукосочетаний состоит в парадигматическом соотнесении их с их аналогами в тех словах, которые имеют ярко выраженную положительную или отрицательную эстетико-эмоциональную окраску» (цит. соч., с. 92).
[27] Marouzeau J. Précis de stylistique française, c. 17.
[28] См., например: Chastaing M. Op. cit.; на русском языке: Журавлев А.П. О мотивированности признаковой семантики слова натуральным значением входящих в него звуков. – Материалы семинара по проблемам мотивированности языкового знака. Очень интересный материал и убедительное психологическое объяснение этих фактов см.: Горелов И.Н. Проблема функционального базиса речи в онтогенезе. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1974.
[29] «En effet, la plupart des élèves, et souvent aussi, hélas, des maîtres, accordent aux sons des valeurs qui ne sont que des possibilités d’actualisation dans le contexte». – Gutraud P. Essais de stylistique, p. 20.
[30] «Большая часть “значений”, определяемых обычно как звукоподражание, оказывается на деле усилением значений, уже присутствующих в тексте; таким образом, например, последовательность свистящих согласных передает “шорох шелковой шторы” (Э. По).» – Левый И. Значение формы и формы значений – В сб.: Семиотика и искусствометрия. М., «Мир», 1972, с. 95.
[31] Применительно к фразеологизмам см. об этом: Кунин А.В. О нормативном стилистическом использовании фразеологических единиц. – «Сборник научных трудов», вып. 73. М., Изд-во Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз. им. М. Тореза, 1973.
[32] О связи образности и оценочности применительно к фразеологизмам см.: Федоров А.И. Семантическая основа образных средств языка. Новосибирск, «Наука», Сибирское отд., 1969, с. 69-71; а также: Балли Ш. Французская стилистика, с. 228.
[33] См.: Федоров А.И. Семантическая основа образных средств языка, с. 68-69.
[34] Балли Ш. Французская стилистика, с. 232-233. Многочисленные русские примеры такого рода приводит А.И. Федоров (Семантическая основа образных средств, с. 52-58).
[35] Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 22; Он же. Семиотика, III – 3.
©
2008. Ссылка на электронный оригинал желательна.