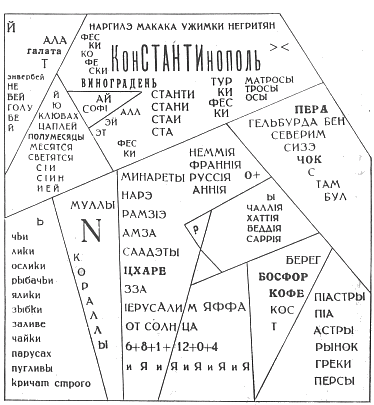Предисловие
Стиховедение считается трудной частью теории словесности. Еще о Евгении Онегине было сказано: “Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить”. В наше время это должен уметь каждый школьник, но практически умеет далеко не каждый студент-филолог. А о более тонких деталях строения стиха не приходится и говорить.
Психологически это понятно. Стихи – это поэзия, поэзия – источник самого высокого эстетического наслаждения, простому читателю она представляется чудом. И вот это чудо предлагается разбирать по частям, вместо живых слов следить за безликими ударениями и созвучиями, “алгеброй поверять гармонию”. Но ведь у этого процесса есть и другая сторона. Разве не интересно понять не только что именно кажется в этих стихах прекрасным, но и почему оно кажется прекрасным: как переплетение звуков, схожих и разных, ударных и безударных, “подстилаясь” под смысловое содержание стихотворения, придает ему выразительность, которой оно никогда не имело бы в прозе?
Школьные обрывочные знания и даже связное изложение в университетских учебниках не всегда помогают этому. Причина не новая: наша учебная литература обычно отстает от состояния современной науки. Когда школьнику или студенту предлагается определение: “Ямб – это стихи, в которых на четных слогах стоят ударения, а на нечетных отсутствуют”, – а потом перед такими строками, как “Бой барабанный, клики, скрежет”, делается оговорка, что на четных слогах ударения иной раз пропускаются, а на нечетных иной раз появляются, то после этого трудно не почувствовать себя перед лицом хаоса. Между тем научно безупречные правила описания русских силлабо-тонических размеров открыты лет пятьдесят назад и только не дошли – если не до учебников, то до преподавателей. Когда же дело касается современного стиха, еще не уложенного в авторитетные формулировки, то получается и того хуже: совсем недавно, например, самостоятельным видом стиха считался “стих Маяковского”, хотя совершенно ясно, что сказать: “Поэма «Хорошо» написана стихом Маяковского” – не более содержательно, чем сказать: “Роман «Евгений Онегин» написан стихом Пушкина”.
Лучшие пособия для изучения русского стихосложения – это:
- Богомолов Н.А. Стихотворная речь. М., 1988 (вводное учебное пособие);
- ХолшевниковВ.Е. Основы стиховедения: Русское стихосложение, 2-е изд. Л., 1972. Илюшин А.А. Русское стихосложение. М., 1988 (учебники);
- Томашевский Б.В. Стилистика и стиховедение. М., 1959 (курс лекций);
- Шенгели Г.А. Техника стиха, 2-е изд. М., 1960 (научно-популярная книга, превосходная по ясности, хотя местами устаревшая).
Но все они построены по обычному типу учебной книги: связное изложение теории, иллюстрируемое короткими примерами. Забываются примеры, забывается и теория.
Единственное пособие, построенное обратным образом, это:
- Мысль,вооруженная рифмами: Поэтическая антология по истории русского стиха / Составитель, автор статей и примечаний В.Е. Холшевников. 2-е изд. Л.. 1987. В книге собрано более 600 стихотворений и отрывков от XVII в. до наших дней, при каждом стихотворении коротко, условными знаками дана его метрическая и строфическая формула, иногда с несколькими пояснительными словами, а каждому разделу предпослана вводная заметка с общей характеристикой стиха этого периода и ссылками на последующие стихотворения. Это единственная антология, читая которую читатель приглашается время от времени задуматься над тем, какие же, собственно, стихи он читает. Но полноценным учебным пособием она служить все же не может: не всякий шедевр стиховедчески интересен и не всякое стиховедчески интересное стихотворение – шедевр, поэтому составителю приходится лавировать между двумя критериями и быть вынужденно кратким в своих теоретических комментариях.
Мы предпочли построить предлагаемое читателю пособие по другому принципу.
Во-первых, порядок подбора материала в нем – не хронологический, а логический, от одного аспекта строения стиха к другому: “Стих и проза”, “Стихораздел и рифма”, “Ритмика”, “Силлабо-тоническая метрика”. “Несиллабо-тоническая метрика”, “Строфика”, “Твердые формы”.
Во-вторых, стиховедческие комментарии к каждому стихотворению пространны и следуют друг за другом так, чтобы подхватывали, продолжали друг друга и, в конечном счете, складывались в связный очерк русского стихосложения.
В-третьих, из художественного материала решительно отбирались тексты, интересные именно со стиховедческой точки зрения, экспериментальные, часто раритетные: экспонат кунсткамеры ярче бросается в глаза и дольше остается в памяти, чем обычная хрестоматийная классика. В русском стихе есть правило: последнее, “константное” ударение в строке никогда не пропускается. Мы предлагаем три примера, в которых это правило нарушается (№ 60—62), и они лучше помогут почувствовать правило, чем помогли бы тысячи примеров, где оно соблюдено.
В-четвертых, наконец, рамки материала ограничены одним сравнительно небольшим периодом – первой четвертью XX в., исключения единичны. Тем самым книга становится как бы стиховедческим портретом литературной эпохи. привлекающей самое живое внимание в наши дни. Более того, мы старались как можно меньше пользоваться стихами классиков – В. Брюсова, А. Блока, А. Белого – и как можно шире привлекать стихи забытых и малоизвестных поэтов, образующие как бы фон тогдашнего поэтического расцвета. Это о них язвительный К. Чуковский писал: “Третий сорт – ничуть не хуже первого!” Большинство стихотворений перепечатываются впервые, многие публикуются впервые по архивным текстам. Таким образом, эта книга представляет собой не только теоретико-литературный, но и историко-литературный интерес.
Кому этого материала покажется недостаточно, тот может поупражнять новоприобретенные знания на стихах из вышеупомянутой антологии В.Е.Холшевникова “Мысль, вооруженная рифмами”, – и он заметит в них гораздо больше, чем замечал раньше. Кто захочет яснее представить себе место показанного здесь периода во всей истории русского стихосложения, тот может обратиться к еще одной книге:
- Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика, ритмика, рифма, строфика. М., 1984; здесь же – обширная библиография.
Форма стиха неразрывно связана с его содержанием: один прием производит на читателя впечатление легкости, другой – медлительной тяжести, третий – резкой угловатости и т.д. Мы старались отмечать такие случаи, но наука о психологии художественного восприятия еще так слабо развита, что всякий раз переспрашиваем читателя: “Так ли это на ваш слух?” Это – область, в которой нет ни правил, ни догматов.
Мысль об издании такого рода книги подал нам в свое время крупнейший специалист по русской поэзии начала XX в. Р.Д.Тименчик; сокращенное малотиражное ее издание вышло в 1987 г. в Таллиннском пединституте под редакцией А.Ф.Белоусова; расширению и дополнению книги помогла О.Б.Кушлина; очень полезны при этом были компетентные замечания В.Е.Холшевникова и А.А.Илюшина. Всем им автор приносит глубокую благодарность.
Автор
Предварительные сведения
Стихосложение (версификация) – это способ организации звукового строения речи, по которому речь делится на две большие категории – стихи и прозу.
Изучение стихосложения позволяет ответить на три вопроса: 1. Чем отличается стих от прозы? 2. Чем отличается стих одного языка (или эпохи) от стиха другого языка? 3. Чем отличается стих одного стихотворения от стиха другого?
Как ни странно, самый трудный из этих вопросов – первый.
1. Чем отличается стих от прозы? Дошкольник скажет: “Тем, что стихи печатаются короткими неровными строчками”. Школьник скажет: “Тем, что в стихе есть ритм и рифма”. Студент скажет: “Тем, что стих – это специфическая организация речи поэтической, т.е. повышенно эмоциональной, представляющей мир через лирический характер...” и т.д. Все трое будут правы, но ближе всех к сути дела окажется все-таки дошкольник.
Слово “стих” по-гречески значит “ряд”, его латинский синоним “versus” (отсюда “версификация”) значит “поворот”, возвращение к началу ряда, а “проза” по-латыни означает речь, “которая ведется прямо вперед”, без всяких поворотов. Таким образом, стих – это прежде всего речь, четко расчлененная на относительно короткие отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой. Каждый из таких отрезков тоже называется “стихом” и на письме обычно выделяется в отдельную строку. Какая при этом достигается художественная выразительность, подробно рассматривается в I разделе нашей книги – “Стих и проза”.
Мы сказали: “отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой”. Что значит “соотносимые”? Когда мы скользим взглядом по прозаическому тексту, то видим непосредственно читаемые слова, хорошо помним предыдущие, смутно – предпредыдущие и т.д., с равномерным убыванием ясности. А когда мы читаем стихи, то в конце каждой строки живо вспоминаем концы предыдущих строк, в начале каждой строки – начала предыдущих строк и т.д. Если мы воспринимаем прозу как бы в одном измерении, “горизонтальном”, то стих в двух – “горизонтальном” и “вертикальном”; это разом расширяет сеть связей, в которые вступает каждое слово, и тем повышает смысловую емкость стиха. Заметнее всего такая соотнесенность в концах строк, когда они связаны рифмой, об этом подробно говорится во II разделе книги – “Стихораздел и рифма”. Но это относится не только к концам строк. Возьмем начало лермонтовского стихотворения:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
и незначительно его изменим:
Белеет парус одинокий
В морском тумане голубом...
– и мы почувствуем, что перед нами две немного разные картины: в первой парус воспринимается на фоне моря, во второй на фоне тумана; первая четче, вторая смутнее (так ли это, на ваш взгляд?). Прозе такие тонкие средства недоступны.
А что значит “соизмеримые” отрезки? Вспомним начало крыловской басни “Две бочки”:
Две бочки ехали: одна с вином,Другая
Пустая.
Вот первая себе без шума и шажкомПлетется,
Другая вскачь несется...
Содержание этих стихов поступает в наше сознание как бы смысловыми порциями, каждая порция – стих. Первый стих – длинный, второй и третий – неожиданно короткие, а смысловая их нагрузка, казалось бы, должна быть приблизительно равной. От этого слова “другая” и “пустая” приобретают в нашем сознании такой же вес и важность, как целое сообщение “Две бочки ехали: одна с вином...”: сразу становится ясно, что героиней басни будет вторая бочка. Если бы записать этот же текст прозой – противопоставление потерялось бы. И это лишь оттого, что наше сознание соизмеряет, какой стих длиннее и какой короче.
Соизмеряет, но какими мерками? И вот здесь мы подходим ко второму вопросу.
2. Чем отличается стих одного языка (или эпохи) от стиха другого языка (или эпохи)? Именно теми мерками, которыми соизмеряются строки. Наше сознание может вести счет длине строк или словами, или слогами, или (что уже сложнее) группами слогов – стопами. В зависимости от этих мерок мы различаем системы стихосложения: тоническую (по числу ударений, т.е. слов: ведь в стихе сколько самостоятельных слов, столько и ударений), силлабическую (по числу слогов) и силлабо-тоническую. Человек, привыкший к силлабическому стиху, скажет, что в “Двух бочках” второй стих короче первого на 7 слогов; привыкший к тоническому – что он короче на 4 слова; привыкший к силлабо-тоническому – что он короче на 4 стопы. Не надо думать, что в силлабическом стихе все строки равносложны, а в тоническом равноударны: они могут быть и разной длины, важно лишь, чтобы эта разница ощущалась в первом случае в числе слогов, а во втором – в числе слов. Об этих двух стихосложениях (и о переходных к ним формам) пойдет речь в V разделе нашей книги – “Несиллабо-тоническая метрика”.
В истории русского стиха сменялись разные эпохи. Русский народный стих (песенный, речитативный и говорной) – тонический. Ранний литературный стих (XVII – нач. XVIII в.) – силлабический. Классический литературный стих от Ломоносова и до самого конца XIX в. – силлабо-тонический. В стихе XX в. сосуществуют силлабо-тонический и чисто тонический стих.
Силлабо-тонический стих развился (не в России, а в Европе) из силлабического. Чтобы легче вести счет слогам, стали выделять некоторые слоги как опору для голоса и слуха через одинаковые промежутки. Такие выделенные слоги называются иктами (лат. “удар”) или “сильными местами” стиха (С), промежуточные между ними – “слабыми местами” (с). Сильные места в силлабо-тоническом стихе преимущественно ударны, слабые – преимущественно безударны. В какой степени “преимущественно”, это зависит от данных языка. В английском и немецком языках, где слова короткие, сильные места почти всегда ударны; в русском языке, где слова длиннее, на сильных местах ударения часто пропускаются.
Чередование сильных и слабых мест называется метром (гр. “мера”); повторяющееся сочетание сильного и слабого мест – стопой. Основных метров в силлабо-тонике пять: ямб (стопа сС), хорей (Сс), дактиль (Ссс), амфибрахий (сСс) и анапест (ссС). В зависимости от числа стоп в стихотворной строке каждый метр имеет несколько размеров. Эти стихотворные размеры различаются непосредственно на слух. Вот примеры: знаком отмечены сильные места, на которых стоит ударение, знаком – на которых оно пропущено:
| 1 | 2-ст*. ямб: | Играй. Адель,
Не знай печали... |
| | З-ст. ямб: | Подруга думы праздной,
Чернильница моя... |
| | 4-ст. ямб: | Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог... |
| | 5-ст. ямб: | Еще одно, последнее сказанье,
И летопись окончена моя... |
| | 6-ст. ямб: | В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый старый Дук... |
| 2 | З-ст. хорей: | Горные вершины
Спят во тьме ночной... |
| | 4-ст. хорей: | Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя... |
| | 5-ст. хорей: | Нежно небывалая отрада
Прикоснулась к моему плечу... |
| | 6-ст. хорей: | а) Долго не сдавалась Любушка-соседка.
Наконец, шепнула: есть в саду беседка...
б) Темной ночью на распутьи трех дорог
Я колдунью молодую подстерег... |
| 3 | 2-ст. дактиль: | Кубок янтарный
Полон давно... |
| | З-ст. дактиль: | Раз у отца в кабинете
Саша портрет увидал... |
| | 4-ст. дактиль: | Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели... |
| 4 | 2-ст. амфибрахий: | Румяной зарею
Покрылся восток... |
| | З-ст. амфибрахий: | Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи... |
| | 4-ст. амфибрахий: | Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль... |
| 5 | 2-ст. анапест: | В золотые закаты
Убежала земля... |
| | З-ст. анапест: | О весна, без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта... |
| | 4-ст. анапест: | Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную ночь... |
*Здесь и далее слово “стопный” в силлабо-тонике сокращается – “ст.”.
Более редкие силлабо-тонические размеры рассматриваются в разделе IV – “Силлабо-тоническая метрика”. Сильные места могут выделяться не только ударениями, но и, например, долготами звуков в тех языках, где долгота служит смыслоразличительным средством. Это дает метрическую (квантитативную) систему стихосложения; русские опыты такого рода нашли место в разделе V – “Несиллабо-тоническая метрика”.
Упорядоченность рифм в конце стиха и сильных мест внутри стиха порождает ощущение рифмического и ритмического ожидания, предсказуемости каждого слога в стихе. Например, когда мы читаем текст, написанный 4-ст. ямбом с парной рифмовкой, и останавливаемся посреди строки:
И все сильней влекло меня
На родину...
– то рифмическое ожидание подсказывает нам, что оборванная строка должна кончиться на созвучный слог -ня (например, “дня”), а ритмическое ожидание предсказывает слуху, привыкшему к русскому стиху, что следующий после обрыва слог, вероятнее всего, будет безударным (“... с того же дня”), менее вероятно, что это будет односложное ударное слово (“... день ото дня”), и совсем невероятно, что это будет ударный слог многосложного слова (“... с этого дня”). От того, насколько подтверждаются или не подтверждаются эти ожидания, зависит художественный эффект стиха.
3. Чем отличается стих одного стихотворения от стиха другого? Во-первых, стало быть, метром (ямб, хорей...); во-вторых, размером (З-ст.ямб, 4-ст.ямб...); в-третьих, рифмой (или, если стихи нерифмованные, длиной нерифмующего окончания строки). В-четвертых, ритмом ударений: мы знаем, что на сильных местах внутри стиха ударение может пропускаться, и в зависимости от того, на какой стопе оно пропускается, стих звучит по-разному: в XVIII в. предпочиталось одно звучание, в XIX в. – другое. В-пятых, ритмом словоразделов, который может или подчеркивать, или стушевывать четкость членения стиха на стопы. В-шестых, один из этих словоразделов, срединный, может быть постоянным (цезурой) и придавать стиху особый ритм. В-седьмых, членение стиха на строки может совпадать или не совпадать с синтаксическим, от этого ритм стиха становится то более спокойным, то более напряженным. Обо всем этом говорится в разделе III – “Ритмика”.
Наконец, не следует забывать, что стих существует не изолированно, а только во взаимодействии с соседними стихами. Поэтому стихотворение, где стихи объединены в однородные (т.е. опять-таки имеющие предсказуемое строение) группы – строфы, будет восприниматься иначе, чем стихотворение без такой организации. Этот предмет VI раздела книги – “Строфика”. Предсказуемые группировки строк могут быть настолько пространны, что охватят целое стихотворение. Такие стихотворения называются твердыми формами и рассматриваются в одноименном VII и последнем разделах книги.
Для краткости изложения время от времени придется прибегать к схематическому изображению слогов в строках и рифм в строфах. В схемах различных метров и размеров слоги, обязательно несущие ударение, обозначаются ¢ ; слоги, обычно не несущие ударения, – È; слоги, которые могут и нести ударение и пропускать его, – ´. В схемах строф одинаковые рифмы обозначаются одинаковыми буквами: АБАБВВ... Если существенна разница между мужскими и женскими рифмами, то мужские обозначаются строчными буквами, а женские – прописными: АбАбВВ... Более частные пояснения даются в тексте.
Стихотворения, собранные в книге, по большей части даются целиком, без сокращений. Если сокращения оказывались необходимы, они отмечались знаком <...>. Даты под стихотворениями обозначают время написания; даты в скобках – время публикации; даты типа “1911/1913” означают, что стихотворение написано между этими годами; даты типа “1913, 1928” означают, что стихотворение написано в 1913 г., а переработано в 1928 г. Заглавия, не принадлежащие автору стихотворения, печатаются в угловых скобках. Если стихотворные цитаты для краткости печатаются в подбор, то строки в них разделяются косой линейкой: “Подруга думы праздной, / Чернильница моя...”. Если косая линейка обозначает, например, цезуру, то это ясно из контекста.
I. СТИХ И ПРОЗА
СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ
№ 1
Полмира в волосах
Позволь мне долго, долго вдыхать запах твоих волос, погрузить в них все мое лицо, как погружает его жаждущий в воду источника, и колыхать их рукой, как надушенный платок, чтобы встряхнуть рой воспоминаний.
О, если бы ты могла знать все, что я вижу! все, что я чувствую! все, что слышу в твоих волосах! Моя душа уносится вдаль в благоуханиях, как души других в звуках музыки.
В волосах твоих целая греза, полная мачт и парусов: в них огромные моря, по которым муссоны уносят меня к чарующим странам, где дали синее и глубже, где воздух напоен благоуханием плодов, листвы и человеческой кожи.
В океане твоих волос мне видится гавань, оглашаемая печальными напевами, кишащая разноплеменными людьми мощного сложения и кораблями всех видов, сложные и тонкие очертания которых вырисовываются на фоне необъятного неба, где тяжко царит вечный зной.
В ласке твоих волос я вновь переживаю истому долгих часов, проведенных мной на диване, в каюте прекрасного судна, под еле ощутимое колыханье мирной гавани, среди цветочных горшков и глиняных кувшинов с прохладной водой.
В жгучем очаге твоих волос я вдыхаю запах табака, смешанного с опиумом и сахаром; в ночи твоих волос мне сияет бесконечность тропической лазури, на пушистых берегах твоих волос я опьяняюсь смешанным запахом смолы, мускуса и кокосового масла.
Позволь мне долго кусать твои тяжелые черные косы. Когда я покусываю твои упругие и непокорные волосы, мне кажется, что я ем воспоминания.
Эллис, пер. из Ш. Бодлера, [1910]
Стихотворение в прозе – термин, введенный впервые Ш. Бодлером и заимствованный у него И. Тургеневым и другими позднейшими писателями. Что в произведениях, обозначаемых этим парадоксальным термином, идет «от стиха» и что «от прозы»? «От стиха» здесь все признаки лирического жанра (который, как известно, гораздо чаще разрабатывается в стихах, чем в прозе): общая установка на выражение субъективного впечатления или переживания; круг образов, мотивов, идей, характерных для поэзии данного времени (здесь – французского позднего романтизма); обычно бессюжетная композиция, повышенная эмоциональность стиля, небольшой объем, членение на малые абзацы, подобные строфам. Все эти признаки лиризма традиционны в поэзии, но не традиционны в прозе и поэтому в ней особенно ощутимы и действенны. Нет здесь лишь тех признаков стиха, которые собственно и делают стих стихом: членения на соизмеримые отрезки; подчеркивающих это членение рифм; облегчающих это соизмерение метра и ритма. Именно поэтому форма таких произведений остается прозаической: «от стиха» в них смысловое содержание и словесный стиль, «от прозы» – звуковая форма. Иногда кажется, что в ней больше ритмичности или благозвучия, чем в обычной прозе, но обычно это – иллюзия. С точки зрения стиховедческой, «стихотворения в прозе» – это проза, и только проза.
СВОБОДНЫЙ СТИХ
№ 2
Праздник
(Отрывок)
...Сегодня день моего рождения;
Мои родители, люди самые обыкновенные,
Держали меня в комнатах до девятилетнего возраста,
Заботились обо мне по-своему,
Не пускали меня на улицу,
Приучили не играть с дворовыми мальчиками,
А с моими сестрами сидеть скромно у парадной лестницы
На холщевых складных табуретках.
Отец мой садился рядом со мною,
Рассказывал неинтересное
О каких-то своих турецких походах.
Вечерами я садился на подоконник,
Смотрел на улицу, на фонари керосиновые,
А отец мыл чайные чашки и стаканы,
И не потому, что у нас прислуги не было,
А потому, что ему нечего было делать,
Как всякому отставному воину;
При свете утра и стеариновой свечки,
Когда в комнатах тени желтоголубые,
Я сам научился читать азбуку;
Мне также хотелось учиться музыке,
Но на нашем рояле не действовали клавиши;
Я тихо плакал, когда пели в русском соборе,
И в особенности, когда в костеле орган играл;
У меня не было ни богатой библиотеки,
Ни бонн, ни гувернанток, ни хороших учительниц;
Была картавая белобрысая барышня,
Немка Люция Эдуардовна Виссор;
К гимназическому экзамену
Меня приготовлял бритый восьмиклассник.
Как его фамилия? – кажется, Швейдель... <...>- С. Нельдихен, 1920
Этот текст по содержанию гораздо более «прозаичный», чем предыдущий; если бы напечатать его сплошными строчками, никто не подумал бы, что это могут быть стихи. (Недаром С. Нельдихен дал своему юношескому «Празднику» подзаголовок «Поэмороман».) И все-таки предыдущий текст был прозой, а этот текст – стихи, именно потому, что он напечатан раздельными строчками. В нем нет рифмы, в нем нет метра и ритма, но в нем есть заданное расположением строк членение на сопоставимые и соизмеримые отрезки.
Разумеется, такое стиховое членение нимало не отменяет языкового, синтаксического, а лишь накладывается на него и осложняет его. По большей части стиховое членение стремится совпадать с синтаксическим, концы предложений и синтагм совпадают с концами стихов; но они могут и не совпадать – такие «переносы» (фр. enjambements, «анжамбманы») фраз из строки в строку придают стиху специфическую интонационную напряженность. Попробуем разбить этот же текст на строки иначе: «...мои родители, люди самые / обыкновенные, держали меня в комнатах / до девятилетнего / возраста, заботились обо мне / по-своему, не пускали меня / на улицу, приучили не играть...» – он зазвучит по-иному; слова. разорванные стихоразделами, окажутся повышенно многозначительными, словно выделенными интонационным курсивом. Если бы текст был напечатан как проза, сплошной строкой, то каждый читатель был бы волен членить и интонировать его (про себя или вслух) как «синтаксически», более спокойно, так и «антисинтаксически», более напряженно, на самые разные лады, и все интерпретации были бы равноправны. Но так как текст Нельдихена напечатан раздельными строчками, то из этого множества интерпретаций выделяется как правильная лишь одна: произвол читательского восприятия ограничивается.
Поэтому неверно говорить (как бывает в полемике): «Это не стихи, а рубленая проза»; от такой «рубки» проза приобретает новое качество, новую организацию – становится стихом. Такой стих. отличающийся от прозы только заданной расчлененностью и свободный от правильного ритма и рифмы, называется свободным стихом (фр. vers libre, верлибр). (Не путать с вольным стихом – силлабо-тоническим разностопным неурегулированным и обычно рифмованным, о котором речь ниже, № 115—121.)
ЛИБО ПРОЗА, ЛИБО СТИХ
№ 3
Так и мы расстаемся
Подними голову – погляди в небо: одна за другою несутся тучи. Едва коснулись, и уже расстались, и уже потеряны одна для другой.
Так и мы расстанемся, так и мы теряемся в этом мире.
Опусти голову – посмотри в море: одна за другою проходят волны. Едва столкнулись, и уже расстались, и уже потеряны одна для другой.
Так и мы расстаемся, так и мы теряемся в этом мире.
№ 3а
С китайского
Подними голову,
Погляди на небо.
Одна за другою
Несутся тучи.
Едва коснулись
Одна другой,
И уже расстались.
Так и мы расстанемся в этом мире.
Опусти голову,
Посмотри на море.
Одна за другою
Проходят волны.
Едва столкнулись –
И уже расстались:
И уже потеряны
Одна для другой.
Так и мы расстанемся в этом мире.М. Шкапская, 1914
В предыдущем образце мы воображали свободный стих записанным сплошными строчками и получали прозу. Здесь не нужно воображения: за нас это сделал сам автор. Поэтесса Мария Шкапская в парижской Школе восточных языков услышала от товарища-студента старинные китайские стихи и пересказ их по-французски. Пересказ этот она записала русским верлибром. Через несколько лет, решив напечатать его (вместе с другими), она предпочла сделать это сплошными строчками – прозой. Проза эта синтаксически ритмизована – легко распадается на словосочетания в два слова. Один чтец выделит эти двусловия поштучно (как выше), другой – попарно:
Подними голову – погляди в небо:
одна за другою несутся тучи.
Едва коснулись – и уже расстались,
и уже потеряны одна для другой.
У первого текст зазвучит более отрывисто, у второго – более плавно. У кого правильнее? Сказать нельзя: прозаический текст дает одинаковое право чтецу членить его и так и этак. Если же текст записать верлибром, как и было у поэтессы в рабочем блокноте, то ответить можно: поштучное деление, отрывистое звучание – правильно, а попарное, плавное – нет. Почему? Потому что именно поштучно делит текст на двусловия сама поэтесса, задавая это членение нам, читателям, разбивкой текста на короткие строчки. Вот это и значит «обязательное для всех членение текста на заданные отрезки».
Обратите внимание, что при подготовке текста к печати – сплошными строками – Шкапская вносила в него и небольшие словесные изменения. Чему, по-вашему, они служили: чтобы текст звучал менее ритмично (как бы усиливая «прозаичность» написания) или более ритмично (как бы компенсируя «прозаичность» написания)?
МЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
№ 4
Москва под ударом
(Отрывок)
...Все это – Москва.
И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там – в переулках – дома. отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны и окна листвою.
Свернем...
Вот – тот дом!
Пять жерельчатых, белых колонн, – без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубопепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой стеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть выдаваясь выступом низа; сложеньем квадратов; в подъезде – два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литою решеткой, скрещеньем гермесовых жезликов. – отгородился от улицы: дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты – те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, – и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон присядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семячком в вечер, а вечер, уже отстекливши окошком, является облачком цвета вишневого...
А. Белый. 1925
В предыдущем тексте было членение на стихи, но не было ритма и рифмы, и текст воспринимался как стихи. В этом тексте есть ритм, и очень четкий, но нет членения на стихи (и нет рифмы), и текст воспринимается как проза – «метрическая» (или «ритмическая»), но все-таки проза. Ритм здесь трехсложный: обязательные ударения падают на каждый третий слог (как в дактиле, анапесте или амфибрахии), пропускаются они редко (на весь приведенный отрывок – 5 раз; найдите эти места), сверхсхемные ударения – редкие и легкие (на двухсложном слове – только один раз; где?). Текст похож на одну бесконечно длинную амфибрахическую (или анапестическую) строку. Именно поэтому это не стихи: членения на сопоставимые и соизмеримые отрезки здесь нет, наоборот, все ритмические, синтаксические и стилистические средства стараются представить текст сплошным и непрерывным. Известный стиховед С.М.Бонди, говоря о такой метрической прозе, напоминал стихи Маяковского о рифме (как сигнале конца стиха): «Говоря по-нашему, рифма – бочка. / Бочка с динамитом. Строчка – фитиль. / Строка додымит, взрывается строчка, – / и город на воздух строфой летит». «А тут, – говорил Бонди, – фитиль горит и горит, а бочки нет».
У Лермонтова такой метрической прозой написан отрывок «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..»; Андрей Белый написал так большую трилогию «Московский чудак», «Москва под ударом», «Маски» и ряд других произведений. Этот отрывок насыщен архитектурными терминами: абак – квадратная плита на верху колонны; дантиклы – зубчики; гермесовы жезлики – жезлы, перевитые змеями, распространенный орнаментальный мотив; сложенье квадратов – так называемая прямая рустовка, членение нижней части стены врезанными рубцами. Детва (в значении «детвора») – диалектизм, а прилагательное сребродрогий – неологизм Белого.
РИФМОВАННАЯ ПРОЗА
№ 5
Душа мира
Вечной тучкой несется, улыбкой беспечной, улыбкой зыбкой смеется. Грядой серебристой летит над водою – лучисто-волнистой грядою.
Чистая, словно мир, вся лучистая – золотая заря, мировая душа. За тобой бежишь, весь горя, как на пир, как на пир спеша. Травой шелестишь: «Я здесь, где цветы... Мир вам...» И бежишь, как на пир, но ты – там...
Пронесясь ветерком, ты зелень чуть тронешь, ты пахнёшь холодком и, смеясь, вмиг в лазури утонешь, улетишь на крыльях стрекозовых. С гвоздик малиновых, с бледнорозовых кашек ты рубиновых гонишь букашек.
<А. Белый>, 1902
Имя А. Белого мы взяли в скобки, потому что печатаем этот текст не в том виде, в каком печатал автор. Сделано это вот почему.
Мы видели: текст, в котором есть только заданное расчленение на отрезки, даже без ритма и рифмы, воспринимается как стихи: текст, а котором есть только ритм, воспринимается как проза. Теперь убедимся, что текст, в котором есть только рифма, тоже воспринимаются как проза. В предлагаемом здесь произведении рифм очень много: приблизительно три четверти составляющих его слов зарифмованы. Но расположены эти рифмы в очень прихотливом переплетении; схема рифмовки – АБВАВБГДГГД ЕЖЕЗИКЛЗЖ ИНЛМЖНКЖМН ОПРПОСРТСУТФУРФ (проверьте!). При таком переплетении исчезает всякая возможность предугадывать очередную) рифму и воспринимать ее как сигнал конца стиха: рифма остается не членящим, не структурным, а только звуковым, орнаментальным украшением текста. Произведение не делится на соизмеримые отрезки, не получает вертикальной организации в дополнение к горизонтальной, т.е. остается прозой. Попытайтесь сами расценить тот текст на «стихи», кончающиеся рифмами; после этого его уже нельзя будет называть рифмованной прозой, а нужно будет называть, например, «рифмованным свободным стихом». А потом сравните результат с тем, как разделил его на стихи сам Андрей Белый (см.: Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 85).
МНИМАЯ ПРОЗА
№ 6
Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово оканчивает звено.
И только в Ней оправданье темных наших кровей, тысячелетней данью влагаемых в сыновей.
И лишь по Ее зарокам, гонима во имя Ея – в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля.
М. Шкапская, 1921
№ 7
Петербурженке и северянке, люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой.
Знаю – будут любить мои дети невский седобородый вал, оттого что был западный ветер, когда ты меня целовал.
М. Шкапская, 1921
Этот текст записан как проза самим автором. Но в нем есть рифмы с простым и предсказуемым (в отличие от предыдущего текста) чередованием АБАБ – и слух, привыкший к звучанию стихов, легко ощущает их как сигналы членения на сопоставимые отрезки. Здесь есть ритм, облегчающий соизмерение этих отрезков, и слух, привыкший к звучанию стихов, легко опознает его как ритм 3-иктного дольника (см. № 142—143). Поэтому такой текст воспринимается не как проза, а как мнимая проза – на самом же деле это стихи З-иктного дольника с рифмовкой АБАБ, напечатанные сплошной строкой (по-видимому) лишь для впечатления неторжественной, интимной, скороговорочной интонации, – ср. № 3. (Автор их, поэтесса М. Шкапская, признавалась, что звучание стихов ей всегда неприятно и что сочиняет стихи она только «про себя».) Возможны, вероятно, и другие мотивировки такой записи (ср. горьковскую «Песню о Буревестнике»). Во всяком случае, распознание стиха в такой мнимой прозе требует от читателя некоторого владения традиционной стиховой культурой.
МОНОСТИХ
№ 8
Танка
И кожей одной и то ты единственна.С. Вермель, [1915]
Особого рода трудности при определении положения текста между стихом и прозой возникают тогда, когда этот текст слишком короток. В этом случае ни о внутреннем членении текста, ни о поворотах, ни об их предсказуемости не возникает и речи; текст воспринимается как стих или как проза исключительно в зависимости от контекста. Недавно для таких неудобоопознаваемых форм был предложен поэтом В. Буричем (еще не привившийся) термин «удетерон» (гр. «ни то ни другое»). Таковы пословицы, поговорки, загадки, таков же и моностих (одностишие). Эта строка среди прозаического монолога показалась бы несомненной прозой, но на странице альманаха или стихотворного сборника ощущается как стих. Конечно, такие «стихи» возможны только в культуре с развитой поэтической традицией. С. Вермель, меценат и поэт-любитель, явно старался создать футуристический аналог знаменитому моностиху В. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги» (1894), с которого, можно сказать, начался русский символизм. Заглавие «Танка» указывает лишь на краткость стихотворения; как выглядят настоящие «танка», читатель увидит в № 152.
МЕЛОДИЧЕСКАЯ И ИНТОНАЦИОННАЯ ГРАФИКА
№ 9
Прощанье
В авто,
последний франк разменяв.
- В котором часу на Марсель? -
Париж
бежит,
- провожая меня,
во всейневозможной красе.
Подступай
- к глазам,
- разлуки жижа,
сердцемне
- сантиментальностью расквась!
Я хотел бы- жить
- и умереть в Париже,
если б не было- такой земли –
- М о с к в а.
- В. Маяковский. 1925
№ 10
Марине Цветаевой
О,
Неосязаемые
Угодия
Ваших образов –
- – в пыль, в распыляемые
- орбиты
серебряного прискорбия –
- – И –
Праздномыслия, –
Как –
Быль, –
Как –
Молитвы,
Как –– Непобедимые,
Малиновые мелодии
– И
Как –
- – Зримые ритмы...
Вихрь –
Их
Стих!- А. Белый, 1922, 1931
№ 11
Лето в Белоруссии
День, Λ голу
День, Λ золо
Тихие по
спелым аро | бой Λ день
той Λ день, Λ
ляны золо
матом, вете | пей Λ Λ Λ
хлынь Λ Λ Λ
ти, Λ мой Λ
рок, Λ дай Λ | Даль! Λ Λ Λ
в боль! Λ Λ Λ
день! Λ Λ Λ
дань! Λ Λ Λ |
Иду по по
Бегу по лу
марево ко
жаворонок | лям –– Λ и Λ
гам Λ и Λ
лышет дале
день Λ Λ свер | нет Λ Λ Λ
цве-еты Λ
ко Λ мой Λ
лит Λ хруста | дум. Λ Λ Λ
в дым Λ И Λ
дом, Λ и Λ
лем. Λ И ду- |
ша Λ зали
за Λ нали
Жизнь, Λ Λ Λ
И в пыль, Λ Λ | та Λ золо
ты Λ золо
бей! Λ Λ Λ
и в дым Λ Λ | той Λ то-ос
тыми василь
Жги! Λ Ра-ас
Но-очей Λ | кой, Λ и гла-
ками. Λ Λ
куй! Λ Λ Λ
ка-амень! Λ |
Голубые
Лиловая
Розовую
тят Λ по ов | вдалеке Λ
ро-оща Λ
гре-ечку Λ
су Λ камер | льны Λ Λ Λ
тучкой на ла
пчё-олы Λ
то-онным Λ | льнут. Λ Λ Λ
до-они. Λ
пьют Λ и ле-
зво-оном. Λ |
Добела рас
и тоска Λ
Этому ли
Этому ли | калены Λ
в облаках Λ
со-олнцу Λ
атому лихо | в синеве Λ
ле-егка! Λ
пе-есни Λ
ра-адкой Λ | облака, Λ
ле-егка, Λ
лить? Λ Λ Λ
бить? Λ Λ Λ |
День, Λ голу
День, Λ золо
Λей, Λ Λ Λ
А мне, лето | бой Λ день, Λ
той Λ день, Λ
ле-ето, на
лить июли | ра-адость Λ
в жизнь Λ Λ Λ
лей Λ до но
лень, Λ Λ Λ | лей! Λ Λ Λ
вдень! Λ Λ Λ
лей! Λ Λ Λ
лень...Λ Λ Λ |
| А.П.Квятковский, 1922 |
Если, таким образом, членение на соотносимые отрезки является главным отличием стиха от прозы, а графическое расположение печатных строчек оказывается главным средством изобразить такое членение, то хочется спросить: а нельзя ли с помощью тех же типографских средств передать еще какие-нибудь, более сложные особенности интонации стиха?
Такие попытки делались. Самая известная из них – это «лесенка» Маяковского; печатая свои 4-ударные стихи «ступеньками» преимущественно по 1+1+2 или 2+2 слова, а 3-ударные – по 1+2 слова, он добивается того, что начало стиха звучит более отрывисто, а конец – более плавно. Но были и другие опыты.
Поздний Андрей Белый, стремясь передать «мелодическое» единство стиха («Будем искать мелодии» – называлась его программная заметка), печатал почти каждое слово в отдельную строку (как бы выделяя его курсивом) и сдвигал части фраз вправо (как бы требуя соответственного повышения или иного напряжения голоса).
А.П.Квятковский, поэт-конструктивист и создатель «такто-метрической» теории стиха (см. его «Поэтический словарь». М., 1966), стремясь передать равнодлительность звучания стиховых «тактов», печатал свои стихи четырехсложиями, такт за тактом, отмечая растяжения слогов («ро-оща» – как бы в три слога), паузы (знак Λ) и сдвиги ударения с начального слога такта на внутренний («Иду по по...»). В широкое употребление эти приемы не вошли, но пространная область для экспериментирования здесь остается. Два последних приводимых стихотворения печатаются в поздних рукописных редакциях, при жизни авторов не публиковавшихся.
АКРОСТИХ И МЕСОСТИХ
№ 12
М.Л.Лозинскому
МнОгоязычием пленительным звучат
ЛеТейских берегов туманные дубровы.
ОсЛавим же того, кто, мир увидев новый,
ЗоИлом став, не чтит всех канувшего чад.
ИсПании сады! В них птицы верещат
НаСледьем сладостным. Италия! Суровый
СоК выжав из терцин, там с бездны снял покровы
КрЕст утвердивший муж. Былые не молчат!
ОвРаги перейдя, хоть высь была бы в тучах,
МхОм полускрытый ключ слов блещущих, певучих,
УдВоив поиски, ищите в тьме густой.
ДлАнь вяща с посохом. Придя к благому краю,
АлКать недолго вам! Ручей коснется, знаю.
РтА вашего... Мы ждем! Где стих ваш золотой?
К. Липскеров, 1948
№ 13
К.А.Липскерову
МнОгОлюбезный друг, волшебник и поэт!
Ах, ТоТ велик в веках, чья лира грянет храбро
ГиМн, Воспевающий акростихи Констабра,
УзЛы Его “К.Л.” и мудрый кабинет!
ЛаЛ и Топаз камей. Пуссен – автопортрет
ИзОгНутая “пси” тройного канделябра.
По ЗвОнкому клинку – резьба: “Абракадабра”.
С тИбЕтским Буддою бок о бок Тинторет.
КаНоПской лирницы уста, как ночь, спокойны.
Ей СнИтся древний плеск, ей снится берег знойный
РеКи, Струящейся, как вечность, где-то там.
ОгОнЬ чуть теплится на самом дне печурки.
В еГо Мерцании загадочным цветам
УпОдОбляются картофельные шкурки.
М. Лозинский. 1948
№ 14
М.Л.Лозинскому
ЛеПечет ржавый ключ...
ОбОрвана листва...
ЗаКат зардел, - и вот
ИрАн ли там, Китай,
НаЯд ли там хвосты.
СеНтябрь? всех зорь твоих
КиНь мне их ворох вновь.
ОбЫчной дачки тишь...
МнЕ мир мелькнул иным.
УрСула Мемлинга,
МеТнул в них взором Пан...
ШлИ мне, поэг, стихи!
ЛиХ был совет мой, но...
(ЮлИть ли вам?) плывя, | |
СуКи гнилые, пни...
ЕлОзит ветер всюду.
БуНт красок равен чуду.
ЯсСин ли? О, Мани!
ПоТок там иль огни?
ОбЛичья не забуду!
СкИнь с мысли истин груду!
РеПейник, – но взгляни:
АкСюша у ограды –
МаКар – герой Эллады,
ЛьЕт песни ключ... Внимай!
ЯдРо созвучий – в сказке.
ЯзОн! Вы без опаски
ЯнВарь отправьте в май. |
| К. Липскеров, 1948 |
По-гречески “акро-” значит “начальный”, “месо-” – “серединный”, “теле-” – “конечный”. Акростихом называется стихотворение, в котором первые буквы стихов (или строф) складываются в определенный осмысленный порядок. Это не просто украшение: отмечая собой начало каждого стиха, они тем самым подчеркивают стихоразделы, членение текста на стиховые отрезки, т.е. главное отличие стиха от прозы. Не случайно, когда в XVII в. начиналась русская поэзия и еще не были выработаны ни силлабо-тонические, ни даже силлабические размеры, а единственной приметой стиха была рифма (как в раешном стихе, см. № 149), то в дополнение к этой отметке конца строк стихотворцы очень часто отмечали и начало строк – пользовались акростихами, порой растягивавшимися на длиннейшие фразы.
Древнейшей формой акростиха был “абецедарий”: начальные буквы стихов или строф следовали в простом алфавитном порядке. Это было средством лучше запомнить важный текст и ничего в нем не пропустить. Так построены уже некоторые древнееврейские псалмы. Потом акростих стал средством подчеркнуть (и в то же время скрыть) имя автора или адресата, если их почему-либо нельзя было дать открытым текстом. Соответственно, главным приютом акростихов стала альбомная, мадригальная поэзия, бытовая периферия литературы.
По аналогии с акростихами стали сочиняться и месостихи – стихотворения, в которых осмысленное имя или фраза читались по вертикали не по первой, а по третьей (или иной) букве каждой строки. Стали появляться и совсем уж изысканные сочетания акростихов и месостихов. Чтобы еще больше усложнить эти трудные фокусы, для них обычно выбирались сложные строфические формы – преимущественно сонеты (см. № 198—202). В предлагаемой подборке образцов (публикуется впервые) мы позволили себе выйти за хронологические рамки нашей книги, потому что эти опыты уникальны в русском стихотворстве.
Москвич К. Липскеров и петербуржец М. Лозинский до революции писали и печатали оригинальные стихи, а после революции – преимущественно переводы. В 1948 г. Липскеров послал Лозинскому сонет с фразой в два столбца (по 1-й и 3-й буквам): “М. Лозинскому дар от Липскерова К.А.” – осуждение тех, кто пренебрегает поэтами прошлого (“чадами канувшего”), прославление Лозинского за его переводы с испанского и итальянского (в частности, терцин Данте, см. № 170) и приглашение к оригинальным стихам (“Горный ключ” – называлась давняя книжка стихов Лозинского). Лозинский немедленно ответил на этот “акро-месостих” еще более сложным “акро-димесостихом” в три столбца (по 1, 3 и 5-й буквам) на фразу: “Магу Липскерову от М.Л.Лозинского ответное письмо” – описанием (приукрашенным!) кабинета Липскерова, в котором было много ценных картин и антикварных ценностей (“пси” – греческая буква, до виду похожая на трехсвечник; Ψ, канопская фигурка – Александрийская; Тинторет<то> и Пуссен – художники XVI и XVII в.в. “К.Л.” – вензель Липскерова, а Конст<антин> Абр<амович> – сокращение его имени). Липскеров тотчас бросился писать ответ, наметил вертикальные строки “Конст. Липскеров / задумал и решил и / вот нанизано все”, но дальше шестого стиха у него дело не пошло:
КаЗаВшийся для всех немыслимым сонет
ОсАдОй ловких слов я принуждаю к сдаче.
НаДеТ на мне доспех, я – в узах, но не в плаче
СоУзНик мой – мой стих: вернее друга нет.
ТеМнА вначале даль, но верю я удаче:
ЛуАр Новым брегам послал я свой привет...
И все-таки ему удалось превзойти Лозинского: он написал “акро-тримесостих” в четыре столбца (по 1-й и 3-й буквам каждого полустишия 6-ст.ямба, которым написаны эти сонеты) на фразу “Лозинскому шлю покаянные стихи, себя посрамляя, я, Конст. Липскеров”. Сонету предпослан эпиграф: “Поучайся у зорь. – Куан-Ли”; содержание сонета – как преображается природа в лучах заката, русская деревня кажется Ираном (Мани – иранский вероучитель; манихейские книги и церкви отличались росписями; Яссин – по-видимому, вымышлен) и Элладой (с богом Паном и нимфами-наядами), парень с девушкой – ожившими греческой статуей и картиной средневекового немецкого художника Мемлинга, а адресат – Язоном, плывущим за золотым руном поэзии.
В учебниках обычно пишется, что организующим центром художественного произведения является идея, а все остальные его элементы подбираются применительно к ней. Литературовед Б.И.Ярхо справедливо заметил, что далеко не обязательно идея: в акростихе таким центром являются всего-навсего осевые вертикальные слова, а к ним подбирается все остальное.
В заключение скажем, что кроме “акростихов” существует и “акропроза”. Л. Успенский в “Записках старого петербуржца” (Л., 1970) цитирует газетный фельетон А.В. Амфитеатрова, напечатанный за месяц до Февральской революции: если читать подряд, то это почти бред, а если по первым буквам каждого слова – смотрите сами: “Рысистая Езда Шагом Или Трусцой Есть Ледяное Неколебимое Общественное Настроение... И, Ох, Чтобы Его, Милое, Пошевелить Или Сбить, Адская Твердость Нужна, Едва Ли Завтра Явится Предсказуемая! Робкая, Еле Движущаяся Вялость, “Археянство” Рабское, Идольская Тупость, Едва Ловящая Новости, А Ярких Целей, Ести Не Зовом Урядника Рекомендованных, Артистически Бегущая Елико Законными Обходами, Безмерная Растрепанность, Асбестовая Заледенелая Невоспламеняемость, Исключительно Чадная Атмосфера, Этическая Тухлость, Чучела Ухарские, Дурни-Обломовы, Волки и Щуки Наполняют Общество...”
АКРОСТИХ И ТЕЛЕСТИХ
№ 15
* * *
Ю.Н.Верховскому
Юлою жизнь юлит в чаду своих повтороВ.
Рассеянно бредя, ты проглядел еЕ;
И слушал тишину, и слушал в поле вечеР,
Юдоль тоски земной переплавляя в стиХ,
Не требуя наград, шагая неустаннО – ,
И в тридцати годах спокойных чистых слоВ
Каким зерном нагруз твой полновесный колоС!
Ах: что нам пожелать поэту в этот сроК?
Немного радости да отдыха немногО...
Да чтобы Муза та, которой он ведоМ,
Ревниво сторожа его скупую славУ,
Опередив других, не уступая праВ,
Верна, как и всегда, к нему стремила дланИ
И, скромный юбилей приветствием почтиВ,
Чтоб с нами здесь она, ликуя, возгласилА:
Ура! – Верховскому, – ура! ура! виваТ!
А. Альвинг, 1929
Как месостих складывается из серединных букв стиха, так телестих складывается из последних букв стиха. Понятно, что такая форма практически возможна только в нерифмованном стихе (почему?). Поэтому употребляется она гораздо реже; во всей русской поэзии мы знаем только приводимый здесь пример, да и тот печатается впервые. Это стихотворение в честь 30-летнего юбилея поэтической работы писателя Юрия Верховского (в этой книге есть его стихи); по начальным, а потом по конечным буквам читается: “Юрию Никандровичу Верховскому виват!”
Бывают и более сложные расположения выделенных слов и фраз в стихотворном тексте, например, по диагонали: 1-я буква 1-й строки, 2-я буква 2-й строки, 3-я буква 3-й строки и т.д. (сонеты с такими “акростихами” писал Э. По, а переводил – что было едва ли не труднее – В. Брюсов). Но здесь акростих уже окончательно теряет свою первоначальную функцию разметки стихоразделов и становится только украшением, поэтому о таких приемах уместнее говорить как о фигурных стихах.
ФИГУРНЫЕ СТИХИ
№ 16
Запоздалый ответ
Вадиму Шершеневичу
ВлекисуровуюмечтУ,
дАйутомленнойреЧи,
ваДимъиэтудальИту,
дарИнастаромъВече
себеМгновениеЕогня,
дайсмУтестеНыволи.
тыискуШениЕкремня:
затмениЕоШибкудня-
троньискРоюдоболи!
В. Брюсов, 1913
№ 17
Ромб
Мы –
Среди тьмы.
Глаз отдыхает.
Сумрак ночи живой.
Сердце жадно вздыхает.
Шопот звезд долетает порой,
И лазурные чувства теснятся толпой.
Все забылося в блеске росистом.
Поцелуем душистым!
Поскорее блесни!
Снова шепни,
Как тогда:
«Да!»
Э. Мартов, 1894
№ 18
Веер
Вея
В крае
Пьяных
Маев
Пойте
Явно
Пейте
Юно
Яд! | |
Пестрея
Страдая
В павлиньих кружанах,
Тепло горностаев
Раскройте, закройте,
Чтоб плавно
На флейте
Разбрызгались луны,
Что в окнах плескучих стоят! |
| С. Третьяков, 1913 |
Под фигурными стихами обычно понимаются две не совсем одинаковые вещи. Во-первых, это стихи (обычно из одинакового числа букв), по которым в разных сложных направлениях, образуя фигурные узоры, располагаются различные акростихи, месостихи и телестихи, иногда сами выдерживающие стихотворный ритм. Мастером таких «сверх-акростихов» был латинский поэт IV в. Порфирий Оптациан. Брюсов пытался его переводить, но тщетно. Слабым подражанием такой техники является первое из приводимых стихотворений (при жизни Брюсова не печатавшееся) – ответ поэту В. Шершеневичу на его такое же «фигурное» (только гораздо более неуклюжее) стихотворение в честь Брюсова. Видно, что «фигура» здесь – только украшение, а не структурный элемент: если ее не наделить шрифтом, то ни ритмического, ни какого-либо иного «ожидания» отдельных букв читатель не ощущает, а стало быть, и эстетического напряжения и разрешения не происходит. А о первоначальной стихораздельной функции акростиха и говорить не приходится – достаточно взглянуть на узор.
Во-вторых, фигурными называются стихи из неровных строк, складывающихся в очертания статического узора («ромб»), или изображение динамического движения (раскрывающегося и закрывающегося «веера»). Такие фигурные стихи известны с III в. до н.э. Здесь структурность фигурной формы не вызывает сомнений: объемы каждой строки предсказуемы, каждый стих «ромба» сначала длиннее предыдущего, а потом короче предыдущего. Производящие впечатление стихотворных фокусов, эти стихотворения принадлежат к ранним, эпатирующим произведениям русского символизма (Э. Мартов) и русского футуризма (С. Третьяков).
Общее в фигурных стихах того и другого рода в том, что это «стихи для глаза», исключительно для зрительного восприятия: при восприятии со слуха вся специфика их пропадает. Они прямая противоположность тем «стихам для слуха», которые силились сделать А. Белый и А. Квятковский. И это – интересное напоминание о сдвигающемся месте поэзии среди других искусств. В начале своего существования, в фольклоре, она существовала слитно с песней и тем самым была близка музыке. В наше время она живет на книжных страницах, воспринимается зрением и тем самым близка графике. Еще теснее связь между поэзией и графикой становится в «стихах», которые мы увидим в следующем параграфе.
КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ
№ 19
Запоздалый ответ
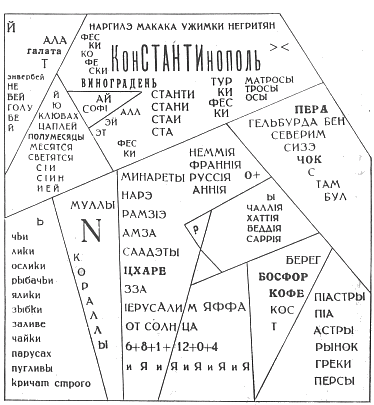
В. Каменский 1913
В заглавии этого параграфа – невольная игра слов. «Конкретной поэзией» стали называть свои стихи поэты разных стран (начиная с 1950-х годов), писавшие тексты, напоминающие то кроссворды, упражнения на перестановки и замены букв, то наборы перекликающихся слов, продуманно разбросанных по странице. Название было выдумано, по-видимому, по аналогии с «абстрактной живописью». До нашей страны такая «конкретная поэзия» не дошла. Но по-английски слово «конкретная» имеет второе значение: «бетонный». И вот тут произошло чисто случайное совпадение: русский поэт Василий Каменский, еще в 1913 г. написавший несколько произведений в похожей (и даже еще более смелой) манере, почему-то окрестил их «железобетонными поэмами». Эти «поэмы» представляли собой лист (со срезанным углом), расчерченный на неправильные многоугольники, заполненные словами, слогами и буквами. Больше всего они напоминали картины, покрытые вместо мазков краски мазками слов. Русские поэты-футуристы (в том числе и Каменский) по совместительству много занимались живописью, и это вполне могло дать толчок поэтическим новациям Каменского.
К «железобетонной поэме» «Константинополь» сохранился автокомментарий, записанный критиком А. Шемшуриным (см. альманах «Стрелец» – Пг., 1915. № 1). Он небезынтересен. Из него следует, что в каждом многоугольнике есть какое-то ведущее слово, а вокруг него нанизываются по смыслу (как в правом нижнем углу), по звуку (как в левом верхнем углу), по образным ассоциациям (как вокруг слова «полумесяцы») ассоциативно близкие слова и слоги, по возможности сплетающиеся друг с другом («виноградень», «тур-ки фес-ки», «аст-ры, ры-нок» и пр.). Перед нами рынок (нижний правый угол), морская прогулка (нижний левый), мечети, как вскинутые клювы цапель на фоне заката («полумесяцы...»), и пр.; центральный столбец («минареты – нарэ...») – это по большей части личные имена, искаженные, как и большинство услышанных Каменским турецких слов; Й в верхнем углу – крик нищих мальчишек; Энвер-бей – турецкий военный министр; Пера и Галата – кварталы в Константинополе; гельбурда бен северим... – «приходи, я очень тебя люблю, Стамбул» (тоже с искажениями). Большое N означает загадочность этого мусульманского города, кораллы – талисман поэта против этой загадочности, 6 + 8 + 1... – удачные броски в кости; счастья хочет и поэт, поэтому он пишет: и Я.
То новое, что дает нам этот текст со стиховедческой точки зрения, – это произвольность порядка его чтения. До сих пор мы видели хотя бы строчки, по которым следовал наш взгляд; здесь и того нет. Поэт, по-видимому, предполагает, что мы начинаем чтение (точнее, рассматривание) с самого крупного слова «Константинополь», но мы столь же вправе начать с первого бросившегося в глаза «N» или с верхнего левого «Й» или с серединного столбца. Перед нами «стихи для глаза» в предельной форме. Более того, мы уже не можем с ручательством сказать, что это стихи вообще; раз нет заданной последовательности чтения, то подавно нет и какой бы то ни было предсказуемости отрезков текста. Каменский (и его современные западные продолжатели) мог бы назвать свои произведения и «железобетонной прозой». Мы обошли полный круг промежуточных форм между стихом и прозой: перед нами опять стихотворение в прозе, т.е. чистая проза, хотя к художественным средствам ее, виденным нами в № 1, добавились такие, которые Бодлеру и не снились.
ПАЛИНДРОМОН
№ 20
* * *
Город энергий в игре не дорог.
Утро, вворк – и кровь во рту.
Умереть. Убор гробу-терему,
Иноки, жуть и тужьи кони.
Опели они чинно и лепо;
Церковь гуденья недуг в окрест –
И толп ужин, и нижу плоти
Зубра, и мумм, и арбуз.
И ловит жена манеж «Тиволи»,
И жокей так снежен скатье кожи;
А ты, могилка, как лик, омыта:
Тюлий витер ретив и лют.
И. Сельвинский, [1926]
Самый яркий образец «стихов для глаза» – палиндромон (гр. «бегущий назад»): стихотворение, строки которого могут читаться (обычно – с одним и тем же или подобным смыслом) спереди назад и сзади наперед. Понятно, что этот эффект поддается восприятию только при чтении, а не на слух. Отчетливость деления на строки и замкнутость этих строк достигает здесь предела. В русском языке осмысленные палиндромоны составляются очень трудно, но в языках иного строя (например, в китайском) могут достигать большой выразительности. Среди поэтов начала XX в. серьезно интересовался палиндромонами («перевертнями») В. Хлебников, автор палиндромической поэмы «Разин»: для него эта форма связывалась с идеями обратимости, повторности и познаваемости времени. Приводимый палиндромон из книги И. Сельвинского «Записки поэта» (М., 1928) интересен игрой вынужденных синтаксических и лексических натянутостей (тужьи – от слова «туга», тоска; нижу, – видимо, от глагола «низать»; мумм – марка шампанского; тюлий – от прозрачной ткани «тюль» или от междометия «тю!»; витер – украинизм вместо «ветер»; объяснить слово «скатье» затрудняемся: может быть, от «скатный жемчуг»?).
II. СТИХОРАЗДЕЛ И РИФМА
ПАРАЛЛЕЛИЗМ И АНЖАМБМАН
№ 21
Звезды синие
Вечером рассыпет злато солнце;
Вечером ко мне пришла ты, солнце!
Загляну я в небо ночи – звезды;
Загляну тебе я в очи – звезды.
Нашей песней мы разбудим месяц;
В нашей песне мы забудем месяц.
Стоит тоже помнить месяц!
Разыщи его при солнце!
Разгляди при нем-ка звезды!
А вот ты! – раскроешь губы – месяц
Так и светит; рассмеешься – солнце
Жжет, а глаз ведь не зажмуришь – звезды.
- Вс. Курдюмов, [1914]
Итак, стих отличается от прозы тем, что в прозе текст членится на отрезки только синтаксисом, а в стихе – еще и дополнительным членением, отмеченным особым образом (обычно – печатанием отдельными строчками). Когда эти два членения совпадают («синтаксическое» деление на стихотворные строки), то стих звучит спокойнее, когда не совпадают («антисинтаксическое» деление) – звучит напряженнее (№ 2). Наиболее яркий случай «синтаксического» деления – параллелизм: это когда смежные строки строятся по одинаковой схеме и перекликаются друг с другом каждым или почти каждым словом. Предполагается, что именно параллелизм был древнейшей в мире формой стиха. Наиболее яркий случай «антисинтаксического» деления – анжамбман (фр. «перенос», «перескок», см. № 2): это когда в начале или конце строки появляется слово, синтаксически не связанное с ней, а связанное гораздо теснее с предыдущей или последующей строкой.
В стихотворении Вс. Курдюмова начало построено на параллелизмах, а конец – на анжамбманах. Первые три двустишия представляют собой идеальный параллелизм: каждая строка – отдельная фраза, первые и последние слова в этих фразах совпадают. Следующее трехстишие не столь стройно, но все равно каждая строка в нем – отдельная фраза, а заканчивающие их слова «месяц», «солнце» и «звезды» после предыдущих двустиший воспринимаются как однородные. А последнее трехстишие заканчивается на те же слова, но поставлены они не в параллелизмах, а в анжамбманах и поэтому звучат резче, напряженнее, подчеркнутее: стихоразделы здесь не замыкают, а рассекают фразы – «месяц / Так и светит», «солнце / Жжет».
Есть ли в этом стихотворении рифмы? В первых трех двустишиях бесспорно есть: «злато – пришла ты», «ночи – очи», «разбудим – забудем»; почему они стоят не в самом конце строки, будет сказано далее (№ 34—35). Но присмотритесь еще и к оттенкам значений ключевых слов «солнце», «звезды», «месяц». В 1-й строке «солнце» в прямом смысле слова – «небесное светило»; во 2-й строке в переносном смысле – «возлюбленная». В 3-й строке «звезды» в прямом смысле слова – те, которые на небе; в 4-й строке в переносном – глаза возлюбленной. В первом трехстишии все три слова – в прямых значениях; во втором трехстишии – в переносных. Прочтите, что сказано далее о рифмах омонимических и тавтологических (№ 27—28), и подумайте, на что больше похожа эта рифмовка прямого значения слова с его же переносным значением.
НЕРИФМОВАННЫЙ (БЕЛЫЙ) СТИХ НЕСТРОФИЧЕСКИЙ
№ 22
Прощанье
(Комната царевны)Вот наконец ты мой. Прозрачней мирры
Твое лицо, а кровь на желтом блюде –
Как альмандины. Волосы твои,
Такие длинные, сплету с моими –
И наши губы вровень будут... ты
Любовник мой! Еще не сыты груди,
И запах крови сладострастно мучит.
Ты не хотел смотреть, как я плясала,
Упрямый... ну, гляди, тебе спляшу
Я много лучше, чем царю. Гляди же... (Пляшет.)
Ах, в ласках я была б еще искусней!
Ресницы у тебя как шелк, а зубы
Холодные. (Коварный холод, льющий
Безумие в лобзания.) Каким
бы ты красноречивым был любовником,
Пророк, поправший красоту земную,
Даривший черни пылкие слова.
Меня ты презирал... Прими во мщенье
И сохрани мой образ навсегда!
(Быстро опускает мертвецу веки и ладонями крепко прижимает их.)
(Голос раба) – Тебя зовет царица!..
- Вл. Эльснер, [1913]
Стихораздел, самое важное место стиха, в новоевропейской поэзии преимущественно отмечается рифмой. Но это не обязательно. Античная поэзия не знала рифмы; а когда в эпоху Возрождения стали создаваться жанры, подражающие античным, то в них тоже стал использоваться нерифмованный (белый) стих. Самым популярным из этих жанров была трагедия: итальянская, потом английская (Шекспир), потом немецкая (Шиллер), потом русская («Борис Годунов»). Из трагедии этот нерифмованный 5-ст. ямб перешел в лирические стихотворения, по строю напоминавшие монологи-раздумья («...Вновь я посетил...» Пушкина и т.д., вплоть до «Вольных мыслей» Блока). Монологом, как бы вырванным из ненаписанной трагедии, является и стихотворение В.Ю.Эльснера: это, несомненно, слова Саломеи перед отрубленной головой Иоанна Крестителя (тема, популярная после «Иродиады» Флобера, «Саломеи» Уайльда и рисунков к ней Бердслея). Для драматического стиха характерны гибкие переносы фразы со строки на строку (анжамбманы); тематическая кульминация отмечена самым смелым из таких переносов («...Каким / бы ты...») и дактилическим окончанием («...любовником») среди обычных мужских и женских (см. № 64).
НЕРИФМОВАННЫЙ (БЕЛЫЙ) СТИХ СТРОФИЧЕСКИЙ
№ 23
* * *
На палубе разбойничьего брига
Лежал я, истомленный лихорадкой,
И пить просил. А белокурый юнга,
Швырнув недопитой бутылкой в чайку,
Легко переступил через меня.
Тяжелый полдень прожигал мне веки,
Я жмурился от блеска желтых досок,
Где быстро высыхала лужа крови,
Которую мы не успели вымыть
И отскоблить обломками ножа.
Неповоротливый и сладко-липкий
Язык заткнул меня, как пробка флягу,
И тщетно я ловил хоть каплю влаги,
Хоть слабое дыхание бананов,
Летящее с Проклятых Островов.
Вчера, как выволокли из каюты,
Так и оставили лежать на баке,
Гнилой сухарь сегодня бросил боцман
И сам налил разбавленного виски
В потрескавшуюся мою гортань.
Измученный, я начинаю бредить,
И снится мне, что снег идет в Бретани,
И Жан, постукивая деревяшкой,
Плетется в старую каменоломню,
А в церкви гаснет узкое окно.
- Вс. Рождественский, 1919
В русском белом 5-ст. ямбе по традиции свободно чередуются женские и мужские окончания; фразы, располагаясь по строкам, обычно стремятся заканчиваться на мужских окончаниях, потому что после них пауза в произношении бывает дольше. (В предыдущем тексте это не соблюдалось в начале и соблюдалось в конце стихотворения, от этого конец звучал спокойнее.) Если урегулировать чередование женских (Ж) и мужских (М) окончаний и подчеркнуть его синтаксисом, то текст станет строфическим (как здесь с повторяющимся и поэтому предсказуемым ЖЖЖЖМ). Ср. более сложную строфу такого же рода (ЖЖЖМЖЖЖМ + Ж) в стихотворении О. Мандельштама:
Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре
С прокопченной высокой галереи
При свете оплывающих свечей
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу обращенный к рампе
Двойною рифмой оперенный стих:
– Как эти покрывала мне постылы...
Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира... <...>
В приведенном стихотворении Вс. Рождественского начальная строка представляет собой цитату из Лермонтова, причем из прозы («Княжна Мери»).
НЕРИФМОВАННЫЙ И РИФМОВАННЫЙ СТИХ
№ 24
* * *
Отвечай мне, картонажный мастер,
Что ты думал, делая альбом
Для стихов о самой нежной страсти
Толщиною в настоящий том?
Картонажный мастер, глупый, глупый,
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.
Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,
Так же как и женщине с мужчиной
Никогда друг друга не понять.
Но поет мне голос настоящий,
Голос жизни, близкой для меня,
Звонкий, словно водопад гремящий.
Словно гул растущего огня:
«В этом мире есть большие звезды,
В этом мире есть моря и горы,
Здесь любила Беатриче Данта,
Здесь ахейцы разорили Трою!
Если ты теперь же не забудешь
Девушку с огромными глазами,
Девушку с искусными речами,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, недостоин».
- Н. Гумилев, 1917
Пушкинский «Борис Годунов» написан обычным в драмах XIX в. нерифмованным 5-ст. ямбом. Но в нескольких местах в него вторгаются рифмованные четверостишия. Один раз – в кульминационный момент судьбы Бориса, в конце его монолога:
...Ужели тень сорвет с меня порфиру,
Иль звук лишит детей моих наследства?
Безумец я! чего ж я испугался?
На призрак сей подуй – и нет его.
Так решено: не окажу я страха –
Но презирать не должно ничего...
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
Другой раз – в кульминационный момент судьбы Самозванца, в начале его монолога:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться...
Совершенно очевидно, что эти вкрапления рифм в безрифменный стих служат средством выделения наиболее важных мест – как бы «рифмическим курсивом». Очень часто (например, у Шекспира) зарифмованные строки служат сигналом окончания сцены или целой пьесы («Нет повести печальнее на свете, / Чем повесть о Ромео и Джульетте»). Но из этого совсем не следует, что рифмованный стих от природы более возвышен и многозначителен, чем нерифмованный. Приводимое стихотворение – пример противоположного соотношения рифмованного и нерифмованного стиха: основная часть его написана с рифмами, а концовочная, самая важная, – без рифм; и эффект получается не меньший. Можно сказать: в драме основная, нерифмованная часть диалогов как бы воспроизводит разговорную речь, заставляя забывать о поэзии, а рифма, являясь в самых ответственных местах, о ней напоминает и этим возвышает тон; в нашем стихотворении основная, рифмованная часть выдержана в легком альбомном стиле, а безрифмие, являясь в концовке, напоминает интонацией монолог торжественной трагедии и этим возвышает тон. (Гумилевское стихотворение – альбомное в буквальном смысле слова, из любовного цикла к даме, которая вышла замуж не за него, а за американца; он даже собирался озаглавить весь цикл «Картонажный мастер».) И в том и в другом случае главное – не внутренние свойства нерифмованного и рифмованного стиха, а отношение того и другого, их смена.
ПОЛУРИФМОВАННЫЙ СТИХ
№ 25
Баллада
Это было в глухое время,
Наяву ли, во сне – не знаю.
Ночью ставил я ногу в стремя
И давал жеребцу поводья.
А когда выгибал он шею,
Как я бил его толстой плетью,
Как боялся, что не успею
Перегнать грозовую темень!
Но земля широко стонала,
Отражая нас гулкой грудью,
Чаще звездное опахало,
Развеваясь, роняло перья.
О, скорее! Не опоздать бы...
Я кричу, я глотаю ветер.
Это ночь нашей черной свадьбы
С той, которой сейчас не спится.
Если в башне огонь зеленый.
Если выйдет она навстречу, –
Мне не надо моей короны,
От меня отступился дьявол.
- Вс. Рождественский, [1921]
№ 26
Любовь не картошка
Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки. «Несчастный капцан!»
Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки.
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
Наутро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слез опухшую дочку.
Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла, как идол.
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». – «Молчать!!!» – «Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал... вздохнул. Ни словом решенья не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжко в ковер. Дочку заперли в спальне.
Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришел, негодяй, закурил и расселся, как дома.
Madame огорченно сморкается в пятый платок.
Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщнк! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой, как мак!..» <...>
- С. Черный, 1910
Кроме стиха рифмованного и нерифмованного возможен стих полурифмованный – такой, в котором часть стихоразделов отмечается рифмами, а часть – нет. Почти всегда рифмованные окончания (А) и нерифмованные (X) чередуются в последовательности ХАХА (например, у Блока: «Барка жизни встала / На большой мели, / Громкий крик рабочих / Слышен издали...»). Это не вызывает трудностей при восприятии, – кажется, что это не четыре коротких, а два длинных стиха АА, для удобства разделенных каждый пополам. В предлагаемой «Балладе» последовательность обратная – АХАХ: рифмовка нечетных строк заставляет ожидать, что и четные будут рифмоваться, и неподтверждение этого ожидания (на каждой четвертой строке) ощущается легким потрясением, что вполне соответствует эмоциональному содержанию стихотворения. Полурифмовка такого типа употреблялась редко: в начале XX в. образцы есть у Кузмина, а в XIX в. – у Фета.
Начало «повести» Саши Черного воспринимается совсем по-иному. Его рифмовка – АБХАБХ, причем каждая рифма и каждое нерифмованное окончание может быть и мужским, и женским; строчки длинные, сбивчивого ритма [это 5—6-иктный дольник, ср. № 136—138; сосчитайте сами, сколько иктов (сильных мест, ударений) в каждой строке]; поэтому рифмическое ожидание расшатано, потрясения при пропуске рифм не возникает и, скорее, даже «регулярные» рифмы «дочку – сорочку» и т.д. ускользают от слуха. Это, разумеется, вполне согласно с обшей прозаизированной интонацией и вульгаризированным стилем повествования (капцан – нищий; слово «лапацон» лучше не переводить).
ОМОНИМИЧЕСКАЯ РИФМА
№ 27
* * *
Мне боги праведные дали.
Сойдя с лазоревых высот,
И утомительные дали,
И мед укрепный дольних сот.
Когда в полях томленье спело,
На нивах жизни всхожий злак,
Мне песню медленную спело
Молчанье, сеющее мак.
Когда в цветы впивалось жало
Одной из медотворных пчел,
Серпом горящим солнце жало
Созревшие колосья зол.
Когда же солнце засыпало
На ложе облачных углей,
Меня молчанье засыпало
Цветами росными полей.
И вкруг меня ограды стали,
Прозрачней чистого стекла,
Но тверже закаленной стали,
И только ночь сквозь них текла,
Пьяна медлительными снами,
Колыша ароматный чад.
И ночь, и я, и вместе с нами
Мечтали рои вешних чад.
- Ф. Сологуб, [1919]
Чтобы рифма ощущалась как рифма, необходимо, чтобы рифмующие слова имели и сходство (по звуку), и различие (по смыслу). Если последние слова строчек будут различны не только по смыслу, но и по звуку, то стихотворение будет восприниматься как нерифмованное (см. № 22, 51); если они будут тождественны не только по звуку, но и по смыслу, то стихотворение тоже будет восприниматься как нерифмованное (см. № 209). Поэтому, в частности, слабыми считаются рифмы слов, различающихся лишь приставками («поделать-приделать», «хороший-нехороший»): в них много звукового сходства, но слишком мало смыслового различия.
Наоборот, особенно эффектна бывает рифма, образованная словами, по звучанию совершенно тождественными, а по смыслу не имеющими ничего общего, т.е. омонимами. Обычно таких словарных пар в языке мало, поэтому омонимические рифмы ощущаются как изысканный курьез, игра слов. (В некоторых литературах, например в арабо-персидской, такие рифмы-каламбуры нарочно культивировались.) Именно таковы в этом стихотворении Ф. Сологуба все женские рифмы (а в последнем четверостишии и мужская).
Замечательно, что образный строй и торжественная интонация стихотворения исключают всякую комическую установку, обычно сопутствующую игре слов; поэтому даже не всякий читатель сразу заметит, что перед ним омонимические рифмы. Сологуб, любивший не подчёркивать, а скрывать свои формальные изыски (ср. № 52), конечно, на это и рассчитывал.
ТАВТОЛОГИЧЕСКАЯ РИФМА
№ 28
* * *
Крепче гор между людьми стена,
Непоправима, как смерть, разлука.
Бейся головою и в предельной муке
Руки ломай – не станет тоньше стена.
Не докричать, не докричать до человека,
Даже если рот – Везувий, а слова – лава, камни и кровь.
Проклинай, плачь, славословь!
Любовь не долетит до человека.
За стеною широкая терпкая соленая степь,
Где ни дождя, ни ветра, ни птицы, ни зверя.
Отмеренной бесслезной солью падала каждая потеря
И сердце живое мое разъедала, как солончак – черноземную степь.
Только над степью семисвечником пылают Стожары,
Семью струнами протянут с неба до земли их текучий огонь.
Звон тугой, стон глухой, только сухою рукою тронь
Лиры моей семизвездной Стожары.
- А. Радлова, [1920]
Если в белом, нерифмованном стихе несколько строчек подряд будут кончаться на одно и то же слово, то мы не скажем «здесь возникает рифма»: повтор одинаковых слов (т.е. тождественных и по звуку, и по смыслу), как сказано, не ощущается как рифма. Но если такие строчки возникнут среди рифмованных стихов, то контекст заставит воспринимать их как рифмованные: это будет тавтологическая рифма – слово рифмуется с самим собой (по-греч. «тавтология» значит «то же слово», «тот же смысл»). В таком случае читательское сознание невольно начинает выискивать: нет ли в этих двух употреблениях одного и того же слова разницы смысловых оттенков или хотя бы разницы ситуаций, в которых оно звучит? Если есть, то тавтологическая рифма приближается к омонимической и ощущается такой же (а то и более) изысканной.
Стихотворение Анны Радловой говорит о человеческом взаимонепонимании (к нему взят эпиграф из A.M.Ремизова: «Человек человеку – бревно»). Его рифмовка – охватная, АББА; она звучит напряженнее, чем обычная АБАБ, слух ждет возвращения рифмы А на третьей строке, а она возвращается только на четвертой; ожидание затягивается. Мало того, именно эта рифма А («стена» «человека» и т.д.) – тавтологическая, т.е. возвращается не новое слово, созвучное заданному, а само заданное слово; ожидание обманывается. Можно сказать, что рифмовка вторит теме: первое рифмующее слово вылетает, словно от человека к человеку, в надежде на отклик, но отклика нет, и вместо второго рифмующего слова безрадостно возвращается, как эхо, то же первое. (Так ли это на ваш слух? Какие еще субъективные интерпретации возможны?) Ср. также № 75.
«ЭКЗОТИЧЕСКИЕ» РИФМЫ
№ 29
Петербург
Над призрачным н вещим Петербургом
Склоняет ночь край мертвенных хламид.
В челне их два. И старший говорит:
«Люблю сей град, открытый зимним пургам,
На тонях вод, закованных в гранит.
Он создан был безумным Демиургом.
Вон конь его и змей между копыт:
Конь змею – «сгинь!», а змей в ответ: «resurgam».
Судьба империи в двойной борьбе:
Здесь бунт – там строй; здесь бред – там клич судьбе.
Но вот сто лет в стране цветут Рифейской
Ликеев мирт и строгий лавр палестр» ..
И глядя вверх на шпиль адмиралтейский.
Сказал другой: «Вы правы, граф де-Местр».
- М. Волошин, 1915
№ 30
Passivum
Листвой засыпаны ступени...
Луг потускнелый гладко скошен...
Бескрайним ветром в бездну взброшен,
День отлетел, как лист осенний.
Итак, лишь нитью, тонким стеблем
Он к жизни был легко прицеплен!
В моей душе огонь затеплен,
Неугасим и неколеблем.
- В. Ходасевич, 1907
В каждом языке есть слова и грамматические формы, на которые можно подобрать много рифм, и есть другие, на которые рифм почти нет. Первыми обычно пренебрегают как слишком легкими: например, в русском языке глагольные рифмы считаются «слабыми», потому что на -ать, -ить, -ал, -ил можно набрать великое, но однообразное множество рифмующих глаголов. Вторые обычно из-за частой повторяемости ощущаются как банальные: таковы в русской поэзии «любовь – кровь», «камень – пламень», «морозы – розы», над которыми шутил еще Пушкин. Избегая банальных рифм, поэты ищут новых, т.е. мало использовавшихся в поэзии, слов и словоформ – экзотических. Выражения «банальная рифма» и «экзотическая рифма», конечно, не являются терминами, но для практического употребления вполне удобны.
Примером «новых слов» может служить сонет Волошина: на «трудное» слово «Петербург («Друзья! Слабеет в сердце свет, / А к Петербургу рифмы нет», – писал еще в 1928 г. в ностальгическом стихотворении Г. Адамович) приискивается в качестве рифмы сперва русское слово в необычном числе и падеже, потом греческое, вошедшее в русский язык (Демиург – бог-творец в платоновской мифологии), и, наконец, латинское слово в подлинно латинском виде (resurgam – «восстану»); а на «трудное» слово «де-Местр» (католический философ, который в 1802—1817 гг. был послом в Петербурге и размышлял здесь о будущем Европы) – греческое слово «палестра» (школа для физических упражнений), за которым в стихотворение приходят и «ликей» (школа для умственных упражнений, отсюда «лицей»), и «Рифейский» (от названия сказочных северных гор). Примером «новых словоформ» может служить восьмистишие Ходасевича: заглавие его означает «страдательный залог», и из восьми рифм пять образованы краткими причастиями этого залога – формой редкой и непривычно звучащей в рифме.
БОГАТЫЕ РИФМЫ
№ 31
Анне Ахматовой
К воспоминаньям пригвожденный
Бессонницей моих ночей,
Я вижу льдистый блеск очей
И яд улыбки принужденной:
В душе, до срока охлажденной,
Вскипает радостный ручей.
Поющим зовом возбужденный,
Я слышу томный плеск речей
(Так звон спасительных ключей
Внимает узник осужденный)
И при луне новорожденной
Вновь зажигаю шесть свечей.
И стих дрожит, тобой рожденный
Он был моим, теперь ничей.
Через пространство двух ночей
Пускай летит он, осужденный
Ожить в улыбке принужденной
Под ярким холодом очей.- Б. Садовской, 1913
№ 32
Усталость
Ах! Опять наплывает тоска,
Как в ненастье плывут облака.
Но томящая боль не резка,
Мне привычна она и легка.
Точит сердце тоска в тишине,
Будто змей шевелится во мне.
Вон касатка летит в вышине
К облакам, просиявшим в огне.
Я бессильно завидую ей,
Вольной страннице синих зыбей
Точит сердце внимательный змей
Тихим ядом знакомых скорбей.
Свищут птицы и пахнет сосна,
Глушь лесная покоя полна.
Но тоску не рассеет весна,
Только с жизнью погибнет она.- Б. Садовской, 1907
Верное средство усилить звуковую ощутимость рифмы – это ввести в них кроме обязательного созвучия ударного и послеударных звуков еще и созвучие предударных (опорных) звуков. Такие богатые (или «глубокие») рифмы давно ценились французской поэтикой; в России они культивировались в XVIII в., а в начале XX в. были возрождены Вяч. Ивановым и И. Анненским (№ 91) и достигли расцвета в поколении Маяковского. Читая первое стихотворение, мы замечаем (с какого момента?), что в нем рифмуют не просто -ённый – -ей, но -ждённый – -чей, и с каждой новой строчкой ждем подтверждения этих рифмических ожиданий (ср. стихотворение Блока, № 168). Второе стихотворение еще интереснее: с первого взгляда кажется, что четверостишия в нем имеют сквозную рифмовку (АААА) на -ка, -не, -ей, -на; но если присмотреться, то по разной глубине предударных созвучий в 1-м четверостишии выделяется перекрестная рифмовка (АБАБ) – -ска – -ка – -ска – -ка, во 2-м – -шине – -не – -шине – -не, и т.д. Отметим также в первом стихотворении редкую шестистишную строфу (АббААб, все три строфы на одинаковые рифмы), а во втором – упорядоченное чередование рифм на ударное -А, -Е, -Е, -А (ср. № 136). Разберите сами образную перекличку стихотворения «Анне Ахматовой» с началом ахматовской «Поэмы без героя» («Тысяча девятьсот тринадцатый год», 1940).
ПАНТОРИФМА
№ 33
Зинаиде Васильевне Петровской
Ласк ал ладан лелей. Лилий путы
Ели роз венки лучшей Травиат
Ласкал ладонь Лель ей, а лилипуты
Пели: розовенький луч шей траве яд.- Г. Золотухин, [1916]
Если стараться нагромождать предударные созвучия глубже и глубже, то они могут распространиться на весь стих; это будет называться панторифма (греч. «все-рифма»). Конечно, от таких стихов не приходится ожидать содержательности. Это мадригальное стихотворение стихотворца и художника-футуриста Георгия Золотухина даже понимается с трудом. По-видимому, оно значит: “лелей алый ладан ласк”; “путы лилий пожирали (оплетали?) венки роз у лучшей из Травиат”; “шеи, похожие на розовый луч, – это ад для травы” (сочетание розового и зеленого с точки зрения живописца?). Маяковскому приписывалась шуточная панторифма: «Седеет к октябрю сова – / Се деют когти Брюсова».
СКВОЗНАЯ РИФМА И РЕДИФ
№ 34
Ветер
Шумом шумишь ты бездумным, ветер,
Думам велишь быть безумным, ветер.
Ставней гремишь ты, играешь, ветер.
Давней надеждой взываешь, ветер.
Мира глашатай ты дольний, ветер,
– Лира взывает невольно: ветер!
Струйно летишь ты листвою, ветер,
Буйно трубишь надо мною, ветер.
Бросьте, поешь, мглу немую, ветер.
В гости к тебе прихожу я, ветер.
Внемлю весеннему краю, ветер,
Землю, как ты, обнимаю, ветер.
- К. Липскеров, [1921]
№ 35
«Венок»
Валерию Брюсову
Волшебник бледный Urbi пел et orbi
То – лев крылатый, ангел венетийский,
Пел медный гимн. А ныне флорентийской
Прозрачнозвонкой внемлю я теорбе.
Певец победный Urbi пел et orbi
То – пела медь трубы капитолийской...
Чу, барбитон ответно эолийский
Мне о Патрокле плачет, об Эвфорбе
Из златодонных чаш заложник скорби
Лил черный яд. А ныне черплет чары
Медвяных солнц кристаллом ясногранным
Садился гордый на треножник скорби
В литом венце... Но царственней тиары
Венок заветный на челе избранном!
- Вяч. Иванов, 1906
Если в панторифме рифмуются все звуки рифмующихся строк, то в сквозной рифме – все слова рифмующихся строк: первое – с первым, второе – со вторым и т.д. Тот же Г. Золотухин написал стихотворение, которое начинается:
Три люстры горели.
Тысяча триста свечей.
Посмотри, не Заратустры горé ли
Следы сеч – бриза звончей?..
(Смысл последних слов: «Посмотри, там, вверху (горé), не следы ли это битв пророка Заратустры, звонких, как ветер?» Так же натянуто составлены и все остальные строки.) К. Липскеров в своем стихотворении облегчил задачу: из четырех слов строки у него рифмуется первое («шумом – думам» и т.д.), не обязательно рифмуется второе, рифмуется третье («бездумным – безумным» и т.д.) и без изменений повторяется четвертое («ветер»).
Такое слово, повторяющееся в конце стиха как бы довеском к рифме, называется арабским словом редиф (буквально: «всадник, подсевший за седлом»): этот прием употребителен в арабской, персидской и классической тюркской поэзии, которым много подражал и из которых много переводил этот поэт (ср. № 189). С редифом в рифме писались обычно газеллы, пример чему мы еще увидим (№ 198).
Именно оттого, что редиф обычен в поэтических формах восточного происхождения, он в высшей степени неожидан в такой поэтической форме западного происхождения, как сонет (см. № 198—202). Поэтому не всякий даже заметит его в стихотворном поздравлении Вяч. Иванова В. Брюсову, вслед за сборником «Urbi et orbi» («Граду и миру») выпустившему сборник «Stephanos» («Венок»; имеется в виду венок певца-победителя, который дороже, чем царская тиара). Иванов противопоставляет прежний сборник новому как властную Венецию (лев крылатый св. Марка) – нежной Флоренции (теорба – лютня), Рим (труба капитолийская) – Греции эолийский барбитон – тяжелая лира; Патрокл и ранивший его Эвфорб, чья душа будто бы переселилась потом в философа Пифагора, – герои Троянской войны), скорбь (треножник, на котором сидела пророчица-пифия) – ясности. Но главной его заботой было, конечно, подобрать экзотические рифмы (№ 29) на латинское слово orbi. С первого взгляда кажется, что ему это не совсем удается: «Urbi пел et orbi» и «скорби» в ряду рифм повторяются, что нехорошо в стихах вообще и в сонетах в особенности. Однако при ближайшем рассмотрении эти слова в своих строках оказываются не чем иным, как редифами, настоящие же рифмы спрятаны в глубь строк: «бледный – победный», «заложник – треножник». В то же время по отношению к строкам, кончающимся на «Эвфорбе» и «теорбе», эти слова остаются полноценными рифмами. Таким образом, в стихотворении подобраны по четыре рифмы на -орби и -ийской, по две рифмы на -ожник, -ары и -анном, да еще скрытая внутренняя рифма на -едный: нормы сонетной рифмовки оказываются не только выполнены, но и перевыполнены.
ВНУТРЕННИЕ РИФМЫ
№ 36
В потоке
Я был простерт, я был как мертвый. Ты богомольными руками- мой стан безвольный обвила.
Ты распаленными устами мне грудь и плечи, лоб и губы, как- красным углем, обожгла.
И, множа странные соблазны, меняя лик многообразный, в меня- впиваясь сотней жал,
Дух непокорный с башни черной ты сорвала рукой упорной и с- ним низринулась в провал.
В бессильи падая, лишь крылья я видел над собой – да алый,- от свежей крови влажный, рот.
И скалы повторяли крики, и чьи-то побледнели лики, и пали- мы в водоворот.
И я не спорил с темным Роком. Мой труп неистовым потоком несло- по остриям камней.
И когти мне терзали тело, и сердце слабое немело, и ужас был- в душе моей.
Но в миг последний онеменья вдруг совершилось возрожденье,- и успокоенный поток
Внезапно, с нежностью небрежной, мой труп, страданьем искаженный,- отбросил сонно на песок.
- В. Брюсов, 1907
№ 37
* * *
Ушел мне сердце ранивший
Уловкою неправою,
Мой вечер затуманивший
Неловкою забавою,
Чужое место занявший
Сноровкою лукавою.
Но нет – не катафалками
Печали мара встречена:
Стихов и снов качалками
Причалена, размечена.
И белыми фиалками
Вуали тьма расцвечена.
Нечаянности случая –
Мне фатума веления.
Не мучаясь, не мучая
Вне атома сомнения,
И худшая и лучшая
Не я там, а и те не я.- В. Меркурьева, 1915
№ 38
* * *
С пустынной ратуши льет полночь серебро.
Огни пора тушить. Ночь снежная бела.
У спящих врат души стучится Вестник.
К ночному граду – ширь метет снега.
О свежесть горная! дыши мне в грудь, дыши!
Как рог ликорна, ясны стрелы белых крыш.
Как алость горна, яр души моей огонь.
Тень черных гор на ясный дол легла.
Вам, соволхвующне, – звоны мук моих!
Вам, соврачующие, – лоно рук моих!
Вам, согласующие несогласный мир,
Вам, долу чующие горний брег.
О, пусть тропа долит и мглист шатер земли,
Тяжка стопа долин, но легок вздох высот...
Не в водоспада ли сквозистую дугу
Из мира падали кристаллы звезд?
Но с темной ратуши пролился карильон.
Огни пора тушить. Бела снегами ночь.
У тайных врат души проснулся Стражник.
К ночному граду – ширь метет снега.- А. Кочетков, 1927
Если рифмы внутри строки ограничиваются фиксированными, предсказуемыми местами, то они обычно называются внутренними рифмами. Так, в стихотворении Липскерова, приведенном в предыдущем параграфе (№ 34), «внутренними» можно было назвать рифмы предконечных слов («бездумным – безумным» и пр.) и начальных слов («шумом – думам» и пр.), а остальные («шумишь – летишь» и пр.) нельзя. Излюбленное место внутренних рифм – на цезуре в длинных стихах, где они помогают цезуре членить длинный стих на более короткие полустишия и третьестишия. Примеры тому будут далее, в параграфе о сверхдлинных размерах (№ 106). Здесь мы приведем лишь примеры того, как этот прием размывается и видоизменяется.
Стихотворение Брюсова «В потоке» (метафорическое описание эротического переживания) написано 12-ст. ямбами из трех 4-ст. третьестиший, отбитых цезурами. Цезуры подкреплены внутренними рифмами, предсказуемая последовательность которых такая, как в IV строфе, (АА)б(ВВ)б: «роком – потоком – камней, тело – немело – моей». Однако эта строфа – единственная, где схема выдержана с такой чистотой; в остальных она осложнена. Первый шаг к осложнению – лишнее повторение рифмы В в середине первого третьестишия (строфа II): «непокорный – черный – упорной». Второй шаг – переплетение рифм между двумя стихами и сдвиг дополнительных рифм на менее заметное место в начале первого третьестишия (строфа III): «в бессильи – крылья – алый – рот, скалы – крики – лики – водоворот». Третий шаг – при сохранении переплетения рифм (строфа I) или без него (строфа V) появление слов, лишь частично созвучных рифмующим («простерт – мертвый», «богомольными – безвольный»), и, что важнее, пропуск рифм на тех позициях, где они ожидаются. В I строфе получается схема рифмовки (ХА)б(АХ)б – слова «мертвый» и «губы» не имеют рифм на ожидаемых позициях; но здесь еще инерция рифмического ожидания не установилась, и это нарушение не режет слух. В V строфе после безукоризненно прорифмованной строки «онеменья – возрожденье – поток» следует строка без рифм на цезурах «небрежной – искаженный – песок»: этот резкий контраст отмечает концовку стихотворения; его главная тема, как бы выраженная внутренними рифмами, – движение – прекращается. После этого обмана рифмического ожидания уже не всякий читатель заметит, что на самом деле слово «небрежной» подкреплено созвучием «нежностью», а слово «искаженный» находит точную рифму «сонно», но уже там, где ее никто не ожидает.
Если в стихотворении Брюсова размывание внутренних рифм происходит за счет их сдвигов с ожидаемых мест, то в стихотворении Меркурьевой – за счет их разбиения между словами. Внутренними рифмами у Меркурьевой связаны четные строки строф: в I строфе это ожидание задано очень четко – «уловкою – неловкою – сноровкою». Во II строфе внутренних рифм оказывается уже две, и они далеко не столь заметны: «печали мара – причалена, ра... – вуали тьма ра...». В III строфе то же самое: «мне фатума – вне атома – не я там, а» («мáра», точнее, «марá» – морока, греза).
Наконец, стихотворение Кочеткова замечательно тем, что в нем внутренняя рифма присутствует, а конечная – отсутствует. В каждом четверостишии зарифмованы (на одну рифму) концы первых полустиший, причем рифмы часто составные (№ 47), как у Меркурьевой, которую Кочетков считал своей наставницей. Вторые полустишия нерифмованы и выглядят довесками к первым. Их послерифменное положение напоминает о редифе (напоминало, по-видимому, и автору, так как мимолетное концевое созвучие «мук моих – рук моих» есть именно редиф). Ликорн – единорог; тропа долит – одолевает, утомляет; карильон (фр.) – колокольный звон. Заметим, что все окончания строк – мужские, кроме двух симметричных и сюжетно важных строк в начале и конце.
И это еще не самое сложное. Вот еще одно стихотворение:
№ 39
* * *
Сегодня мне забвенья надо.
Побудем вместе. Приходи ты.
Мы будем пить амонтильядо –- Напиток мести.
Былого годы перевиты
Дня мукой. Ныне помоги мне
Сон долгий, тяжко пережитый,- Смирить разлукой.
Нужны мне крепкие защиты,
Железо скреп. Да канут встречи,
Да будут сны мои укрыты- Надолго в склеп.
Нужны кощунственные речи.
Побудем вместе. Надо, надо!
Мы будем пить амонтильядо –- Напиток мести.
- К. Липскеров, 1915
Амонтильядо – это хорошее вино (сорт хереса), название которого пришло в это стихотворение о любовной разлуке из рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо»: в нем мститель заманивает жертву на угощение вином амонтильядо и замуровывает врага в стену, приговаривая: «Амонтильядо!» Содержание стихотворения почти не развивается, внимание читателя удерживается не им, а игрой рифм. Первая и третья строки в каждой строфе рифмуют между собой, это ясно. Вторые строки перекидываются рифмами из I строфы во II, а из III в IV. Но где же рифмы к четвертым строкам? Поискав, находим: четвертые рифмуют, как и можно было ожидать, со вторыми, но не с концами их, а с серединами: «вместе – мести», «мукой – разлукой», «скреп – склеп». Теперь остается только одна ненайденная рифма – во второй строке II строфы «помоги
мне» Отыщите ее сами: она тоже будет внутренней – в середине строки. А отыскав, посмотрите (для сравнения) стихотворения № 177—181 и ответьте на вопрос: как нужно называть строфы липскеровского стихотворения – сдвоенными или цепными?
РИФМЫ В НЕОБЫЧНЫХ МЕСТАХ СТРОКИ
№ 40
Неуместные рифмы
Верилимы в неверное,
Мерили
мир любовию,
Падали
в смерть без ропота,
Радо ли
сердце Божие?
Зори
встают последние
Горе
земли не изжито,
Сети
крепки, искусные,
Дети
земли опутаны.
Наша
мольба не услышана,
Чаша
еще не выпита.
Сети
невинных спутали,
Дети
земли обмануты...
Падали,
вечно падаем...
Радо ли
сердце Божие?
- 3. Гиппиус, 1909/1910
№ 41
* * *
Жаворонок, спой же нам с небес лазурных
О безбурных зорях пламенного лета,
И как где-то пышно расцвела долина,
Как у тына плачет смуглая Галина.
Плачет, что на зорьке милый не приходит;
Месяц бродит в тучах и звенит лучами:
«За горами милый, там, где солнце село,
Смело, смело поднял парус снежно-белый;
Мчится в край, где лотос гордо расцветает,
Где вздыхает память над песком горючим,
Жгучим оком солнце взморье опалило, –
К милой мчится милый в лодке белокрылой.
Там, в горах туманных, за хребтом хрустальным,
Где печальным вздохом ветер будит скалы,
Алый вечер видел: странник неизвестный
По отвесным скалам шел к звезде чудесной.
И звезда-царевна поднялась неслышно,
Пышны были косы, словно хвост павлиний,
И глициний синих ореол пушистый
Взор лучистый нежил лаской бледно-мглистой».
Плачь же, плачь, Галина: милый не вернется, –
Он царем зовется в той стране далекой,
Где высоко солнце, где в снегах вершины,
Где в слезах долины, как глаза Галины.
- Е. Сырейщикова, 1911/1913
№ 42
* * *
Ты, безвременье дней, возврати мою душу.
Ветер грушу качнул, а над ней
Облака обозначили дальнюю сушу.
Пой, тоска, про печальную душу полей.
Отпусти, пожалей. Не протягивай руки
В час разлуки, косматая ель. Все темней
Вьют кудель у излуки реки мои муки.
В остриях осоки коростель все слышней.
Ветер дней, о, развей мое горькое горе.
Дышит вечер в лицо. Все грустней и грустней
Шепчет небу камыш, в бирюзовое море,
Вторя хлебу полей, над могилою дней.
- В. Ковалевский, [1919]
Как рифмуют параллельные друг другу слова в сквозной рифме, так же могут быть выбраны для рифмовки и любые другие слова смежных (или даже несмежных) строках: если слух уловит их повторяющееся расположение, они будут восприниматься как рифма. В первом из приводимых стихотворений рифмуют между собой начальные слова смежных строк (начальные рифмы); во втором последнее слово каждой строки рифмуется с первым или вторым словом следующей строки (цепная рифма; заметим, что из строфы в строфу она не перекидывается, так что в последней строке каждого четверостишия оказывается внутренняя рифма – «у тына – Галина», «смело – снежно-белый» и пр., а в последней строке всего стихотворения, ради концовки, эта рифма даже сдвигается на более традиционное место – на цезуру). Первое расположение проще и улавливается легко, второе, понятным образом, труднее. Чтобы ориентировать читателя, 3. Гиппиус сама напечатала свое стихотворение с выделением рифмующих слов в отдельные строки.
Еще легче уловимы рифмы внутри стиха, когда они отмечают цезуры, членящие стих (внутренние рифмы, см. № 101). Наоборот когда созвучные слова рассыпаны по тексту беспорядочно, то слух не может настроиться на них заранее и воспринимает их не как рифмы, членящие текст, а как орнаментальные украшения, которые могут быть, а могут и не быть (ср. № 5). Таково третье из приведенных стихотворений Попробуйте сами выделить в нем эти факультативные рифмы: в каждом четверостишии каждая из концевых рифм минимум один раз повторяется и внутри строк, а кроме того, имеются еще две пары (или тройки) рифм, не выходящих на конец строки. (Среди них есть тавтологические и одна неточная.)
«ЛЕВОСТОРОННЯЯ» РИФМА
№ 43
Неуместные рифмы
| Ищу напевных шо- потов
В несвязанном шу- ме.
Ловлю живые шо- рохи
В ненужной шу- тке.
Закидываю не- воды
В озера гру- сти,
Иду к последней не- жности
Сквозь пыль и гру- бость.
Ищу росинок ис- кристых
В садах непра- вды, | | Храню их в чаше ис- тины.
Беру из пра- ха.
Хочу коснуться сме- лого
Чрез горечь жи- зни.
Хочу прорезать сме- ртное
И знать, что жив я.
Меж цепкого и ле- пкого
Скользнуть бы с ча- шей.
По самой темной ле- стнице
Дойти до сча- стья. - 3. Гиппиус, 1909/1910
|
№ 44
* * *
В тот вечер ворон кра да кра.
В ту ночь луна всходила красная.
Наутро Ксения вошла
В рай отошедшая, желанная.
В сиянно-утренней красе
Стояла белым дымом Ксения.
И на столе зажглась свеча.
И вновь вошло в меня отчаянье.
– Зачем пришла? Почто пришла?
– Идем со мною на заклание.
– Но ты в раю? – Она молчит.
Ушла. И был мой день мучителен.
Куда пойду? Кого спрошу?
О храм любви! О храм разрушенный!.
– За что томишься? – звал. Кричал.
О, Бог! и Ты не запечалился?
- И. Рукавишников, 1909/1914
В обычных рифмах тождественны звуки, расположенные (на письме) справа от последнего ударного гласного; в богатых рифмах – также и звуки, расположенные влево от него (опорные, см. № 31—32). Эту тенденцию к «обогащению» звукового состава рифмы Брюсов удачно назвал «левизной в рифме» (политические ассоциации этого термина подсказывают оценочный смысл: «передовой эксперимент»). Если эти левосторонние опорные звуки присутствуют во всех строках, то они уже являются достаточным сигналом рифмы, и тождественность правосторонних звуков становится необязательна. Такие «левосторонние» рифмы (иногда их называют «корневыми») широко употребительны в современной русской поэзии (с середины 1950-х годов), но впервые они появились еще в начале XX в. В стихотворении Гиппиус восприятие их облегчено тем, что все дактилические окончания рифмуют с дактилическими и женские – с женскими; в стихотворении Рукавишникова мужские окончания рифмуют с дактилическими, и от этого они звучат более странно и трудноуловимо. Гиппиус и здесь, печатая свои стихи, располагала строки так, чтобы читателю легче было заметить рифму.
НЕТОЧНЫЕ РИФМЫ
№ 45
* * *
Вы бежали испуганно, уронив вуалетку,
А за Вами, с гиканьем и дико крича,
Мчалась толпа по темному проспекту,
И их вздохи скользили по Вашим плечам.
Бросались под ноги фоксы и таксы,
Вы откидывались, отгибая перо,
Отмахивались от исступленной ласки,
Как от укусов июньских комаров.
И кому-то шептали: «не надо! оставьте!»
Ваше белое платье было в грязи,
Но за Вами неслись в истерической клятве
И люди, и зданья, и даже магазин.
Срывались с места фонарь и палатка,
Все бежало за Вами, хохоча
И крича,
И только Дьявол, созерцая факты,
Шел неспешно за Вами и костями стучал.
- В. Шершеневич, [1914]
№ 46
* * *
Небоскребы трясутся и в хохоте валятся
На улицы, прошитые каменными вышивками.
Чьи-то невидимые игривые пальцы
Щекочут землю под мышками.
Набережные заламывают виадуки железные,
Секунды проносятся в сумасшедшем карьере,
Уставшие, взмыленные, и взрывы внезапно обрезанные
Красноречивят о пароксизме истерик.
Раскрываются могилы и, как рвота, вываливаются
Оттуда полусгнившие трупы и кости,
Оживают скелеты под стихийными пальцами,
А в небо громами вбивает гвозди.
С грозовых монопланов падают нá землю,
Перевертываясь в воздухе, молнии и кресты.
Скрестярукий любуется на безобразие
Угрюмый Дьявол, сухопаро застыв.
- В. Шершеневич, [1914]
«Как однажды вспыхнувшая спичка не годна для вторичного пользования, точно так же и вторично употребленная рифма не производит своего первоначального блеска», – заявлял Вадим Шершеневич. Избегая банальных рифм, стремясь расширить рифмический словарь, поэты не только ищут экзотических слов и словоформ (№ 29—30), но и меняют правила рифмовки – это тоже позволяет вовлечь в стих еще не использованные в созвучиях слова. С XVIII в. и вплоть до Пушкина допустимыми считались только точные рифмы, где совпадали как гласные, так и согласные звуки (а желательно, и буквы): «дорога – порога». С середины XIX в. допустимыми становятся приблизительные рифмы, где могут не совпадать безударные гласные буквы: «дорога – много», а потом и звуки: «дорога – к Богу». Наконец, в начале XX в. открывается возможность для свободного употребления собственно неточных рифм, где могут не совпадать и согласные: «дорога – коробка». (Эти три этапа «деканонизации точной рифмы» были выделены и названы В.М.Жирмунским.)
Неточность рифмы достигалась разными способами. Согласные могли: 1) усекаться или добавляться в конце рифмующего созвучия (менее заметно в женских рифмах: «карьере – истерик», более заметно в мужских: «кресты – застыв») или даже в его середине («на землю – безобразие»); 2) заменяться («кости – гвозди»); 3) переставляться («вуалетку – проспекту»); 4) раздвигаться, образуя неравносложную рифму («вышивками – под мышками»). Все эти приемы были экспериментально использованы еще символистами, но в широкое употребление вошли лишь у футуристов; многочисленные примеры можно найти у Маяковского. Вадим Шершеневич был теоретиком и рекламистом раннего русского футуризма, поэтому его упражнения с рифмами осознаннее и систематичнее, чем у других. В первом из приводимых стихотворений все женские рифмы образованы перестановками согласных, а мужские – усечениями конечных согласных; во втором преимущественно используются неравносложные рифмы. Размер стихотворений колеблется между тактовиком и акцентным стихом (№ 147—150).
СОСТАВНЫЕ, РАЗНОУДАРНЫЕ, ПАЛИНДРОМИЧЕСКИЕ РИФМЫ
№ 47
Пен пан
У вод я подумал о бесе
И о себе,
Над озером сидя на пне.
В реке проплывающий пен пан
И ока холодного жемчуг
Бросает, воздушный, могуч, меж
Ивы,
Большой, как и вы.
И много невестнейших вдов вод
Преследовал ум мой, как овод,
Но, брезгая, брызгаю ими.
Мое восклицалося имя.
Во сне изрицал его воздух
За воздух умчаться не худ зов.
Я озеро бил на осколки
И после расспрашивал, сколько.
Мне мир был прекрасно улыбен,
Но многого этого не было.
Но свист пролетевших копыток
Напомнил мне много попыток
Прогнать исчезающий нечет
Среди исчезавших течений.- В. Хлебников, 1914/1916
Рифма – прием фонетический, рассчитанный на слух; но чем больше поэзия ориентируется не на устное исполнение, а на чтение глазами, тем больше и «рифмы для слуха» имеют возможность превратиться в «рифмы для глаза». Составные рифмы, в которых одно из составляющих слов полностью теряет ударение («реже – те же», «докладом – на дом»), еще звучат для слуха вполне естественно; они употреблялись и у классиков. Составные рифмы, в которых оба составляющих слова фактически сохраняют свои ударения («вдов вод – овод»), уже звучат неестественно и распознаются скорее глазом, чем ухом; такими рифмами любил пользоваться Маяковский. Разноударные рифмы, в которых графическое сходство рифмующих слов сохраняется, но сходство звучания разрушается разной позицией ударений («ивы – и вы»), – это уже только рифмы для глаза; даже футуристы пользовались ими лишь в экспериментах. Наконец, палиндромические рифмы (о палиндромоне см. № 20), где второе слово повторяет не в прямом, а в обратном порядке слоги или даже звуки первого («бе-се – се-бе», «воздух – худ зов»; ср. у раннего Маяковского «рез-че – че-рез»), даже глазами с трудом опознаются как рифмы; Хлебников с его философским вкусом к палиндромону был здесь едва ли не единственным экспериментатором. Приблизительный смысл стихотворения: “сидя над озером, я представил себя водяным бесом, паном (господином) пены, среди его русалок: так я избывал свое одиночество («нечет»)”.
АССОНАНС И ДИССОНАНС
№ 48
* * *
В суровую серую ночь
Иду я раздумчиво по лесу
Знакомой глухою тропой
К родному широкому озеру.
Грущу, позабыт и уныл;
Как ветер – тоска заунывная;
Но мерная песня волны
Душе утомленной послышится.
Я ветром холодным дышу
С моими унылыми думами,
А сосны да ветер – свою
Все песню поют мне угрюмую.
И нет утешенья душе,
Я слушаю стоны напевные...
Ах, сосны родные, зачем
Глушите вы плески размерные!
- Ю. Верховский, [1917]
№ 49
* * *
Сладко после дождя теплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежит в прорезях белых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.
Вот к лукавым губам губы впервые льнут.
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...
Минуло с той поры только шестнадцать лет.
- В. Ходасевич, 1918
Слово ассонанс (фр. – «созвучие») употребляется в русском стиховедении в двух значениях. В широком смысле оно означает всякую неточную рифму. («Если рифма напоминает головку простой спички, то ассонанс – головку серной: он зажигается всегда и обо все», – писал Шершеневич.) В узком смысле оно означает лишь предельный случай неточной рифмы – такой, когда между согласными звуками рифмующих слов не остается решительно никакого сходства и созвучие ограничивается только ударными гласными. В зарубежной поэзии на таких ассонансах были построены, например, «Песнь о Роланде» или испанские романсы. В русской поэзии такой «чистый ассонанс» малоупотребителен; к нему явно стремился Ю. Верховский в первом из этих стихотворений, последовательно ассонируя его строфы на О, Ы, У, Е (ср. № 136), – но и здесь приблизительно в половине созвучий участвуют еще и другие согласные и гласные звуки, так что эти созвучия могли бы служить рифмами в таких стихах, как у Шершеневича, например «уныл – волны» (еще какие?).
Кроме двух названных стиховедческих значений слова «ассонанс» существует и третье, общелитературоведческое: всякое повторение одинаковых или похожих гласных звуков в тексте, например «Без конца и без краю мечта» (А. Блок). Лишь изредка такое повторение становится канонизированным, предсказуемым и тем самым входит в область стиховедения (пример – № 55).
Слово диссонанс (фр. «разнозвучие») обозначает противоположный случай: согласные звуки рифмующих слов соответствуют друг другу, и только ударные гласные различны («ночь – туч – дергач»). В зарубежной поэзии диссонансами охотно пользуется, например, английский стих XX в. В русской поэзии разработка их по большей части ограничивалась отдельными стихотворениями (хотя Шершеневич написал так даже целую книжку, озаглавив ее «Итак, итог»). Например, Северянин сочинил два «Пятицвета» – пятистишия, в которых через одно и то же сочетание согласных пропускались все пять основных гласных звуков русского языка (ср. № 53):
№ 50
В двадцать лет он так нашустрил:
Проституток, всех осёстрил,
Астры звездил, звезды астрил,
Погреба перереестрил.
Оставалось только – выстрел.
Иногда вместо «диссонанс» говорят «консонанс» (от слова «консонанты» – согласные звуки), но этот термин неудобен: в музыке он означает не «разнозвучие», а, наоборот, «созвучие».
Размер стихотворения Ходасевича – логаэд античного образца (ср. № 130—131).
РАЗЛИЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ РИФМОВОК
№ 51
Тучелет
Из черного ведра сентябрь льет
Туманов тяжесть
И тяжесть вод.
Ах, тучелета
Вечен звон
О неба жесть.
Язык
Не вяжет в стих
Серебряное лыко,
Ломается перо – поэта верный посох.
Приди и боль разуй. Уйду босой.
Приди, чтоб увести.
Благодарю за слепоту.
Любви игольчатая ветвь,
Ты выхлестнула голубые яблоки.
Сладка мне тень закрытых зябко век,
Незрячие глаза легки.
Я за тобой иду.
Рука младенческая радости
Спокойно крестит
Белый лоб.
Дай в веру верить.
То, что приплыло,
Теряет всяческую меру.
- А. Мариенгоф, 1920
С первого взгляда это стихотворение может показаться нерифмованным. Однако автор, поэт-имажинист и друг Есенина, сочинял его как рифмованное. Просто, во-первых, он принимал за рифму всякое самое малое созвучие (практически – повтор гласного звука с прилегающим согласным: «язык – лыко», «посох – босой») и, во-вторых, располагал эти рифмы в таком прихотливом порядке, что рифмическое ожидание, предсказуемость созвучия, становилось невозможным. Порядок рифм в первых двух частях стихотворения – аБвАвб и абАвВб (напоминаем: строчные буквы – мужские рифмы, прописные – женские). Найдите сами рифмы в остальных частях стихотворения и определите каждую, пользуясь знакомыми терминами: «неравносложные», «разноударные», «неточные с усечением», «неточные с заменой» и пр. Любопытно, что при столь сложной рифмовке стихотворения размер его – как бы для компенсации – очень простой (какой?).
СОГЛАСОВАНИЕ РИФМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
№ 52
* * *
Трава свежа, земля мягка,
Ничто не мучит, не заботит.
На небе тают облака,
А солнце ноги мне золотит.
Тропы над берегом реки,
Не знаю я, куда приводят.
Мои мечтания легки
И так беспечно колобродят.
На берегу ряды кустов
Порою ветер нежно клонит,
А лес от птичьих голосов
Поет, звенит и нежно стонет.
Покой над тихою рекой
С покорной кротостью знакомит,
И ветки гибкой ни одной
Моя рука не переломит.
Душа, как верная раба.
У Бога ничего не просит,
Но если что ей даст судьба,
Возьмет и ничего не бросит.
А если горе ей сулит,
А если муки ей готовит,
Она за все благодарит,
За все владыку славословит.
Всегда покорна и светла,
Она ни с чем, ни с чем не спорит,
Не разделит добра и зла
И смерти с жизнью не поссорит.
От зноя не стремится в тень
И вечной ночи не торопит, –
Настанет неизбежный день,
И будет кубок жизни допит.
- Ф. Сологуб, 1889
№ 53
Италии
В стране богов, где небеса лазурны,
И меж олив где море светозарно,
Где Пиза спит, и мутный плещет Арно,
И олеандр цветет у стен Либурны,
Я счастлив был. И вам, святые урны
Струй фэзуланских, сердце благодарно
За то, что Бог настиг меня коварно,
Где вы шумели, благостны и бурны.
Туда, туда, где умереть просторней,
Где сердца сны – и вздох струны – эфирней,
Несу я посох, луч ловя вечерний.
И суеверней странник, и покорней –
Проходит опустелою кумирней,
Минувших роз ища меж новых терний.
- Вяч. Иванов, [1911]
Когда мы обозначаем схему рифмовки строфы АБАБ, или АББА, или АБАББА, то этим мы говорим, что они сплетены из рифмических цепей А-А... и Б-Б... Обычно подбор рифм для цепей А к Б осуществляется независимо друг от друга; поэты лишь стараются, чтобы А не было похоже на Б и они не путались бы при восприятии. Но возможно и иное: эти цепи точных рифм могут перекликаться друг с другом ассонансами и диссонансами. Сонет Вяч. Иванова (ср. № 202) состоит из переплетения 5 рифмических цепей на -урны, -арно, -орней, -ирней, -ерний: слух сразу улавливает, что они образуют друг с другом диссонанс, и настраивается на соответственное ожидание. (Содержание стихотворения – воспоминание о Тоскане; струи фэзуланские – от старинного названия городка Фьезоле близ Флоренции; Либурна – это Ливорно близ Пизы.) В стихотворении Ф. Сологуба четные рифмы всех 8 строф связаны ассонансом на -о- и различаются только стоящими после этого согласными: -от-од-он-ом-ос-ов-ор-оп-. Это менее заметно (ср. № 27), отчасти благодаря перемежающим их нечетным рифмам, свободным от всяких перекличек.
Чем дальше перемежение, тем менее заметна перекличка рифмических цепей. У Вяч. Иванова есть стихотворение, написанное в годы первой мировой войны:
№ 54
«Адаме!» – Мать-Земля стенает,
Освободитель, по тебе,
А человек не вспоминает
В братоубийственной борьбе
О целого единой цели...
И Солнце тонет в багреце;
И бродит мысль – не о конце ли? –
На бледном Каина лице.
Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники?
Что Кришна знал и Гаутама, –
По ужаснувшимся звездам
Когда ж прочтут творцы Адама,
Что в них единый жив Адам?
В этих двух строфах вторые четверостишия написаны с рассчитанной перекличкой мужских и женских рифм, но всякий ли читатель улавливает эту закономерность?
ФОНИКА
№ 55
Утро
(и-е-а-о-у)
Над долиной мглистой в выси синей
Чистый-чистый серебристый иней.
Над долиной, – как изливы лилий,
Как изливы лебединых крылий.
Зеленеют земли перелеском;
Снежный месяц бледным, летним блеском, –
В нежном небе нехотя юнеет,
Хрусталея, небо зеленеет.
Вставших глав блистающая стая
Остывает, в дали улетая...
Синева ночная, там, над нами,
Синева ночная давит снами!
Молньями, как золотом, в болото
Бросит очи огненные кто-то.
Золотом хохочущие очи!
Молотом грохочущие ночи!
Заликует, – все из перламутра, –
Бурное, лазуревое утро:
Потекут в излучине летучей
Пурпуром предутренние тучи
- А. Белый, 1917
№ 56
Слово
(Стихи с созвучиями)
Слово – событий скрижаль, скиптр серебряный созданной славы,Случая спутник слепой, строгий свидетель сует,
Светлого солнца союзник, святая свирель серафимов,
Сфер созерцающий сфинкс, – стены судьбы стережет!
Слезы связуя со страстью, счастье сплетая со скорбью,
Сладостью свадебных снов, сказкой сверкая сердцам, –
Слово – суровая сила, старое семя сомнений!
Слыша со стонами смех, сверстник седой Сатаны,
Смуты строитель, снабдивший строения скрежетом, Слово –
Стали, секиры, стрелы, сумрачной смерти страшней!
- В. Брюсов, 1918
№ 57
Чары Лючинь
Лючинь печальная читала вечером ручьисто-вкрадчиво,
Так чутко чувствуя журчащий вычурно чужой ей плач,
И, в человечестве чтя нечто вечнее, чем чушь Боккаччио,
От чар отчаянья кручинно-скучная, чла час удач.
Чернела, чавкая чумазой нечистью, ночь бесконечная,
И челны чистые, как пчелы-птенчики безречных встреч,
Чудили всячески, от качки с течами полуувечные,
Чьи очи мрачные их чисел чудную чеканят речь.
Чем – чайка четкая – в часы беспечные мечтой пречистою
Отлично честная Лючинь сердечная лечила чад
Порочных выскочек? Коричне-глетчерно кричит лучистое
В качалке алчущей Молчанье чахлое, влача волчат...
- И. Северянин, 1919
№ 58
«Жора Петербургская»
Петр, что ж, оратай жизни новой,
Из мреж оранских ты исторг?
Витраж оранжерей багровый,
Мажора зодчего восторг.
А твой, Ижора, герцог славный –
Тамбур-мажор, а после стал
Шафирову оммажоравный, –
Мираж оранжевый нам дал.
Уж о Растрелли нету спора;
Помажь, – о радужный! – власы
Поэтов, чья да славит «жора»
Свежо рамбовские красы.
Пусть ж о ракурсах злых Кваренги
Ткут ложь ораторы всех каст, –
Вас все ж, – о, радуйтесь! – за деньги
«Продаж оракул» не продаст.
- В. Пяст, Б. Мосолов, 1915
№ 59
Без «р» и «с»
Луна едва дышала
У тихих вод
Где днем овод
Пил коней
Мушки в облаке пыли
Летали
Была теплота как вода
Под ивами невода
Мели тучи.- Д. Бурлюк, [1913]
Рифма есть лишь один из множества типов созвучий, возможных в стихе. Но элементом стихосложения и предметом стиховедения является только она, потому что только она канонизирована, играет структурную роль (сигнала конца строки) и вызывает рифмическое ожидание. Вся остальная фоника (или звукопись, от греч. phone – «звук») в стихе не канонизирована. Она играет орнаментальную роль (звукового курсива, выделяющего то или иное отдельное место) и непредсказуема. Однако возможны исключения – когда какой-нибудь звук или звукосочетание повторяется настолько систематически, что это ощущается как принцип подбора слов и вызывает ожидание каждого следующего его появления. Таковы эти стихотворения (подзаголовки их – авторские).
У А. Белого предсказуемы (с какого момента?) ударные гласные каждого слова, у В. Брюсова – начальные согласные каждого слова (именно такое созвучие называется аллитерацией в узком смысле слова; подобная аллитерация заменяла внутреннюю рифму в древнегерманском стихе). У Северянина предсказуемо наличие в каждом слове малочастотного звука «ч», а у Пяста – наличие в каждой строке еще более труднодостижимого бессмысленного звукосочетания «жора» (изобретателем этого фонического фокуса Пяст называет О. Мандельштама).
Трудностями стихотворной задачи обусловлен вычурный перифрастический стиль пястовского стихотворения: речь идет о Петре I, его сподвижниках Меншикове («твой, Ижора, герцог») и Шафирове, о зодчих петербургского барокко (Растрелли) и классицизма (Кваренги); мрежами (сетями) оранскими названа Голландия (по Оранской династии), а «продаж оракулом» – журналист, ведший в журнале «Старые годы» отдел «Об аукционах и продажах». Рамбовские красы – от разговорного названия Ораниенбаума под Петербургом; мираж оранжевый – Меншиков дворец, крашенный в оранжевый цвет; неологизм «оммажоравный» означает «равный почетом» (фр. hommage). Пяст упоминает еще более сложные формы стихов типа «жоры», например «боранаут»; нам не удалось ни отыскать, ни сочинить ни одного «боранаута», – может быть, читателю повезет больше?
Особое положение занимает последнее стихотворение. Принцип его звукового построения объявлен в заглавии: в нем нет слов, содержащих звуки «р» и «с», и этот принцип, заранее сообщенный читателю, действительно подтверждается на каждом шагу. Но если бы этого объявления в заглавии (или подзаголовке) не было, уловил ли бы читатель эту закономерность самостоятельно, – так, как улавливает без всякой подсказки закономерность повторения «ч» у Северянина? Нам кажется, что вряд ли: отсутствие «р» и «с» не заметалось бы или показалось бы случайностью, только и всего. Так ли это на ваш слух? Для проверки возьмите несколько восьмистиший у Пушкина или Лермонтова и посчитайте в них согласные: вдруг среди них окажутся тоже написанные без такого-то или таких-то звуков (причем заведомо без намерения автора и неощутимо для читателя)? Обнаружено, например, что в известном восьмистишии Батюшкова «Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...» нет ни одного (довольно частотного) звука «м».
При всем том, как ни странно, именно этот сомнительный вид фонической организации одним из первых попал в поле зрения теории и практики литературы. Он носит особое название – липограмма [по-греч. «липо» значит «оставляю (в стороне)»], так писались стихи и проза еще в Древней Греции и древней Индии (в одном санскритском романе целая глава написана без губных звуков будто бы потому, что у героя после любовной ночи болят губы). У нас без «р» написана эротическая песенка Державина «Если б милые девицы / Так могли летать, как птицы, / И садились на сучках...», попавшая в качестве арии в оперу «Пиковая дама», – многие ли заметили эту особенность ее строения?
III. РИТМИКА
УДАРНАЯ КОНСТАНТА
№ 60
Частушка
Как пошли с гармоникой, –
Скуку в землю затолкай!Как пошли по улице, –
Солнце пляшет на лице.
Горюны повесились,
Пуще, солнце, веселись!
Выходите, девицы:
Мы любиться молодцы.
Не зевайте, пташеньки!
Стали вешние деньки.
Запевай, которая!
Будешь милая моя.
Рыжая, подтягивай!
Или в горле каравай?
Черная, подмигивай!
Ветер песней задувай.
Ох, гуляли по миру,
Распьянилися в пиру.
- С. Городецкий, [1912]
№ 61
«Я» и «Ты»
Говорят, что «я» и «ты» –
Мы телами столкнуты.Тепленеет красный ком
Кровопарным облаком.
Мы – над взмахами косы
Виснущие хаосы.
Нет, неправда: гладь тиха
Розового воздуха, –
Где истаял громный век
В легкий лепет ласточек, –
Где, заяснясь, «я» и «ты» –
Светлых светов яхонты, –
Где и тела красный ком
Духовеет облаком.
- А. Белый, 1918
№ 62
Тантал
(Отрывок)
(Вершина горы вдали озарена первыми утренними лучами.
Облако, тая, являет горный склон,
и высеченный в скале престол, и царя на престоле.)
– Встань, Солнце, из-за гор моих! Встань озарить
Избыток мой и вознесенный мой престол,
Мой одинокий, и сады моих долин!
Встань, око полноты моей и светочем
Уснувший блеск моих сокровищ разбуди,
И слав моих стань зеркалом в поднебесьи,
Мой образ-Солнце! Вечный ли Титан тебя,
Трудясь, возводит тяжкой кручей предо мной,
Иль Феникс-птица мне поет свой вещий гимн,
Паря под сводом раскаленным меж двух зорь, –
С тобой, мой брат, я одинок божественно!..
(Солнечные лучи, спускаясь с вершины,
достигают Тантала...)
- Вяч. Иванов, 1904
В русских двусложных размерах – ямбе и хорее – сильные места и слабые места чередуются через слог: (È)´È´È...È¢. Слабые места (È) преимущественно безударны (если и ударны, то лишь за счет коротких односложных слов), сильные места (´) преимущественно, но не обязательно ударны. Единственное место, на котором ударение обязательно (¢), – это последнее сильное место в строке – ударная константа (от лат. constans – «постоянный»). Если это ударение пропущено, то стих воспринимается как укороченный на стопу («Говорят, что “я” и “ты”» – 4-ст. хорей с мужским окончанием; «Мы телами столкнуты» – 3-ст. хорей с дактилическим окончанием). Нарушение этого правила – как в приводимых стихах – большая редкость. У С. Городецкого оно мотивировано имитацией частушки, с подчеркнутым скандированием под гармонику (характерна фонетическая рифма «с гармоник[а]й – затолкай»; в антропософских стихах А. Белого о преодолении плоти – имитацией немецкого стиха, где подобная рифмовка ударения с «полуударением» (Nebenton) обычна; во вступительном монологе трагедии Вяч. Иванова о Тантале, пресытившемся своим счастьем, – имитацией античного стиха («ямбического триметра»; в его имитации сочетаются 6-ст. ямб с мужским окончанием и 5-ст. ямб с дактилическим окончанием).
Сравните с приведенными образцами такое стихотворение:
№ 63
* * *
Твоя любовь – тот круг магический.
Который нас от жизни отделил.
Живу не прежней механической
Привычкой жить, избытком юных сил.
Осталось мне безмерно малое.
Но каждый атом здесь объят огнем.
Неистощимо неусталое
Пыланье дивное – мы вместе в нем.
Пойми предел и устремление
И мощь вихреобразного огня,
И ты поймешь, как утомление
Безмерно сильным делает меня.- Ф. Сологуб, 1920
В каждом стихе 10 слогов; ни на 10-м, ни на 8-м ударной константы нет. Казалось бы, эти стихи можно тоже считать бесконстантными. Но прислушавшись, мы определяем: во всех нечетных стихах, рифмующих друг с другом («магический – механический» и т.д.), окончания дактилические (см. № 64) и ударная константа на 8-м слоге, а во всех четных («отделил – сил» и т.д.) – мужские и ударная константа на 10-м слоге. Стало быть, мы должны сказать: стихотворение представляет собой урегулированное чередование разностопных стихов (№ 113): 4-ст. ямба с дактилическим окончанием и 5-ст. ямба с мужским окончанием. На практике такое чередование встречается очень редко: поэты его избегают именно потому, что в нем неотчетлива ударная константа.
ОКОНЧАНИЯ СТИХА
№ 64
Ночь
Ветки, темным балдахином свешивающиеся,
Шумы речки, с дальней песней смешивающиеся,
Звезды, в ясном небе слабо вздрагивающие,
Штаммы роз, свои цветы протягивающие,
Запах трав, что сердце тайно вкрадывается,
Теней сеть, что странным знаком складывается,
Вкруг луны живая дымка газовая,
Рядом шепот, что поет, доказывая,
Клятвы, днем глубоко затаенные,
И еще, – еще глаза влюбленные,
Блеск зрачков при лунном свете белом,
Дрожь ресниц в движении несмелом,
Алость губ, не отскользнувших прочь.
Милых, близких, жданных... Это – ночь!- В. Брюсов, 1915
Все безударные слоги, следующие в конце стиха после ударной константы, называются окончанием стиха (клаузулой) и в счет стоп не идут. Окончания могут быть мужскими (последний слог – ударная константа), женскими (после константы – один безударный слог), дактилическими (после константы – два безударных слога), гипердактилическими (после константы – три и более безударных слогов). Это стихотворение Брюсова начинается гипердактилическими окончаниями с 6 безударными слогами, а затем с каждым двустишием окончания укорачиваются на слог, вплоть до мужских. При всем том размер стихотворения остается один и тот же – 5-ст. хорей.
Штампы роз (правильнее: штамбы) – кусты роз.
В длинных окончаниях на безударных слогах (обычно на последнем) могут стоять сверхсхемные ударения, не входящие в счет стоп. Чаще это встречается в стихах нерифмованных, например у Некрасова в «Кому на Руси жить хорошо» (3-ст. ямб с дактилическими окончаниями):
Поля совсем затоплены,
Навоз возить – дороги нет,
А время уж не раннее –
Подходит месяц май!
– но возможно и в рифмованных: ниже в отрывке из «Молодца» Цветаевой (№ 105) мы найдем рифму «Нахлёстанный / Эй, вёрсты мои!»
ЧЕРЕДОВАНИЕ ОКОНЧАНИЙ
№ 65
М—Ж:
Таити
Со мной простись, моя Таис:
Готов корабль отплыть в Таити,
Где томно гнет к земле маис
Свои оранжевые нити.
Печальна ты? так не таись –
Матросы, без меня плывите:
Уста мне слаще, чем маис,
Таис желанней, чем Таити!- А. Беленсон, [1914]
№ 66
Ж—М:
Гваделупа
Кто любит, не закован в латы,
Но сердце тот открыть готов:
Я точным взором адвоката
Сказать сумею все без слов.
Вы на любезности не скупы
И снисходительны к гостям,
Но как туземец Гваделупы,
Я безразличен буду к вам.- А. Беленсон, [1914]
№ 67
Д—М:
Китаянка
В Китае, тая, гейша милая
Вздыхает, пьет китайский чай.
Но поступлю, конечно, мило я:
В Китай приеду невзначай.
Лишь денег нет – случайность странная,
Мою решимость не смущай.
Ах, если денег не достану я,
Как попаду в Китай, в Китай?- А. Беленсон, [1914]
№ 68
Д—Ж:
* * *
Исполнен церемонной грации,
С улыбкой важной богдыхана,
Я декламировал Горация
Китáянке благоуханной.
Дремали мандарины строгие –
Так, видно, принято в Пекине,
Любовный вздох при каждом слоге я
Лукаво добавлял к латыни.- А. Беленсон, [1914]
№ 69
Ж—Д:
Кульбин
Любитель перца и сирени,
Любезный даже с эфиопками.
Поверил: три угла – прозренье,
И марсиан контузит пробками.
Он в трели наряжает стрелы
И в мантии – смешные мании.
Сократ иль юнга загорелый
Из неоткрытой Океании?
И памятуя, что гонимый
Легко минует преисподнюю,
Плакатно-титульное имя
Чертит, задора преисполненный.
Когда ж, уединившись с богом,
Искусству гениев не сватает,
Он просит вкрадчиво и строго
Известности, а также святости.- А. Беленсон, [1914]
№ 70
М—Д:
Каждодневное
Не птицей вольной я лечу,
Но, брошенный, я камнем падаю,
И мы вдвоем, лицом к лицу,
Вневременные мчимся в Падую, –
Иль, может быть, в иной Аид,
Географами не отмеченный,
Где сложат груз слепых обид
Все неудачные, увечные.
Несусь с тобой, с тобой вдвоем,
Огнем двойным сжигаем разом я,
И вижу на челе твоем
Улыбку скорбную со спазмою.
Ты молишь, чтоб господь хранил
Мое безумье каждодневное,
И для меня ты просишь сил,
А для себя прическу Евину.
От скуки смертной спасено
Все опрокинутое на землю.
Один кто стал бы пить вино
И доверять хмельным фантазиям?- А. Беленсон, 1922/1923
№ 71
Д—Д:
Недостоверное
Суровы, как Страстная пятница.
Благие чувства в душу прибыли.
От них не спрятаться, не спятиться.
Ни удовольствия, ни прибыли.
Без экзегетики евангелий
И лжепифагорейской ветоши
Премудрость, оплотившись в ангеле.
Разбила душу мне на две души.
Вот эта – брошена соблазнами,
В ней клики с клироса и клирики;
А той подай роман с Фоблазами
И весь комплект блудливой лирики.
Сия раздвоенная неженка
Томится, как за чтеньем Зиммеля,
Не замечая, что невежливо
Ее давно в сторонку вымели.- А. Беленсон, 1922/1923
№ 72
Ж—Ж:
Смертное
Он подойдет и тихо скажет.
Чтоб хоры ангельские пели,
И прокаженному прикажет
Придвинуться к моей постели.
Невнятных уст коснутся струпья
Благоуханнейшим зловоньем,
И я пойму тогда, что труп я,
Полуистлевший на амвоне. <...>
Мечей сверлящих остриями
Была душа моя проткнута,
И в пустоте, в последней яме
Нет ни покоя, ни уюта.
Я не любил, чтоб было сыро,
И кофе пил, когда погуще.
Я, закурив, читал в псалтири
Полезное на сон грядущий. <...>
Я не хочу! Пусть кто-то умер,
С меня достаточно заботы:
Какой тянуть на счастье нумер,
И если ты не я, то кто ты?- А. Беленсон, 1922/1923
№ 73
М—М:
Облака над святилищем
Мы все в одну стучимся дверь,
Один сильней, другой слабей.
О милый друг, поверь, поверь:
Без веры смерть грозит тебе.
Никто не знает наперед,
Проснется ль завтра снова он,
Но каждый день и каждый год
Над нами тот же небосклон.
Скрывают те же облака
Святилище от наших глаз.
О милый друг, спеши, пока
Еще не бьет последний час...- А. Беленсон, [1921]
№ 74
Ж—Д—М:
* * *
Он подошел ко мне учтиво
С лицом, серьезным ненамеренно,
С улыбкой тонкой на губах.
Сказавши: «будьте терпеливы,
Не всем дано судить уверенно
О чуждых разуму вещах,
Но на земле, как в небесах.
Душа не может быть потеряна».
Сквозь приотворенные ставни
Весна дышала ароматами,
Виднелся звездный небосклон.
В раздумий следил наставник
За неподвижными вожатыми...
«Познайте, друг мой, – молвил он, –
Как прост любви благой закон,
Единый, сущий в каждом атоме».- А. Беленсон, [1921]
Если прозаик хочет подчеркнуть концовку длинного периода, то обычно он делает последний речевой такт длиннее предыдущих: это как бы дает ощущение «вот все, что можно было сказать». В стихах – наоборот. Соизмеримость стихотворных строк ощущается четко, концовочная строка обычно делается не длиннее, а короче предыдущих, что как бы дает ощущение «больше сказать нечего!» и побуждает при чтении делать удлиненную паузу.
Нагляднее всего это в стихах неравностопных: здесь чередования длинных (Д) и коротких (К) строк в последовательности ДДДК ДДДК... или ДКДК ДКДК... встречаются очень часто (найдите примеры у Пушкина или Лермонтова), а в противоположной последовательности – ...КККД или КДКД... – лишь единицами (см. № 175—176). Однако в стихах равностопных действует та же закономерность, только тоньше: счет идет не на стопы, а на слоги. Мужское окончание на слог короче женского, а женское – дактилического; и чем короче окончание, тем чаще оно употребляется в концовке строфы или полустрофы. Поэтому строфы с чередованием окончаний ЖМЖМ, ДМДМ, ДЖДЖ встречаются чаще и звучат плавнее, чем МЖМЖ, МДМД, ЖДЖД.
Почему «плавнее»? Обычно в четверостишии самая сильная смысловая пауза бывает после 4-го стиха (конец строфы), следующая по силе – после 2-го (конец полустрофы), слабейшие – после 1-го и 3-го. В строфах с окончаниями типа ЖМЖМ смысловые и ритмические паузы совпадают после 2-го и 4-го стихов и четверостишие дробится на 2+2 строки; а в строфах типа МЖМЖ после 2-го и 4-го стихов остаются паузы смысловые, а после 1-го и 3-го появляются паузы ритмические (укороченные окончания), т.е. четверостишие дробится на 1+1+1+1 строку и звучит резче и отрывистее. Проверьте, так ли это на ваш слух.
Во всех приведенных примерах рифмовка перекрестная – АБАБ; попробуйте сами перестроить их так, чтобы рифмовка получилась парная (ЖЖММ, ММЖЖ и т.п. – ср. № 161) или охватная (ЖММЖ и т.п.). В чем изменится звучание?
Автор этих стихов, А. Беленсон, был близок к «умеренным» футуристам и их теоретику Н. Кульбину. Падуя – итальянский город, где Галилей делал опыты с падением тел. Экзегетика – искусство толкования (например, вычитывание из Евангелия скрытой «премудрости»). Роман «Фоблаз» Луве де Кувре (XVIII в.) назван как образец эротики, а сочинения философа Г. Зиммеля (конец XIX в.) – как образец научной скуки.
АНАКРУСА
№ 75
Зной
Не воздух, а золото,
Жидкое золото
Пролито в мир.
Скован без молота,
Жидкого золота,
Не движется мир.
Высокое озеро.
Синее озеро,
Молча лежит. | | Зелено-косматое,
Спячкой измятое,
В воду глядит.
Белые волосы,
Длинные волосы
Небо прядет –
Небо без голоса,
Звонкого голоса,
Молча прядет.- С. Городецкий, 1905
|
В этом стихотворении большинство строк представляет собой 2-ст. дактиль, но четыре среди них – 2-ст. амфибрахий: «Не воздух, а золото», «Не движется мир», «Высокое озеро», «Зелено-косматое». 2-ст. амфибрахий отличается от 2-ст. дактиля только тем, что начальному сильному месту, ударному слогу, здесь предшествует слабое место – один безударный слог. На слух мы чувствуем, что, несмотря на эту разницу, стихотворение воспринимается как однородное и плавное.
Это значит, что начальное слабое место в стихе находится в нем на особом положении, это как бы подступ («затакт», говоря по-музыкальному) к ритму стиха. Поэтому для него есть специальный термин анáкруса (гр. «оттяжка»), и размер этого стихотворения лучше определить не как «смесь 2-ст. дактилей и 2-ст. амфибрахиев», а как «2-ст. трехсложный размер с переменной анакрусой» – переменной, т.е. то односложной, то нулевой. В другом месте этой книги вы найдете пример «4-ст. двусложного размера с переменной анакрусой» (№ 136), только там нулевые и односложные анакрусы будут чередоваться не беспорядочно, как здесь, а урегулированно. В двусложных размерах переменные анакрусы встречаются очень редко, в трехсложных – немного чаще.
В противоположность таким стихам с переменной анакрусой обычные стихи – ровные дактили, ямбы и пр. – могут быть названы стихами с постоянной анакрусой, нулевой в хорее и дактиле, односложной в ямбе и амфибрахии, двусложной в анапесте. Здесь тоже чувствуется, что эти начальные безударные слоги находятся на особом положении: на них чаще приходятся сверхсхемные ударения, чем на слабые места внутри строки. Поэтому, например, в «Евгении Онегине» строчка: «Еж, мрак, мосток, медведь, метель» – звучит ровнее и привычнее, чем предыдущая: «Слова: бор, буря, ведьма, ель».
УРЕГУЛИРОВАННАЯ И КОМПЕНСИРУЮЩАЯ АНАКРУСА
№ 76
Ветер
Я жить не могу настоящим,
Я люблю беспокойные сны,
Под солнечным блеском палящим
И под влажным мерцаньем Луны.
Я жить не хочу настоящим,
Я внимаю намекам струны.
Цветам и деревьям шумящим,
И легендам приморской волны.
Желаньем томясь несказанным,
Я в неясном прядущем живу,
Вздыхаю в рассвете туманном,
И с вечернею тучкой плыву.
И часто в восторге нежданном
Поцелуем тревожу листву,
Я в бегстве живу неустанном,
В ненасытной тревоге живу.
- К. Бальмонт, 1895
№ 77
Сон сада
Глушь черноземной России
И старый заброшенный сад;
Ветки березы косые
Гирляндами книзу висят;
Липы, широкой листвою.
Зеленым повисли шатром;
Дикой, высокой травою
Покрылись дорожки с песком. | | Видно, давно человека
Не видел ты, сад-старина?
«Да, вот уж скоро полвека
Никто не нарушил мне сна...
Сон мой баюкают птицы
Чарующим пеньем своим,
И сон мне волнующий снится:
Любим я весною, любим!» |
| П. Кокорин, 1910 |
Стихи Городецкого были примером неурегулированной переменной анакрусы. Эти два стихотворения знаменитого Бальмонта и безвестного Кокорина – примеры урегулированной, предсказуемо чередующейся переменной анакрусы. У Бальмонта чередуются строки с односложной и двусложной анакрусой трехсложного метра (3-ст. амфибрахий и анапесты), у Кокорина – с нулевой и односложной анакрусой трехсложного метра (3-ст. дактили и амфибрахии). Можно заметить, что звучат они по-разному: у Бальмонта более контрастно, у Кокорина более плавно (это подчеркнуто и графическим обликом стихов: у Бальмонта с отступами, у Кокорина без отступов). Причина – в том, как соотносятся скопления безударных слогов внутри стиха и на стыках стихов. У Бальмонта читаем: «Я жить не могу настоящим, / Я люблю беспокойные сны, / Под солнечным блеском палящим...» На стыках стихов оказываются то 3, то 1 слог, тогда как внутри стиха между ударениями стоят по 2 безударных слога; таким образом, стихоразделы резко выделяются в общем потоке ритма стиха, текст звучит отрывисто. У Кокорина читаем: «Глушь черноземной России / И старый заброшенный сад; / (—) Ветки березы косые / Гирляндами книзу висят...» На стыках стихов оказываются то 2 слога (как и внутри между ударениями), то ноль слогов (резкий контраст). Таким образом, у Кокорина нечетный и четный стих каждой строфы как бы сливаются в один 6-ст. дактиль с сильной паузой после него. Такую урегулированную анакрусу, которая делает стихи отрывистыми, как у Бальмонта, можно условно назвать контрастирующей; такую, которая делает стихи слитными, как у Кокорина, – компенсирующей.
Эта роль урегулированной переменной анакрусы особенно видна, если для сравнения представить оба стихотворения с постоянной анакрусой. У Бальмонта чистый амфибрахий звучал бы: «Я жить не могу настоящим, / Люблю беспокойные сны...», строки сливались бы, контрастности было бы меньше. У Кокорина чистый дактиль звучал бы: «Глушь черноземной России, / Старый заброшенный сад...», строки разъединялись бы, контрастности было бы больше. Посмотрите уже упоминавшийся двусложник Верховского с переменной анакрусой (№ 136) – контрастирующую играет она там роль или компенсирующую, разрывает или связывает строки?
ЦЕЗУРА
№ 78
Классические розы
- Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!- Мятлев. 1843г.
В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны.
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы.
Моей страной мне брошенные в гроб!- И. Северянин, 1925
№ 79
Он улыбается
(Из цикла «Пророк»)
Он долго говорил, и вдруг умолк.
Мерцали нам со стен сияньем бледным
Инфант Веласкеса тяжелый шелк
И русый Тициан с отливом медным.
Во мраке тлел камин; огнем цвели
Тисненых кож и чернь и позолота;
Умолкшие слова в тиши росли,
И ждал развернутый том Дон-Кихота.
Душа, убитая тоской отрав,
Во власти рук его была, как скрипка,
И увидала я, глаза подняв.
Что на его губах зажглась улыбка.- Черубина де Габриак, 1910
Цезура (лат. «разрез») – это постоянный словораздел внутри строки, повторяющийся из стиха в стих и облегчающий восприятие его ритма. Длинные строки (начиная с 6-стопных) без цезуры употребляются редко и воспринимаются плохо (см. № 106—107, 115—116). 5-ст. ямб, которым написаны эти два стихотворения, стих средней длины: в русском стихосложении первое время он употреблялся с цезурой после 2-й стопы, потом (с 1830-х годов) преимущественно без цезуры (см. № 22, 23 и др.); современный слух утратил привычку к ней и почти перестал ее ощущать. В стихотворении Северянина выдержана именно эта цезура после 2-й стопы – как знак тоски по прошлому (найдите единственное ее нарушение). Но чтобы хоть сколько-нибудь обратить на нее внимание читателя, Северянину пришлось дополнительно соблюсти постоянное ударение на предцезурной 2-й стопе, что было совсем не обязательно (ср. № 29). В стихотворении Черубины де Габриак выдержана другая; цезура, после 3-й стопы, почти никогда раньше в русской поэзии не употреблявшаяся, – как знак установки на избранный круг мастеров и знатоков стиха, которые только и смогут расслышать и оценить непривычную новацию.
Последние две строки «Классических роз» высечены на могиле И. Северянина в Таллине.
ПЕРЕДВИЖНАЯ ЦЕЗУРА
№ 80
Зимняя ночь
Не подняться дню в усилиях светилен,
Не совлечь земле крещенских покрывал.
Но, как и земля, бывалым обессилен,
Но, как и снега, я к персти дней припал.
Далеко не тот, которого вы знали.
Кто я, как не встречи краткая стрела?
А теперь – в зимовий глохнущем забрале –
Широта разлуки, пепельная мгла.
А теперь и я недрогнущей портьерой
Тяжко погребу усопшее окно,
Спи же, спи же, мальчик, и во сне уверуй,
Что с тобой, былым, я, нынешний, – одно.
Нежится простор, как дымногрудый филин,
Дремлет круг пернатых и незрячих свеч.
Не подняться дню в усилиях светилен,
Покрывал крещенской ночи не совлечь.- Б. Пастернак, 1913
Это стихотворение Б. Пастернака (впоследствии переработанное в 1928 г.) написано 6-ст. хореем. 6-ст. хорей употребляется в русской поэзии в двух несмешиваемых разновидностях – цезурованной и бесцезурной (см. № 94—95). Признак цезурованного 6-ст. хорея – обязательное ударение на 3-й стопе и словораздел после 3-й стопы. В этом стихотворении обязательное ударение на 3-й стопе строго выдержано, и это заставляет читателя (по крайней мере, привыкшего к русской стиховой традиции) ощущать следующий словораздел как цезуру. Но обязательное место цезуры после 3-й стопы соблюдено только в шести стихах (как они располагаются по стихотворению?), в остальных она сдвинута на слог раньше. Такой ритм 6-ст. хорея звучит разнообразнее, чем строго цезурный (ср. № 94). В русский 6-ст. хорей такой цезурный сдвиг впервые ввел Надсон (см. его «Милый друг, я знаю...»); но для Пастернака он ассоциировался также с нарушениями цезуры в александрийском стихе (см. № 154) французских романтиков и символистов: в 1938 г. он употребил этот же стих в переводе из Верлена. Только такой переменный словораздел после постоянного ударения может называться передвижной цезурой; если внутри стиха постоянных ударений нет и постоянных словоразделов тоже нет, то перед нами просто бесцезурный стих (ср. № 92).
ЦЕЗУРНЫЕ НАРАЩЕНИЯ
№ 81
* * *
По тем дорогам, где ходят люди,
В часы раздумья не ходи, –
Весь воздух выпьют людские груди.
Проснется страх в твоей груди.
Оставь селенья, иди далеко
Или создай пустынный край,
И там безмолвно и одиноко
Живи, мечтай и умирай.- Ф. Сологуб, 1902
№ 82
После первой встречи
После первой встречи, первых жадных взоров
Прежде невидавшихся, незнакомых глаз,
После испытующих, лукавых разговоров
Больше мы не виделись. То было только раз.
Но в душе, захваченной безмерностью исканий,
Все же затаился ласкающий намек,
Словно там сплетается зыбь благоуханий.
Словно распускается вкрадчивый цветок...
Мне еще невнятно, непонятно это.
Я еще не знаю. Поверить я боюсь.
Что-то будет в будущем? Робкие приветы?
Тихое ль томленье? Ласковый союз?
Или униженья? Новая тревожность?
Или же не будет, не будет ничего?
Кажется, что есть во мне, есть в душе возможность,
Тайная возможность, не знаю лишь – чего.- В. Гофман, 1903
№ 83
Когда-то прежде
Навстречу солнцу: земля, земля свята.
Навстречу сердцу: легко благое иго.
И смерти: участь опавшего листа.
И жизни: вечность промчавшегося мига.
Навстречу «мимо» он осветился: пусть.
Дыханью «пусто» он улыбнулся: нива.
И отдал счастью – большого строя грусть
И скорби – стих свой высокого прилива.
Он темных, пленных безмерно пожалел
И ужаснулся грядущей нашей муке,
И цепь неволи он на свои надел.
Чтоб наши тронуть закованные руки.
Здесь, на земле он, на черной – с нами он,
Печалью некой, безумьем нашим болен,
И с нами бредит, и с нами усыплен,
И снами скован, и снами приневолен.
И пленным – нежный твердить не устает,
Что нет чертога украшенней темницы,
И темным – светлый поет, и льет, и льет
Дождем стеклянным созвучия денницы.
И холод ночи нам – утренняя дрожь,
Тюрьмы решетки нам – неба перламутры,
И все равно нам, где истина, где ложь.
Когда глядит Прекрасный, поет Премудрый.
И все равно нам, узнать или забыть,
Что – крест распятья и что – печать соблазна.
Нас больше нет. И нам не жаль не быть:
Нам пел Премудрый, на нас глядел Прекрасный.- В. Меркурьева, 1918
Как стихораздел делит текст на стихи, так цезура делит стихи на полустишия (а сверхдлинные стихи – и на «третьестишия», как и № 106, и на «четвертьстишия», как в № 107). Иногда она старается уподобиться настоящему стихоразделу: совпадать с сильной синтаксической паузой, соблюдать на предцезурной стопе ударную константу, сопровождаться внутренними рифмами (см. № 106), и, наконец, как в стихоразделе после ударной константы могут появляться в стиховом окончании лишние слоги, не учитываемые мри счете стоп (№ 64), так и при цезуре после ударной константы могут появляться цезурные наращения – такие же лишние слоги, не учитываемые при счете стоп.
4-ст. ямб обычно употребляется без цезур, но когда с цезурой (после 2-й стопы), то почти всегда с такими наращениями («Хочу быть дéрзким, хочу быть смéлым...» у Бальмонта; «Ищите жирных в домах-скорлýпах... Схватите зá ноги глухих и глупых...» в трагедии Маяковского «Владимир Маяковский»). В приводимом стихотворении Сологуба (программном для него по содержанию) строчки 4-ст. ямба наращениями и без наращений чередуются.
6-ст. хорей с цезурой после 3-й стопы имеет обычно строение ´ È ´ È ¢ È | ´ È ´ È ¢ È (см. № 94), а в приводимом стихотворении В. Гофмана и перед цезурой, и после цезуры может появляться лишний наращенный слог («...невидавшихся», «лукавых...»), так что строение становится ´ È ´ È ¢ È (È) | (È) ´ È ´ È ¢ È. Это придает середине стиха заметную зыбкость, сближающую его звучание с ритмом тактовика (см. № 148).
5-ст. ямб с цезурой после 2-й стопы (см. № 78) отличается от обоих предыдущих размеров тем, что он асимметричен, его полустишия (2+3 стопы) не равны друг другу, поэтому у поэта меньше соблазна разваливать его на две половины и подчеркивать это, уподобляя цезуру стихоразделу. Поэтому 5-ст. ямб с цезурными наращениями очень редок, и наращения эти в нем лишь усиливают ощущение асимметрии. Стихотворение В. Меркурьевой обращено к Вяч.. Иванову, своей мудростью и песнью утешающему человечество в его доле; оно написано 5-ст. ямбом с односложным наращением после цезуры на 2-й стопе, но в трех строках эта схема нарушается. Найдите эти строки; имеют ли нарушения выразительное назначение?
ПОЛУСТИШИЯ
№ 84
Сонет
Отточенный булат – луч рдяного заката!
Твоя игрушка. Рок, – прозрачный серп луны!
Но иногда в клинок – из серебра и злата
Судьба вливает яд: пленительные сны!
Чудесен женский взгляд – в час грез и аромата.
Когда покой глубок. Чудесен сон весны!
Но он порой жесток – и мы им пленены:
За ним таится ад – навеки, без возврата.
Прекрасен нежный зов – под ропот нежный струй.
Есть в сочетаньи слов – как будто поцелуй,
Залог предвечных числ – влечет творить поэта!
Но и певучий стих – твой раб всегдашний, Страсть,
Порой в словах своих – певец находит власть:
Скрывает тайный смысл – в полустихах сонета.- В. Брюсов, 1918
С наращением или без наращений, но главная роль цезуры в стихе всегда одна и та же: делить стих на полустишия, реже неравные (как в 5-ст. ямбе), чаще равные. Выделение полустиший побуждает поэта и читателя соотносить их между собой по вертикали – первые с первыми, вторые со вторыми. (Мы помним, что такая вертикальная соотнесенность – одно из важнейших свойств всякого стихотворного текста.) Если довести эту соотнесенность до предела, то получится стихотворение, которое можно осмысленно читать только по первым полустишиям, только по вторым полустишиям и, наконец, обычным образом по целым стихам, т.е. целых три текста в одном. Такие стихи писались в эпоху барокко (как версификационные фокусы) едва ли не на всех европейских языках, причем преимущественно избиралась нарочно трудная по рифмовке форма сонета; на русском языке образец такого тройного сонета еще в XVIII в. сочинил поэт А.А.Ржевский.
Брюсов предназначал свой сонет для экспериментального сборника «Опыты», но почему-то не включил его туда. Сравните рифмовку первых и вторых полустиший: какая выдержана правильнее? (О рифмовке в сонете см. № 211—215.) Не удивляйтесь, что строгий Брюсов позволил себе ту вольность, которую вы обнаружите: он мог сослаться на пример Пушкина, который с самой вольностью написал два своих сонета 1830 г. – «Поэту» и «Мадонна», – перечитайте их! [Мог же поэт И. Сельвинский в своей «Студии стиха» (М., 1962), опираясь на эти два сонета и забыв обо всех остальных сонетах на свете – в том числе о своих собственных, – утверждать вопреки всему, будто только такая рифмовка правильна!]
РИТМИКА 4-СТ. ЯМБА
№ 85
Мой сад
Валерию Брюсову
Мой тайный сад, мой тихий сад
Обвеян бурей, помнит град...
В нем знает каждый малый лист
Пустынных вихрей вой и свист...
Завет Садовника храня,
Его растил я свету дня...
В нем каждый злак – хвала весне,
И каждый корень – в глубине...
Его простор, где много роз,
Глухой оградой я обнес, –
Чтоб серый прах людских дорог
Проникнуть в храм его не мог!
В нем много-много пальм, агав,
Высоких лилий, малых трав, –
Что в вешний час, в его тени,
Цветут-живут, как я, одни...
Все – шелест, рост в моем саду,
Где я тружусь и где я жду –
Прихода сна, прихода тьмы
В глухом безмолвии зимы...
- Ю. Балтрушайтис, [1911]
№ 86
Ночью на кладбище
Кладбищенский убогий сад
И зеленеющие кочки.
Над памятниками дрожат,
Потрескивают огонечки.
Над зарослями из дерев,
Проплакавши колоколами,
Храм яснится, оцепенев
В ночь вырезанными крестами.
Серебряные тополя
Колеблются из-за ограды,
Разметывая на поля
Бушующие листопады.
В колеблющемся серебре
Бесшумное возникновенье
Взлетающих нетопырей, –
Их жалобное шелестенье.
О сердце тихое мое,
Сожженное в полдневном зное, –
Ты погружаешься в родное,
В холодное небытие.- А. Белый, 1908
№ 87
Зимой
Дуй, дуй, Дувун! Стон тьмы по трубам,
Стон, плач, о чем? по ком? Здесь, там –
По травам, ржавым, ах! по трупам
Дрем, тминов, мят, по всем цветам,
Вдоль троп упадших тлелым струпом,
Вдоль трапов тайных в глушь, где стан,
Где трон вздвигал, грозой за трусом
Пугая путь, фригийский Пан.
Дуй, дуй, Дувун! Дуй, Ветр, по трубам!
Плачь, Ночь! Зима, плачь, плачь, здесь, там,
По травам, трапам, тронам, трупам.
По тропам плачь, плачь по цветам!
Скуп свет; нет лун. Плачь, Ночь, по трудным
Дням! Туп, вторь, Ветр! По их стопам
Пой, Стужа! Плачьте духом трубным,
Вслух, вслух! по плугам, по серпам!
Дуй, дуй, Дувун! Дуй в дудки, в трубы!
Стон, плач, вздох, вой, – в тьму, в ум, здесь, там...
Где травы, трапы, троны? – Трупы
Вдоль троп. Все – топь. Чу, по пятам
Плач, стон, их туч, стон с суши к струйным
Снам, Панов плач по всем гробам.
Пой в строки! в строфы! строем струнным
На память мяты по тропам!- В. Брюсов, 1923
Метрическая схема 4-ст. ямба – È ´ È ´ È ´ È ¢: на 8-м слоге обязательное ударение, на других четных слогах необязательное ударение, нечетные слоги или безударны, или заполняются односложными словами. В зависимости от того, какие четные места заняты ударениями, а на каких они пропущены, различаются несколько ритмических форм этого размера:
| Одна 4-ударная: | | Мой тайный сад, мой тихий сад; |
| Три 3-ударных: | | На берегу пустынных волн;
Кладбищенский убогий сад,
О сердце тихое мое; |
| Две 2-ударных: | | И зеленеющие кочки;
Потрескивают огонечки. |
В большинстве стихотворений, написанных 4-ст. ямбом, преобладающими являются вариации 4-ударная и третья 3-ударная (см., например, № 65—74).
Стихотворение Балтрушайтиса почти целиком состоит из 4-ударных форм, потому звучит полновесно и четко. (Балтрушайтис, один из старших русских символистов, писал стихи и на своем родном, литовском языке; любопытно, что в них, напротив, ритм был более архаично-расшатан, чем у большинства его современников.) Стихотворение Белого, наоборот, преимущественно состоит из 2-ударных форм с длинным междуударным интервалом (тот ритм перебивается лишь перед концовкой) и поэтому звучит легко, но замедленно; оно было написано как эксперимент, в связи со стиховедческими исследованиями Белого, сыгравшими важную роль в русском стиховедении XX в. Стихотворение Брюсова примечательно нарочитым обилием сверхсхемных ударений на нечетных слогах, создающих впечатление отрывистости и затрудненности, однако ни одно из них не разрушает ритма ямба, потому что все приходятся на односложные слова. Пан – античное древнейшее божество стихийных сил, в том числе «труса» (землетрясения); Фригия – дикая область в Малой Азии. Дувун (от слова «дуть») – имя, сочиненное Брюсовым. Обратите внимание на густые аллитерации в этом тексте.
РИТМИКА 4-СТ. ХОРЕЯ
№ 88
Дети ночи
Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И среди глубокой тьмы
Петуха ночное пенье,
Холод утра – это мы.
Мы – над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем:
Свет увидим – и, как тени,
Мы в лучах его умрем.- Д. Мережковский, [1894]
№ 89
Хвала времени
Беженская мостовая!
Гикнуло – и понеслось
Опрометями колес.
Время! Я не поспеваю.
В летописях и в лобзаньях
Пойманное... но песка
Струечкою шелестя...
Время, ты меня обманешь!
Стрелками часов, морщин
Рытвинами – и Америк
Новшествами... – Пуст кувшин! –
Время, ты меня обмеришь!
Время, ты меня предашь!
Блудною женой – обнову
Выронишь... – «Хоть час, да наш!»
– Поезда с тобой иного
Следования!.. –
Ибо мимо родилась
Времени! Вотще и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! Я тебя миную.- М. Цветаева, 1923
Метрическая схема 4-ст. хорея – ´ È ´ È ´ È ¢ (È): она отличается. от схемы ямба только тем, что на один слог короче спереди. Ритмические формы 4-ст. хорея тоже аналогичны ритмическим формам 4-ст. ямба:
| Одна 4-ударная: | | Дети скорби, дети ночи; |
| Три 3-ударных: | | Устремляя наши очи;
Блудною женой – обнову;
Слишком ранние предтечи; |
| Две 2-ударных: | | Погребенных воскресенье;
Беженская мостовая. |
В первом стихотворении (одном из программных стихотворец раннего символизма) нет ни одной строки с пропуском ударения 2-й стопе (как в строках «Блудною...» или «Беженская...»). Из строк его все 20 несут ударение на 2-й стопе и на 4-й (где обязательно как ударная константа). И только 10 строк несут ударение на 1-й и/или 3-й стопах. Получается отчетливое чередование редкоударных нечетных и частоударных четных стоп; наиболее типична звучащая строка – «Погребенных воскресенье...». Поверх первичного ритма хорея (чередование потенциально ударных и неударных слогов) как бы накладывается вторичный ритм (чередование частоударных и редкоударных стоп). Когда частоударные и редкоударные стопы чередуются через одну, как здесь, такой вторичный ритм называется альтернирующим («чередующимся»).
Во втором стихотворении, наоборот, строки с пропуском ударения на 2-й стопе («Блудною...», «Беженская...») решительно предпочитаются всем остальным. Из 20 строк его (неполная строка «Следования!..» не в счет, но и она построена так же) на 1-й стопе несут ударение 19 строк, на 2-й стопе – только 6, на 3-й – 11, на 4-й (ударная константа) – все 20. Если в предыдущем стихотворении самыми частоударными стопами были 2-я и 4-я, то в этом – 1-я и 4-я; наиболее типично звучащая строка – «Беженская мостовая...». Здесь тоже поверх первичного ритма 4-ст. хорея ощущается вторичный ритм, но иной – с опорой на начальную и конечную топы строки; такой вторичный ритм можно назвать «рамочным» (термин не общепринятый).
Какой из этих двух типов вторичного ритма более обычен, более традиционен? Достаточно вспомнить или перечитать любые 1-ст. хореи из русской классики, чтобы ответить: альтернирующий ритм Мережковского традиционен, рамочный же ритм Цветаевой резко необычен. У Пушкина ритмическая форма «Беженская мостовая...» почти отсутствует (на 1000 строк «Сказки о царе Салтане...» – только один раз, «По морю по окияну...»), а в цветаевском стихотворении она самая частая (на 20 строк 7 раз). Это не удивительно: альтернирующий ритм, простое чередование «через один» (слог или стопу), вообще легче воспринимается, легче предсказуемо, а потому лучше поддерживает восприятие стиха.
Это относится не только к 4-ст. хорею. Русский 4-ст. ямб начинался при Ломоносове с затрудненного рамочного вторичного ритма (строки типа «Изволила Елисавет»), ко времени Пушкина он нащупывает более легкий альтернирующий ритм (строки типа «Адмиралтейская игла») и держится на нем весь XIX в.; только в начале XX в. он как бы в порядке отталкивания отчасти возвращается рамочному ритму («Над памятниками дрожат...» в экспериментальном стихотворении Белого – № 86).
В заключение обратим внимание на ритмическую композицию стихотворения Цветаевой: как располагаются в нем строки господствующего типа, с пропуском ударения на 2-й стопе, и на их фоне – контрастные, с наличием ударения на 2-й стопе? Начинается стихотворение паникой поэта перед Временем (I строфа: «Время! Я не поспеваю»), затем следует нарастающее недоверие к Времени (II—III строфы: «Время, ты меня обманешь!», «Время, ты меня обманешь!»); вывод – поэт и Время враждебны, ибо инородны (IV строфа: «Время, – ты меня предашь!»), а затем итог – торжество поэта над Временем , (V строфа: «Время! Я тебя миную»). Две части – 3 и 2 строф!». Так вот, в первых 3 строфах содержится только по одной, контрастной (с ударением на 2-й стопе) строке – на последнем месте, а в заключительных 2 строфах – по две, на начальном и последнем местах. Кроме того, среди строк господствующего типа в первых 2-х строфах налицо только самые яркие, 2-ударные («Беженская мостовая»), в последних 2 строфах менее яркие, 3-ударные («Блудною женой – обнову»), средняя строфа – переходная. Среди строк контрастного типа самая яркая (с единственным пропуском ударения на опорной начальной стопе: «Поездá с тобой иного...») отмечает кульминационную, переломную IV строфу. Ритмическая композиция аккомпанирует смысловой.
РИТМИКА 6-СТ. ЯМБА
№ 90
Пиры
Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю,
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.
Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветр ночей – тех здравниц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.
Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.
И тихою зарей – верхи дерев горят –
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.
Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, – и на своих двоих.- Б. Пастернак, 1913, 1928
№ 91
Второй фортепианный сонет
Над ризою белою, как уголь волоса,
Рядами стройными невольницы плясали,
Без слов кристальные сливались голоса,
И кастаньетами их пальцы потрясали…
Горели синие над ними небеса
И осы жадные плясуний донимали,
Но слез не выжали им муки из эмали.
Неопалимою сияла их краса.
На страсти, на призыв, на трепет вдохновенья
Браслетов золотых звучали мерно звенья,
Но, непонятною не трогаясь мольбой,
Своим властителям лишь улыбались девы,
И с пляской чуткою, под чашей голубой,
Их равнодушные сливалися напевы?- И. Анненский, [1904]
№ 92
Нежить
Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
в упругий воздух дым выталкивают густо,
и в гари прóжилках, разбухших, как от ящура
язык быка, он – словно кочан капусты.
Кочан, еще кочан – все туже, все лиловее –
не впопыхах, а бережно, как жертва небу,
окутанная испаряющейся кровию,
возносится горé: благому на потребу.
Творца благодарят за денное и нощное,
без воздыханий, бдение – слепые чада.
И домовихой рыжей, раскорякой тощею
(с лежанки хлопнулась), припасено два гада:
за мужа, обтирающего тряпкой бороду
(кряхтел над сыровцем) – пройдоху-таракана,
и за себя – клопа из люльки, чуть распоротой
по шву на пузе, – вверх щелчком швыряет рьяно.
Лишь голомозый – век горюет по покойнице:
куда запропастилась? – чахнущий прапращур
мотает головой под лавкой, да – в помойнице
болтается щуренок: крысы хлеб растащат. <...>- В. Нарбут, [1912]
№ 93
В Москве
Как на бульварах весело средь снега белого,
Как тонко в небе кружево заиндевелое!
В сугробах первых улица, светло затихшая,
И церковь с колоколенкой, в снегу поникшая.
Как четко слово каждое. Прохожий косится,
И смех нежданно-радостный светло разносится.
Иду знакомой улицей. В садах от инея
Пышней и толще кажутся деревья синие.
А в небе солнце белое едва туманится,
И белый день так призрачно, так долго тянется.- Н. Крандиевская, [1913]
Метрическая схема 6-ст. ямба – È ´ È ´ È ´ / È ´ È ´ È ¢: после 3-й стопы обязательная цезура, переломное место строки. Если предцезурный слог ударный (мужская цезура), то опорными ритмическими точками становятся это и последнее ударение, и стих как бы раскалывается на две симметричные половины: «Надежному куску / объявлена вражда...» Если на предцезурном слоге пропущено ударение (дактилическая цезура), то опорными становятся ударения на 2-й, 4-й и 6-й стопах, цезурный разлом ощущается слабее, и стих звучит не двучленным, а как бы трехчленным ритмом: «Неопалимою сияла их краса...» Первый ритм звучит более четко и сухо, второй – более изысканно и гибко. (А по-вашему?)
Первое из приведенных стихотворений, о духовных пиршествах и дневной бедности художников, написано сплошь на мужских цезурах и двучленном ритме; второе, о пальцах над клавиатурой фортепьяно, – почти сплошь на дактилических цезурах и трехчленном ритме (какую композиционную роль здесь играет ритмический перебой – две строки с мужскими цезурами?), Третье стихотворение, в нарушение всех традиций, вообще не соблюдает цезуры, поэтому в его 6-ст. ямбе нет опорных ударений, ритм становится трудно уловимым, и стих кажется тяжел и громоздок. Это перекликается с его нарочито грубой тематикой (избяная нечисть приносит в печной трубе жертву небу) и затрудненной лексикой (щуры – избяная нечисть, архаизм горé – вверх, сыровец – недоготовленный квас, голомозый – растрепанный, и др.); такой стиль был вообще характерен для В. Нарбута.
Четвертое стихотворение стоит особняком: цезура в нем сдвинута и стоит не после 3-й, а после 4-й стопы, а перед ней – дактилическое окончание. Инородность подчеркнута тем, что весь стих тоже имеет дактилическое окончание, тогда как обычно 6-ст. ямб пользуется только женскими и мужскими окончаниями. Метрическая схема стих Крандиевской – È ´ È ´ È ¢ È È | È ´ È ¢ (È È). При желании его можно считать чередованием 3- и 2-ст. ямбов с дактилическими окончаниями, записанными в одну строку, или 5-ст. ямбом с двусложным наращением после цезуры. Это не единственный случай двойственной интерпретации стихов такого рода. В № 107 мы увидим сдвоенные 5-ст. ямбы И. Северянина: «И ты шел с женщиной, – не отрекись. Я все заметила, – не говори...» – их тоже можно считать как 5-ст. ямбом с цезурой после 3-й стопы, так и 4-ст. ямбом с двусложным наращением после цезуры.
РИТМИКА 6-СТ. ХОРЕЯ
№ 94
* * *
Ни дворе соседнем выгнила солома.
Мне опять приснился этой ночью ты.
В полдень душный выйду: возле водоема
Свернутые звезды – желтые цветы.
И сказал, смеясь, покинутый вчера мне:
«Вам совсем не пишут: позабыть пора»,
В узкие ворота провозили камни,
И кричали долго с лестниц мастера.
Я почти не вижу – солнце колет веки,
Голову на камень теплый положить!
За оградой просят нищие-калеки...
Разве это надо – непременно жить?- К. Арсенева, [1916]
№ 95
Nocturne
Навевали смуть былого окарины
Где-то в тихо вечеревшем далеке, –
И сирены, водяные балерины,
Заводили хороводы на реке.
Пропитались все растенья соловьями
И гудели, замирая, как струна,
А в воде – в реке, в пруде, в озерах, в яме –
Фонарями разбросалася луна.
Засветились на танцующей сирене
Водоросли под луной, как светляки.
Захотелось белых лилий и сирени, –
Но они друг другу странно далеки...- И. Северянин, 1909
Метрическая схема первого стихотворения – ´ È ´ È ¢ È | ´ È ´ È ¢ È: в нем обязательная цезура (лишь в одной строке сдвинутая, как в № 80) и двучленный ритм, напоминающий ритм 6-ст. ямба с мужской цензурой. Метрическая схема второго стихотворения – ´ È ¢ È ´ È ¢ È ´ È ¢ È: в нем трехчленный ритм, напоминающий ритм 6-ст. ямба с дактилической цезурой, и совсем нет цезуры (по началу намечаются устойчивые словоразделы после каждого 4-го слога, подчеркивающие трехчленность ритма, но потом они не выдерживаются). В 6-ст. ямбе, как мы видели по стихотворению № 91, такие ритмы еще могли сочетаться в одном тексте; в 6-ст. хорее это уже невозможно, двучленный цезурованный и трехчленный бесцезурный 6-ст. хорей сосуществуют не смешиваясь.
Семантическая окраска этих двух разновидностей одного размера очень различна: цезурованный 6-ст. хорей напоминает о поэзии второй половины XIX в. («У бурмистра Власа бабушка Ненила...»), бесцезурный 6-ст. хорей напоминает о народных песнях, как протяжных, так и плясовых («Ах ты сукин сын, комаринский мужик...»). Северянин подчеркивает эту плясовую легкость тонкой проработкой фоники (стараясь, чтобы между гласными стояло только по одному согласному). Озаглавлено его стихотворение музыкальным термином «ноктюрн»; в 1-й строке упомянута флейта-свистулька – окарина.
ПЕОНИЧЕСКИЕ РИТМЫ: I, II, IV
№ 96
I:
* * *
Ирисы печальные, задумчивые, бледные,
Сказки полусонные неведомой страны!
Слышите ль дыхание ликующе-победное
Снова возвратившейся, неснившейся весны?
Слышите ль рыдания снежинок, голубеющих
Под лучами знойными в бездонной высоте?
Дидите ль сверкание небес, мечту лелеющих
Вечною мелодией о вечной красоте?
Нет! вы, утомленные, поникли – и не знаете,
Как звенит – алмазами пронизанная даль...
Только скорбь неясную вы тихо вызываете.
Только непонятную, стыдливую печаль.
И, намеки робкие, предчувствия безбрежные,
Сами ли не знаете, куда зовете вы...
Ирисы печальные, задумчивые, нежные.
Вы поникли, трепетные. Вы уже мертвы.- Н. Львова, [1912]
№ 97
II:
От полюса до полюса
От полюса до полюса я Землю обошел,
Я плыл путями водными, и счастья не нашел.
Я шел один пустынями, я шел во тьме лесов,
Я всюду слышал возгласы мятежных голосов.
И думал я, и проклял я бездушие морей,
И к людям шел, и прочь от них в простор бежал скорей.
Где люди, там поруганы виденья высших грез,
Там тление, скрипение назойливых колес.
О, где ж они, далекие невинности года,
Когда светила сказочно вечерняя звезда?
Ослепли взоры жадные, одно горит светло:
От полюса до полюса – в лохмотьях счастья Зло.
- К. Бальмонт, 1901/1902
№ 98
IV:
Из-за чего? Из-за кого?
Из-за чего, из-за кого в солдаты взяты
Все милоюноши в расцвете вешних лет?
Из-за чего, из-за кого все нивы смяты
И поразвеян нежных яблонь белоцвет?
Из-за чего, из-за кого взят я в солдаты,
Я, ваш изысканный, изнеженный поэт?
И люди ль – люди? Ах, не люди – кровопийцы.
Все человечество потоками льет кровь.
Все англичане, все французы, все бельгийцы
Все в исступлении восстали за любовь!
И только гению в солдаты не годится,
Уже отдавшему всю жизнь свою за новь!..
.
Я болен сердцем и душой невыразимо,
И слабосилен, и бескровен, как аскет.
Не с вами я, и ваша жизнь проходит мимо,
И оттого, что я не ваш, я – ваш поэт.
Но мною жизнь – не ваша жизнь! моя! любима,
А в ней – вас очаровывать секрет.- И. Северянин, 1915
В предыдущем параграфе мы видели, как своеобразно выглядела метрическая схема бесцезурного 6-ст. хорея с трехчленным ритмом: так, как будто она состояла не из 6 однородных стоп, а из 3 однородных двустопий, каждое с обязательным ударением на одной и необязательным ударением на другой стопе: ´ È ¢ È. Такие однородные двустопия (по-гр. «диподии») называются пеонами I, II, III и IV – в зависимости от того, на который слог приходится ударение. Хорей может звучать ритмами I пеона (¢ È ´ È: «Ирисы печальные...» – 7-ст. хорей) и III пеона (´ È ¢ È: «Навевали смуть былого...» – 6-ст. хорей), ямб – ритмами II пеона (È ¢ È ´: «От полюса до полюса...» – 7-ст. ямб) и IV пеона (È ´ È ¢: «Из-за чего, из-за кого...» – 6-ст. ямб; ср. звучание других его ритмов в № 90—93).
Некоторые стиховеды считают пеоны даже не двустопиями, а цельными стопами и предлагают называть «Ирисы печальные, задумчивые, бледные...» 4-стопным пеоном I, «От полюса до полюса я землю обошёл...» – 4-ст. пеоном II, «Навевали смуть былого окарины...» (№ 95) – 3-ст. пеоном III, а «Из-за чего, из-за кого в солдаты взяты...» – 3-ст. пеоном IV, но это не общепринято. Для русских ямбов и хореев вообще характерна тенденция к чередованию частоударных и редкоударных стоп от конца к началу стиха, когда этому не мешает цезура (вторичный ритм, «закон регрессивной акцентной диссимиляции»); ср. такие ритмы, как у Пушкина в 4-ст. хорее «Невидимкою луна...», в 4-ст. ямбе «Адмиралтейская игла...», в 5-ст. ямбе «И летопись окончена моя..». Пеонический ритм лишь доводит эту тенденцию до предела.
В. Ходасевич в книге «Некрополь» вспоминает: Брюсов «радовался, когда открыл, что в русской литературе нет стихотворения, написанного чистым пеоном первым! И как простодушно огорчился, когда я сказал, что у меня есть такое стихотворение и было напечатано, только не вошло в мои сборники. „Почему же не вошло?” – спросил он. – „Плохо”, – отвечал я. – „Но ведь это был бы единственный пример в истории русской литературы!”». Оба были неправы: Бальмонт написал такое стихотворение («Придорожные травы») еще в 1900 г.
РИТМИКА ТРЕХСЛОЖНЫХ РАЗМЕРОВ
№ 99
Мороженое из сирени!
– Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Полпорции десять копеек, четыре копейки буше.
Сударышни, судари, надо ль? – не дорого – можно без прений...
Поешь деликатного, площадь: придется товар по душе!
Я сливочного не имею, фисташковое все распродал...
Ах, граждане, да неужели вы требуете крем-брюле?
Пора популярить изыски, утончиться вкусам народа,
На улицу специи кухонь, огимнив эксцесс в вирелэ!
Сирень – сладострастья эмблема. В лилово-изнеженном крене
Зальдись, водопадное сердце, в душистый и сладкий пушок...
Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!
Эй, мальчик со сбитнем, попробуй! Ей-богу, похвалишь, дружок!- И. Северянин, 1912
№ 100
Тетрадь
Вот – вдоль исписана книгами, черный
Свод стенограмм (лейбниц-глифы), тетрадь
Лет, с пультов школьных до вольных, как жернов,
Полночей: в памяти старая рать!
…Сутра с утра; мантра днем; день молчаний;
В мантии майи мир скрыт ли, где скит? –
...Сутки в седле! перьев сорок в колчане!
Вскачь за добычей! тебе степи, скиф!
...Babel und bibel; бог, змий, прародитель;
Дюжина, семь, шестьдесят, – счет Халдей. –
...Но – в белый мрамор вязь роз Афродите,
В триметры драм бред победных Медей!
...Тоги; дороги, что меч; влечь под иго
Всех; в речи медь; метить все: А и В. –
..Тут же суд: путь в катакомбы; владыки
Душ; плач; о ком бы? плач, Рим, по тебе!
...Замок, забрало, железо, лязг копий;
Трель трубадура к окну; муж и честь. –
...Брат ли Кабраль кораблю? индских копей
Золото фландрский банкир тщится счесть...
...Дальше!.. Вопли толп; радио с небоскреба...
Дальше!.. Жизнь воль; Марс в союз; враг с планет. –
И... Вновь у башни троянской (из гроба!)
Старцев спор, выдать Елену иль нет. –
Круг всех веков, где дикарь в Übermensch’e;
Все, все – во мне! рать сдержать сил не трать!
Бей в пулемет, нынь! рядов не уменьшить!
В ширь, в высь растут лейбниц-глифы, тетрадь!- В. Брюсов, 1923
Первое стихотворение написано 6-ст. амфибрахием с цезурой после 3-й стопы (звучит как сдвоенный 3-стопник); содержание его – призыв популяризировать «изыски» новейшей поэзии (буше – глоток; вирелэ – средневековая французская лирическая песня сложного строения). Второе стихотворение написано 4-ст. дактилем; содержание его – обзор мировой истории, которая вся вмещается в сознание одного человека (по двустишиям перечисляются приметы эпох: Индия, скифы, Вавилон и Библия, Греция, Рим, раннее христианство, средневековье, великие открытия, современность (нынь), грядущее и опять гомеровская Греция; лейбниц-глифы – универсальное письмо, каким Лейбниц в XVII в. предлагал записывать не звуки, а идеи; Übermensch – «сверхчеловек» грядущего времени).
В трехсложных размерах (дактиле, анапесте, амфибрахии) пропуски ударений обычно встречаются редко и разнообразие ритма достигается преимущественно игрой словоразделов (ср. № 97—98) и сверхсхемными ударениями на слабых позициях. Эти два стихотворения пытаются разнообразить ритм более энергично: Северянин – пропусками ударений, дающими изысканные междуударные интервалы («Морóженое из сирéни!..»), Брюсов, наоборот, изобилием сверхсхемных тяжелых ударений, дающих нарочито затрудненный, спотыкающийся ритм. В северянинском стихотворении в 12 строчках пропущено 8 схемных ударений (где?), в брюсовском – в 28 строчках добавлено 38 сверхсхемных ударений, а в одном месте к этому присоединяется пропуск ударения и перебой получается еще резче («радио с небоскреба»; впрочем, может быть, Брюсов произносил на французский лад «радиó»?). Такая склонность к затрудненному утяжеленному ритму была очень характерна для поздних экспериментов Брюсова; ср. № 87. Обратите внимание также на густую сеть аллитераций (даже внутренних рифм) и резкие переносы фраз со строки на строку – анжамбманы («черный / Свод...», «тетрадь / Лет...» и т.д.): они тоже усложняют восприятие стихотворений Брюсова.
СЛОВОРАЗДЕЛЫ
№ 101
* * *
Ветер с моря тучи гонит.
Роет отмель, с сушей споря;
Ветер дым до зыби клонит,
Дым в пространствах вольных моря.
Малых лодок реет стая.
Белым роем дали нежит.
В белой пене тихо тая.
Вал за валом отмель режет.- В. Брюсов, 1900
№ 102
После грез
Я весь день, все вчера проблуждал по стране моих снов;
Как больной мотылек, я висел на стеблях у цветов;
Как звезда в вышине, я сиял, я лежал на волне;
Этот мир моих снов с ветерком целовал в полусне.
Нынче я целый день все дрожу, как больной мотылек.
Целый день от людей, как звезда в вышине, я далек,
И во всем, что кругом, и в лучах, и во тьме, и в огне,
Только сон, только сны без конца открываются мне...
- В. Брюсов, 1895
№ 103
Пэон и цезура
Покорствующий всем желаньям
Таинственной владеет силой:
Цезура говорит молчаньем –
Пэон не прекословит милой...
Но ласк нетерпеливо просит
Подруга – и в сознанье власти
Он медленно главу возносит,
Растягивая звенья страсти.- В. Ходасевич, 1916
Первое из этих стихотворений написано 4-ст. хореем, второе – 5-ст. анапестом. Их ритм очень четок: как будто каждая стопа звучит выделенно. Это оттого, что почти все словоразделы (границы между словами) здесь совпадают с границами стоп: «Вéтер / с мóря / тýчи / гóнит», каждое слово – хореическая стопа; «Я весь дéнь, / все вчерá / проблуждáл / по странé / моих снóв», каждое слово – анапестическая стопа. Такие стихи – редкость: обычно поэты обращают главное внимание на ритм ударений, а в ритме словоразделов следуют естественным тенденциям языка, стараясь лишь, чтобы расположение их было не слишком однообразно и не делало стих монотонным. (Даже и здесь в концах строф первого стихотворения и в последней строке второго стихотворения Брюсов допустил отклонения от стопобойного ритма словоразделов; найдите их. Ср. также № 205, выдержанный еще строже.)
Вспомним известное пушкинское четверостишие, написанное таким же полноударным 4-ст. хореем, как и брюсовское «Ветер с моря...»:
«Всё мое», – сказало злато;
«Всё мое», – сказал булат.
«Всё куплю», – сказало злато;
«Всё возьму», – сказал булат.
Здесь расположение ударений – в точности такое, как у Брюсова, все строки полноударны, но расположение словоразделов – совсем иное: они не совпадают со стопоразделами, а, наоборот, разрезают почти каждую стопу посередине: «Всё / мо,ё / ска,зáл / бу,лат». Если у Брюсова почти все словоразделы оказывались женские (после безударного слога: «Ветер / ...»), то у Пушкина – мужские (после ударного слога: «Всё / ...»). От этого брюсовское стихотворение звучит как бы спокойно и убаюкивающе, пушкинское – энергично и напористо. (Так ли это на ваш слух? Осмысления такого рода всегда отчасти субъективны.)
Третье стихотворение занимательнее. Заметим: в односложных междуударных промежутках (как в полноударных ямбе и хорее), понятным образом, возможны лишь два положения словораздела – мужской («Всё...») и женский («Вéтер...»); в двусложных междуударных промежутках (как в дактиле, амфибрахии, анапесте) – еще и дактилический («открывáются...»). А в трехсложных междуударных промежутках (как в ямбе и хорее с пропуском ударения)? Здесь возможны целых четыре вида словораздела, все они представлены в стихотворении Ходасевича, и заметьте, как они в нем расположены. Мужской словораздел (М): «Пэон...», «Но ласк...»; женский (Ж): «Цезура...», «Подруга...»; дактилический (Д): «Таинственной...», «Он медленно...»; гипердактилический (Г): «Покорствующий...», «Растягивая...». Первое четверостишие начинается гипердактилическим словоразделом и кончается мужским, второе начинается мужским и кончается гипердактилическим, и последовательность словоразделов одного четверостишия зеркально повторяется в другом: Г,Д,Ж,М – М,Ж,Д,Г. Эта игра словоразделов особенно заметна оттого, что трехсложный междуударный промежуток, в котором она развертывается, образован пропуском ударения на II стопе 4-ст. ямба, который, как мы знаем, редок (№ 86), и этим уже привлекает к себе внимание.
В заглавии стихотворения Ходасевича – два стиховедческих термина, и оба в устарелых, ныне неупотребительных значениях. «Пэон» (старое, манерное написание слова «пеон», № 96—98) означает здесь не что иное, как пропуск ударения: по одной из тогдашних теорий стихосложения, 4-ст. ямб был не чем иным, как дважды повторенным «пеоном IV» («Мой тайный сáд, / мой тихий сáд»), а пропуск обязательного (будто бы) ударения на II стопе представлялся как подмена «пеона IV» «пеоном II» («Кладбищенский / убогий сáд»); вот этот пеон II и имеется в виду в заглавии. А «цезурой» в нем назван просто словораздел: по одной из тогдашних терминологий всякий словораздел назывался «цезурой» («разрезом»), а постоянный словораздел (тот, который мы называем цезурой, № 78—79) – «большой цезурой». Зная это, легче понять основной смысл стихотворения: «словораздел хочет быть незаметным – и он незаметен; а когда он хочет быть заметным, то пропуск ударения на II стопе выставляет его напоказ». Но «пэон» – слово мужского рода, а «цезура» – женского; олицетворение их позволяет создать эротическую картину, и это – второй смысл стихотворения, соответствии с этой картиной начальное слово стиха в первом четверостишии от первого к последнему стиху как бы съеживается, а во втором «растягивается» (благодаря вышеописанной игре словоразделов), и это – третий смысл стихотворения. Поэтому Ходасевич дал своему заглавию подзаголовок «Трилистник смыслов» (намек на книгу Ин. Анненского «Кипарисовый ларец», в которой стихи были сгруппированы по три в «трилистники», и в «Трилистнике шуточном» имелось стихотворение под заглавием «Пэон второй – пэон четвертый»). Но при жизни он его не печатал.
ПЕРЕБОИ РИТМА
№ 104
Каменная баба
Б.Н. Бугаеву
В степи седеющий курган
Ты издали заметишь темный,
На нем – горбатый истукан,
Он серожелтый и огромный. <...>
Ты издали к нему взирай,
В гигантскую обрубка муку.
Поднимет на печальный край
Он неослабнувшую руку; <...>
Он разобьет, загрохотав,
Твои лукавые реченья
И опрокинет в зыби трав
Жизни отвергнутой мгновенья.
Встречай же жизнь! остановись
Перед восторженным полетом!
Разверзнет трепетная высь
Облак – пустеющим киотом.
Следи, прикованный к земле,
Как он несется величавый
И тонет в тучи ярой мгле,
В блистаниях закатной славы, –
Мгновенный сон! земной обман!
И не было его нелепей! –
И на кургане истукан
Сурово озирает степи.- С. Бобров, ок. 1910
№ 105
Мóлодец
(Из поэмы)
– Эй, звоночки, звончей вдарим!
Наша новая дуга!
Молод барин, холост барин,
Стар у барина слуга.
– Эй, дружочки, скорей будем!
Да на все наши снега!
Буен барин, бубен-барин,
Хмур у барина слуга.
Эй, кони мои –
Вы сони мои
Нахлёстанныи –
Эй, версты мои!
Верста слева, верста справа.
Верста в брови, верста в тыл.
Тому песня, тому слава.
Кто дорогу породил.
Уж не Сидор я, не Павел,
В плечах – удаль, в ушах – гул.
...В глазах – столб рябой поставил,
В снегах – вёрсту протянул.
Эй вы, кони мои –
Сони мои
Собственныи!
Нахлёстанныи!
Эй, версты мои!
Втору сотню загребаем.
Пляши, сбруя, гуляй, кнут!
– Глянь-кось, барин, встань-кось, барин,
Чем снега-белы цветут!
Где версты сошлись
(Все – кровь, одна ввысь), –
Цвет, цвет румянист
Горит, уголь-чист! <...>
- М. Цветаева, 1922
Первое из этих стихотворений (с посвящением А. Белому и имитацией его стиля) – тщетное обращение к поэту не отвергать, а принимать жизнь, несущуюся перед ним, как «облак» (архаизм) пред каменным истуканом в степи. Оба ключевых слова, прямое и метафорическое, выделены ритмически тем, что стоят в начале строк «Жизни отвергнутой мгновенья» и «Облак – пустующим киотом». Обе строки очень резко выбиваются из традиционного ритма 4-ст. ямба, хоть мы и видели, как богаты его ритмические возможности (№ 85—87). Почему?
В обеих строках начальное ударение сдвинуто с сильного 2-го слога строки на слабый 1-й. Но важно не это. Вспомним правило заполнения слабых мест стиха сверхсхемными ударениями (с. 85; ср. вызываемые им ритмические ожидания, описанные на с. 10). На слабые места могут приходиться или безударные слоги (чаще всего), или ударные слоги односложных слогов (реже: «Бой барабанный, клики, скрежет»), но никак не ударные слоги неодносложных слов. А у нас в обоих случаях на начальное слабое место приходятся именно ударные слоги двусложных слов: «Жизни..., «Облак...». В русском классическом ямбе такие перебои ритма воспринимаются или как сильное выразительное выделение, «ритмический курсив» (этого и хотел Бобров), или как простая неправильность. У Радищева в оде «Вольность», написанной нарочито тяжелым стихом, в одном месте допущен такой перебой: «право природы» обращается к тирану:
«Преступник власти, мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел?»
– и характерно, что в некоторых рукописях переписчики «исправляли ошибку» поэта: «Вещай, злодей, мной увенчанный»; в таком виде – с односложным ударным словом на слабом месте – стих беспрепятственно укладывался в традиционный ямб (ср. № 87).
В чем причина этой разницы между ударениями односложных и многосложных слов? В том, что русский стих учитывает ударение не просто как звуковое явление (фонетически), а как звуковое мыслоразличительное (фонологически). В двусложных и многосложных словах ударения смыслоразличительны: «мнóю» – обычное русское слово, «мною'» – бессмысленное звукосочетание. В односложных же словах ударения не смыслоразличительны: слово «мной» всегда остается само собой. Для слуха (фонетически) «мной увенчанный» и «мною венчанный» звучат совершенно одинаково – это может быть подтверждено звукозаписью. А для сознания нашего (фонологически) они звучат по-разному, потому что мы не слышим, но знаем, где пролегает граница между словами, и в зависимости от этого одно словосочетание допускаем в ямб, а другое – нет. Таким образом, разницу между сильными и слабыми местами в ямбе и хорее можно сформулировать еще короче, чем мы это делали: сильные места – это те, на которых допускается смыслоразличительное (фонологическое) ударение, слабые – те, на которых оно не допускается.
Подчеркиваем: это правило относится только к русскому классическому ямбу. В немецком ямбе такие зачины строк, как «Жизни отвергнутой мгновенья», – не редкость, а в английском и вовсе обычны.
Если в ямбе сдвиги ударений, дающие перебой ритма, приходится отыскивать с великим трудом, то в хорее встретить их гораздо легче и воспринимаются они естественнее. В приводимом отрывке из поэмы М. Цветаевой «Молодец» (в красный цветок среди снегов оказывается обращена девица, героиня поэмы, и т.д.) перебоев типа «звончей вдарим», «наши снега», «верста слева» оказывается не менее 16 на пять четверостиший (найдите их) – припевы, написанные другим размером, конечно, не в счет (см. № 173). Воспринимаются они как имитация ритма народного стиха (вся поэма Цветаевой выдержана в нарочитом народном стиле), например, в частушках:
Как во городе в трактире
Мы с милашкой чаек пили.
За стеклянными дверями
Чаек пили с сухарями.
Почему в хорее перебои ритма звучат легче? Вспомним то, что мы знаем о ритме хорея: он более четок, чем ритм ямба, в нем преобладает альтернирующий тип, звучащий «III пеоном», в котором ударения на 3-м и 7-м слогах постоянны и стопроцентно предсказуемы. Перед этой обязательной ударностью 3-го слога каждого 4-сложия как бы смягчается разница между сильным 1-м и слабыми 2-м и 4-м слогами; наряду с правильными 4-сложиями «Буен бáрин...» или «Уж не Сидор...» становятся возможны и «неправильные», с перебоями, 4-сложия «звончей вдáрим» или «Да на всé на(ши)...»: рядом с ударной константой эти сдвинутые ударения приглушаются. Заметим, что сдвигов ударения с константных 3-го и 7-го слогов у Цветаевой нигде нет: попробуем вообразить себе стих «В снегах – вёрсту протянул» со сдвигом «В снегах верстý протянул», и мы сразу почувствуем, что такой перебой выпадет из цветаевского ритма.
Обратим попутно внимание на одну спрятанную рифму: в первой строфе конечное слово 1-й строки «вдарим» естественно рифмуется с конечным же словом 3-й строки «барин», тогда как во втор конечное слово 1-й строки «будем» неожиданно рифмуется не с конечным 3-й строки «барин», а с предыдущим «бубен». Заметили ли вы это при первом чтении?
IV. СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ МЕТРИКА
СВЕРХДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ С ЦЕЗУРАМИ, ВНУТРЕННИЕ РИФМЫ
№ 106
Встреча
Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра,
Ты давно меня любила, как Озириса Изида, друг, царица и сестра!
И клонила пирамида тень на наши вечера.
Вспомни тайну первой встречи, день, когда во храме пляски увлекли нас в темный круг,
Час, когда погасли свечи, и когда, как в странной сказке, каждый каждому был друг,
Наши речи, наши ласки, счастье, вспыхнувшее вдруг!
Разве ты, в сияньи бала, легкий стан склонив мне в руки, через завесу времен,
Не расслышала кимвала, не постигла гимнов звуки и толпы ответный стон?
Не сказала, что разлуки – кончен, кончен долгий сон!
Наше счастье – прежде было, наша страсть – воспоминанье, наша жизнь – не в первый раз,
И, за временной могилой, неугасшие желанья с прежней силой дышат в нас,
Как близ Нила, в час свиданья, в роковой и краткий час!В. Брюсов, 1907
№ 107
И ты шел с женщиной
И ты шел с женщиной, – не отрекись. Я все заметила, – не говори.
Блондинка. Хрупкая. Ее костюм был черный. Английский. На голове –
Сквозная фетэрка. В левкоях вся. И в померанцевых лучах зари
Вы шли печальные. Как я! Как я! Журчали ландыши в сырой траве.
Не испугалась я, – я поняла: она – мгновение, а вечность – я.
И улыбнулась я, под плач цветов, такая светлая. Избыток сил
В душе почувствовав, я скрылась в глубь. Весь вечер пела я.
Была – дитя.
Да, ты шел с женщиной. И только ей ты неумышленно взор ослезил.
И. Северянин, 1912
Средняя длина речевого такта (кóлона) в обычной прозе, по существующим подсчетам, – 8±1 слогов. Соответственно этим слуховым привычкам и стихи такого объема ощущаются как средние, «нормальные»: таковы 4-ст. ямб и хорей, 3-ст. дактиль, амфибрахий и анапест. Стихи меньшей стопности ощущаются как короткие, большей стопности – как длинные. Практически употребительны ямб и хорей не длиннее 6 стоп, а дактиль, амфибрахий и анапест не длиннее 5 стоп. Да и то, как мы видели (№ 90—95), 6-ст. хореи часто, а. 6-ст. ямбы почти всегда употребляются с цезурой, разделяющей стих на полустишия и позволяющей воспринимать его облегченно – в два приема.
Стихи длиннее употребительного объема воспринимаются как сверхдлинные, применяются редко и почти всегда с цезурами: иначе слуху почти невозможно за ними уследить. Если мало одной цезуры, то вводятся две (и делят стих не на два полустишия, а на три «третьестишия»). Цезуры могут быть подчеркнуты наращениями, усечениями слогов (№ 82) и внутренними рифмами.
Стихотворение Брюсова (тема его – «прапамять», воспоминание о своем «прежнем существовании» в Древнем Египте) написано трехстишиями 12-, 12- и 8-ст. хорея; но на каждой 4-й стопе стоит ударная константа, а после нее – цезура, и благодаря этому громоздкое трехстишие легко воспринимается как последовательность трех, трех и двух 4-стопников. (Ср. № 96—98: на какой «пеон» похож этот ритм?) Цезуры подчеркнуты внутренними рифмами. Что главное в членении стиха – не рифмы, а именно цезуры, видно из того, что в третьем, укороченном стихе присутствуют все три рифмы предыдущих стихов («И клонила пирамида / тень на наши вечера», «Наши речи, наши ласки, / счастье, вспыхнувшее вдруг» и т.д.), но первая из них почти ускользает от внимания, потому что не находится в конце 4-стопного члена.
Стихотворение Северянина членится еще сложнее. Оно написано 10-ст. ямбом; мужская цезура (/ /) делит стих на два 5-стопных полустишия; а дактилическая цезура после 6-го слога (/) делит каждое полустишие на два «четвертьстишия», из которых первое может восприниматься как 2-ст. ямб с дактилическим, а второе как 2-ст. ямб с мужским окончанием: «И ты шел с женщиной, – / не отрекись. / / Я все заметила, – / не говори...» [Ср. эти 5-стопные полустишия с 5-ст. ямбом в № 79, с цезурой на том же месте; в каком цезура звучит отчетливее и почему? Ср. также то, что было сказано о 6-ст. ямбе Н. Крандиевской (№ 93).]
Иногда говорят, будто сверхдлинные стихи – это только графическая условность, а реально первое из наших стихотворений представляет собой вереницу 4-ст. хореев, а второе – вереницу то ли II 5-ст., то ли 2-ст. ямбов. Это не так. Попробуйте переписать оба стихотворения короткими строчками – они будут звучать отрывистее и однообразнее. Это потому, что тогда все обязательные словоразделы в них придутся на стихоразделы и будут ощущаться равными по силе. В настоящем же виде в стихотворении Брюсова легко различаются словоразделы первой степени (в конце стиха) и второй степени (на цезуре), а в стихотворении Северянина еще и третьей степени (на цезуре внутри полустиший). Вот это ощущение иерархии обязательных словоразделов и является спецификой сверхдлинных стихов. (Попробуйте прочитать стихотворение Северянина не так, как размечено выше, а с иной иерархией цезур: «И ты шел с женщиной, – / / не отрекись, / я все заметила, – / / не говори...» Какое чтение кажется более естественным и почему?)
СВЕРХДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ БЕСЦЕЗУРНЫЕ
№ 108
По санному пути
По санному пути так хорошо скользить в поля!
Вокруг покоятся в сугробах ранние морозы.
В золоте заката спят пустынные березы.
И веет ветер, зябнущие щеки шевеля.
И на щеках твоих горят приветливые розы...
По санному пути так хорошо скользить в поля!
И счастья не найти милей, чем зимнее блужданье.
Вдвоем, по дымчато седым, безлюдным берегам, –
Там колокольчиком баюкать снежное молчанье,
Пока не станет холодно укутанным ногам,
И возвращаясь в городок – в тревогу и сиянье, –
Забыть, как тени облаков скользили по снегам!- Я. Годин, [1913]
№ 109
Из цикла «Алтарь страсти»
Истинное сладострастие – самодержавно,
Как искусство, как религия, как тайный смысл
Вечного стремленья к истине, единой, главной,
Опирающейся в глубине на правду числ.
Сладострастие не признает ни в чем раздела.
Ни любовь, ни сострадание, ни красота,
Не должно ничто соперничать с порывом тела:
В нем одном на миг – вся глубина, вся высота!
Дивное многообразие жрецу открыто,
Если чувства все сумеет он перебороть;
Свят от вечности алтарь страстей, и Афродита
Божеским названием святит поныне плоть. <...>- В. Брюсов, 1918
Первое из этих стихотворений написано 7-ст. ямбом. Почти одновременно тем же редким размером и похожей редкой строфой написал стихотворение В. Пяст: совпадение, показавшееся современникам знаменательным:
Я помню темный сад и тихий шепот у забора...
В вечерний час, когда погас последний отблеск дня,
С тобой вдвоем вошли мы в глубь таинственного бора,
Что перед нами встал стеной, пугая и маня...
И ты шепнула мне слова стыдливого укора...
Затем я помню сад и тихий шепот у забора...
Второе стихотворение написано 7-ст. хореем. Обычно 7-ст. ямб и 7-ст. хорей если и употреблялись, то с цезурой, дробившей стих на 4+3 стопы и тем облегчавшей их восприятие: «Стояла серая скала / на берегу морском...» (7-ст. ямб Лермонтова), «Не буди воспоминаний. / Не волнуй меня...» (7-ст. хорей Бальмонта). Здесь эти размеры употреблены без цезуры, и от этого стих ощущается особенно длинным. (В первом примере от этой удлиненности он кажется как бы скользящим, во втором – как бы громоздким и важным; возможны и другие осмысления.) Слух, не имея возможности опереться на дополнительные ударные константы, как в сверхдлинных цезурованных размерах и как в «пеонах» (см. № 96—98), сбивается со счета стоп; если в такое стихотворение вставить 6-стопную или 8-стопную строчку, заметить это будет трудно (ср. вольные многостопные размеры, № 118—121).
Любопытно, что во втором стихотворении на самом деле даже имеется цезура – постоянный словораздел после 9-го слога (проверьте!), но она совершенно не ощущается, во-первых, потому, что проходит внутри стопы, а не между стоп, как обычно, и, во-вторых, потому что не сопровождается ударной константой. Сравните звучание «Алтаря страсти» со звучанием брюсовской же поэмы «Конь блед», написанной тоже 7-ст. хореем, но совсем без цезуры; заметите ли вы разницу?
Улица была – как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.
Вывески, вертясь, сверкали переменным оком
С неба, с страшной высоты тридцатых этажей;
В гордый гимн сливались с рокотом колес и скоком
Выкрики газетчиков и щелканье бичей.
Лили свет безжалостный прикованные луны,
Луны, сотворенные владыками естеств.
В этом свете, в этом гуле – души были юны,
Души опьяневших, пьяных городом существ... <...>
СВЕРХКОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ
№ 110
Н.Н. Пушкина
С рожденья предал
Меня Господь:
Души мне не дал,
А только плоть.
Певец влюбленный
Сошел ко мне
И опаленный
Упал в огне. | |
В земле мы оба,
Но до сих пор
Враги у гроба
Заводят спор.
Ответ во многом
Я дам не им,
А перед Богом
И перед ним.- Б. Садовской, [1927]
|
№ 111
Тема предчувствий
Зигзаги
Волны
Отваги
Полны,И саги
Луны
Во влаге
Слышны
Запрета
В искусстве
Мне нет.
И это
Предчувствий
Сонет.
- В. Брюсов, 1894
№ 112
Похороны
Лоб –
Мел.
Бел
Гроб.Спел
Поп.
Сноп
стрел –
День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень –
В ад!
- В. Ходасевич, 1928
Первое из этих стихотворений написано 2-ст. ямбом – уже этот размер ощущается как непривычно короткий. Второе стихотворение написано 1-ст. ямбом (или 1-ст. амфибрахием: в таких коротких строках, где не успевает возникнуть повторяющееся чередование сильных и слабых мест, различить эти размеры невозможно). Третье стихотворение состоит только из односложных слов (здесь тем более невозможно сказать, есть ли это 1-ст. хорей, или 1-ст. дактиль со сплошными мужскими окончаниями, или «односложная стопа», о которой речь ниже – № 122—123). Второе и третье стихотворения написаны в форме сонета (ср. № 211—215; к какому типу «правильного» сонета принадлежит одно из них?). Такие «односложные сонеты» писались в качестве стихового фокуса едва ли не на всех европейских языках; на русском, кроме этого, известен опыт И. Сельвинского (в книге «Студия стиха»): «Дол сед. Шел дед. След вел – брел вслед. Вдруг лук ввысь: трах! Рысь – в прах».
РАЗНОСТОПНЫЕ УРЕГУЛИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ
№ 113
* * *
Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик
И пулеметчик низколобый, –
– Керенского распять! – потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!
И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
Вязать его, щенка Петрова!
Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.
И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые –
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.- О. Мандельштам, 1917
№ 114
* * *
Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.
Но северные скальды грубы:
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.
Им только снится воздух юга –
Чужого неба волшебство –
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.- О. Мандельштам, 1917
Стихотворение не должно непременно состоять из строчек одинаковой длины. В нем могут сочетаться строки более длинные и короткие. Если они сочетаются в урегулированном, предсказуемом порядке, то их обычно называют разностопными урегулированными (или просто разностопными); если беспорядочно и непредсказуемо, то вольными стихами. И тот и другой тип имеют свою специфическую выразительность.
В разностопных стихах обычно более длинные строки занимают первое место в строфе или полустрофии, а короткие следуют за ними («допевки», «эподы» назывались они в греческой поэзии). Исключения редки, о них см. № 175—176. В русской поэзии наиболее употребительны были чередования 4-ст. и 3-ст. ямбов (Жуковский, «Певец во стане русских воинов»: «На поле бранном тишина, / Огни шатрами...») или 6-ст. и 4-ст. ямбов (Лермонтов, «Не верь себе»: «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой, / Как язвы, бойся вдохновенья...»). Последнее сочетание восходит к античности, когда им писались стихотворения гневные, бичующие, обличительные; их часто называли просто «ямбы» (здесь «ямбы» – название жанра, а не стихотворного метра!). Такими «ямбами» встретил когда-то Андре Шенье террор Французской революции, такими «ямбами» откликнулся на Октябрьскую революцию О. Мандельштам, возлагавший было большие надежды на правительство Керенского (первое стихотворение посвящено но памяти Ф. Линде, фронтового комиссара Керенского; он послужил прототипом Гинце из «Доктора Живаго»).
Если в первом из приведенных стихотворений последовательность стопностей ямба во всех строфах была одинакова: 6—4—6—4, то во втором она расшатана: 6—4—5—4, 6—4—5—4, 4—4—4—4, 4—4—5—4. Чередование длинных и коротких строк – нечетные длинные, четные короткие – здесь выдерживается, ни одна нечетная строка не длиннее четной. Поэтому общее впечатление от строфики этого стихотворения такое же, как от строфики предыдущего, хотя и более расплывчатое. Резким метрическим пятном выделяется лишь третья строфа из ровных 4-ст. ямбов. Это соответствует ее смысловой кульминационной роли: до нее «север» изображался в стихотворении привлекательными красками («холодный», «чистый», «серебряный», «светлый»), в ней этому противопоставляются отрицательные черты (северные мужи – грубы, безрадостны, любят пожары), а после нее – вывод, отрицательные черты перевешивают, «подруга» отвергает северное вино.
Такие расшатанные разностопные размеры – это уже переходный шаг к вольным разностопным размерам. Рубеж между ними определить порой очень трудно.
ВОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА
№ 115
Дубасов и Свечка
Придя к Дубасову, копеечная СвечкаС ним о заслугах стала толковать
- И утверждать,
Что он пред ней – смиренная овечка.
«Превосходительный, судите сами вы, –- Так Свечка говорила, –
Сожгли вы только треть Москвы,
А я так всю Москву спалила».- П. Потемкин, 1905
№ 116
Вячеславу Иванову
Откликнись, друг! Услышать жаден я
И уж заранее невольно торжествую
Пред тем, как воспоет годину боевую
- Душа звучащая твоя.
Мне памятны ее живые звуки
Во дни недавние бесстрашия и муки
- Родных полунощных полков;
И ныне ли, когда их жребий не таков,
Когда венчает их величием победы
Судьба-звезда, какой не ведали и деды,Не вырвется из пламенных оков
- Всерасторгающее слово?
Под обаянием великого былого
Я верю: на Руси не надобен певец
На вызов славных дел; но сладок он для славы
И нам в биении созвучном всех сердец,
И братьям-воинам, когда вернутся, здравы,- На лоно мира, наконец.
- Ю. Верховский,1915
№ 117
Завещание
Моей наследницею полноправной будь,
Живи в моем дому, пой песнь, что я сложила.
Как медленно еще скудеет сила.
Как хочет воздуха замученная грудь.
Моих друзей любовь, врагов моих вражду
И розы желтые в моем густом саду,
И нежность жгучую любовника – все это
Я отдаю тебе, предвестница рассвета.
И славу, то, зачем я родилась.
Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась
И падает теперь. Смотри, ее паденье
Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.
Мое наследство щедрое храня,
Ты проживешь и долго и достойно.
Все это будет так. Ты видишь, я спокойна,
Счастливой будь, но помни про меня.- А. Ахматова, 1914
Вольные (т.е. разностопные неурегулированные) размеры в русской классической поэзии XVIII—XIX вв. употреблялись, за редкими исключениями, только в одном метре – в ямбе. «Вольный стих» практически значил «вольный ямб». (Не путать со свободным стихом, о котором шла речь выше, – № 2, 3!) При этом ямбические строчки употреблялись не длиннее 6-ст.; 6-ст. всегда имели цезуру – точь-в-точь как при самостоятельном употреблении. В этом вольном ямбе различались два направления разработки: «по контрасту» и «по подобию».
«По контрасту» – это значит, что неравностопность строк всячески подчеркивалась: длинные и короткие становились рядом, более короткие отодвигались отступами от левого поля. Самые яркие контрастные формы вольного ямба (с колебанием длины строк от 6 до одной стопы) употреблялись в баснях (у Крылова) и в наиболее «суетливых местах» стихотворных комедий (например, в речах Репетилова в «Горе от ума» Грибоедова). Менее яркие – с колебанием длины строк от 6 до 4 стоп – употреблялись в элегиях и посланиях пушкинской поры («Погасло дневное светило...»). Традицию басен подхватывает П. Потемкин (генерал-губернатор Дубасов подавил московское восстание 1905 г.; копеечная Свечка – та, от которой, по пословице, в 1812 г. Москва сгорела), элегических посланий подхватывает Ю. Верховский. Обратите внимание на смысловую нагрузку выделяющихся у него 4-ст., самых коротких строк, а также на свободное переплетение рифм (составьте схему!), тоже характерное для пушкинской эпохи и потом фактически забытое.
«По подобию» – значит, наоборот; неравностопность строк всячески стушевывалась – длина строк колебалась в узких пределах, обычно 5—6 стоп, и печатались они по одной линии левого поля, как равностопные. Развились они в 1830-х годах, когда в русской поэзии (в частности, в драме) стал употребителен белый 5-ст. ямб (см. № 22); в нем постепенно стали допускаться удлиненные 6-ст, строчки (иногда как средство метрического выделения, иногда просто по небрежности); из белого стиха эта манера перешла в рифмованный и т.д. Примером раннего, драматического 5-6-стопника может служить пьеса Лермонтова «Испанцы» (там есть и 4-стопные, и 7-стопные строки!), примером позднего, лирического – известное стихотворение К. Случевского «Ты не гонись за рифмой своенравной / И за поэзией – нелепости оне...». В этой традиции написано и стихотворение А. Ахматовой. Стилистически как Верховский, так и Ахматова ориентируются на пушкинскую эпоху с ее образами, темами, интонациями. Но стиховые установки их противоположны: для Верховского важно, чтобы 5-ст. и 6-ст. ямбы в первом его двустишии звучали непохоже и неровно, а для Ахматовой – чтобы те же 6-ст. и 5-ст. ямбы в последнем ее двустишии звучали единообразно и плавно. Обратите внимание: в начальной строке стихотворения Ахматова нарушает традиционную цезуру 6-ст. ямба – как бы чтобы уподобить его 5-ст. ямбу, обычно цезуры не имеющему.
Оба стихотворения не входили в прижизненные сборники авторов.
ВОЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА
№ 118
Слезная жалоба
Он пришел до нас, червонный наш последний час.
Беспокоят очень насНемцы!
Пятеро убитых
Сытых!
Ночью встанут, станут в ряд.
Рыскать станут – сущий ад!
Рыщут, песенки свистят,
Бранью бранною костят
Всех.
Вас, нас!
Всю-то ночь в саду гостят,
Испоганили наш сад,
Садик.
Не поможет ваш солдатик.
Ваш веселый часовой.
Ой!
Ваша милость, повели
Немцев вырыть из земли.
А покамест пусть солдатик
Нас дозором веселит.
- Т. Чурилин, 1914
№ 119
Из цикла
«Колокольчики и колокола»
Слышишь: к свадьбе звон святой,
- Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
- И блестят.
Из волны певучих звуков на луну они глядят,Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов.
- К. Бальмонт, пер. из Э. По, 1895
№ 120
* * *
Средь снегов, дыша тоской и дымом,
В каменных лохмотьях, скроенных вчера,
Мы, туземцы опрокинутого Рима,
Ищем хлеба кус и место у костра.
Революция, трудны твои уставы.
Схиму новую познали мы:
Нищих духом роковую правду
И косноязычные псалмы.
Что ж ты, сердце, тщишься вызвать к жизни
Юные года в миру –
Средь огней Парижа голубых и сизых
Запах ландыша и пламя смуглых рук.
Флорентийских башен камень, теплый в полдень,
Розовый, как рощ окрест миндаль?
О, помедли, колесница Солнца,
Ибо в радости твоей печаль!
Но несутся огненные кони...
В эти скудные, томительные дни
Я благословляю смерть в родимом доме
И в руках пришельцев головни.
Есть величье в беге звезд и истин.
На восток великий караван идет.
И один отставший, вспомнив прежних рощ приют тенистый,
На минуту медлит, а потом идет вперед.- И. Эренбург, 1921
№ 121
* * *
Кому предам прозренья этой книги?
Мой век, среди растущих вод.
Земли уж близкой не увидит.
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы – не разноязычий сеть,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Другим концом он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссияет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь, –
Средь мишуры былой и слов убогих.
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.- И. Эренбург, 1921
Мы сказали, что в традиционном вольном стихе в русской поэзии XVIII—XIX вв. употреблялся только ямб. Исключения, конечно, были: например, пушкинская «Вакхическая песня» написана вольным амфибрахием (проверьте!). Но для начала XX в. более характерны эксперименты с вольным хореем: с них и начнем.
Первое, «покойницкое» стихотворение Тихона Чурилина построено по тому же принципу контраста, по которому в XIX в. строились басни. Большинство строк в стихотворении – обычный 4-ст. хорей, но они так искусно перебиваются 7-стопниками (1-я строка) % 3-стопниками (4-я строка), особенно же 1-стопниками (5 строк, укажите их сами) и даже одной строкой, выбивающейся из хорея («Вас, нас!»), что ощущение резкой нервной «вольности» присутствует все время.
Второе стихотворение при всей «вольности» гораздо плавнее. Это оттого, что в нем систематически выдержан ритм III пеона (см. № 95): все строки – четностопные (последовательность стопностей – 4, 2, 8, 4, 4, 2, 8, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8), слух как бы мерит их не стопами, а парами стоп (с постоянным ударением на второй стопе пары) и поэтому легче охватывает и соизмеряет.
Третье стихотворение не контрастно и не плавно, оно аморфно. Строки в нем разнообразнее по длине (сосчитайте в них сами последовательность стопностей) и неоднородны по ритму (к каким ритмическим типам принадлежат 6-стопные строки?). По аналогии с ним построено и четвертое стихотворение, написанное не хореем, а ямбом, но тем не менее звучащее непривычно: в нем есть строки длиннее 6 стоп (найдите их) и среди этих 6-стопных строчек больше бесцезурных, чем цезурованных (укажите их), – ср. № 92.
Эренбург был не единственный, кто пользовался вольными размерами такого рода: у Маяковского таким вольным хореем написаны, например, «Товарищу Нетте...» и «Сергею Есенину», а таким вольным ямбом – большая часть вступления в поэму «Во весь голос». Ср. второе четверостишие стихотворения Маяковского «Прощанье» (№ 9).
«ОДНОСЛОЖНЫЕ СТОПЫ»
№ 122
Возвращение вождя
Конь – хром.
Меч – ржав.
Кто – сей?
Вождь толп.
Шаг – час,
Вздох – век.
Взор – вниз.
Все – там.
| | Враг. – Друг.
Терн. – Лавр.
Все – сон...
– Он. – Конь.
Конь – хром.
Меч – ржав.
Плащ – стар.
Стан – прям.- М. Цветаева, 1921
|
№ 123
Поэту
Верь в звук слов:
Смысл тайн – в них, –
Тех дней зов,
Где взник стих. | | Дай снам власть.
Пусть вихрь бьет;
Взвей стяг – страсть:
Путь в даль – взлет!- А Брюсов, 1921
|
Традиционный запас силлабо-тонической метрики – два двусложных метра (ямб и хорей) и три трехсложных (дактиль, амфибрахий и анапест). Возможны ли в русской силлабо-тонике еще и другие метры? Мы видели, что были испробованы четырехсложные «стопы» – пеоны (№ 95—98); но они невольно распадались на двусложные, и ритм их звучал как разновидности ямбического и хореического ритма. Если испробовать шестисложные, то они таким же образом распадутся или на двусложные, или на трехсложные (в зависимости от положения сильного места в стопе); кроме того, они так длинны, что в стих не вошло бы больше двух таких стоп, а этого недостаточно для необходимого ощущения повторяемости. Остается испытать односложные и пятисложные стопы. Стих из односложных стоп вполне возможен: он будет представлять собой вереницу односложных слов с полновесными ударениями. «Одностопным» размером такого метра можно считать сонет, приведенный выше (№ 112); «двухстопным» – стихотворение Цветаевой (посвящено возвращению мужа поэтессы с гражданской войны); «трехстопным» – стихотворение Брюсова (с подзаголовком «гном», т.е. по-гр. «наставительное изречение»); «пятистопным» – стихотворение Вяч. Иванова, напечатанное ниже (№ 158), а «четырехстопным» – пародию на него (там же). Из примеров видно, что ритм их однообразен, а «вместить» они могут лишь малую часть русского словаря (около 6 %). Поэтому распространения они не получили.
«ПЯТИСЛОЖНЫЕ СТОПЫ»
№ 124
Прóклятая
Не кори меня,
Моя матушка,
Не терзай мое
Сердце девичье!
Знать, такой уж я
Уродилася,
Нераскаянной
Греховодницей.
Приголубь меня –
Твое детище.
На кровать мою
Сядь тесовую.
Разметалась я
По кровати всей. | | Тело белое
Пышет полымем.
Развились мои
Косы русые.
Расходилась грудь.
Как морская зыбь.
Никому меня
Не показывай:
Береги свое
Имя доброе.
Ты прости меня,
Приласкай меня!
Не кляни твое
Родно детище. <...>- С. Соловьев, [1910]
|
№ 125
Барханы
Безводные золотистые пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную неизведанную страну,
Где правят в уединении златолицые богдыханы.
Вдыхая тяжелодымную златоопийную волну.
Где в набережных фарфоровых императорские каналы
Поблескивают, переплескивают коричневой чешуей,
Где в белых обсерваториях и библиотеках опахалы
Над рукописями ветхими – точно ветер береговой.
Но медленные и смутные не колышатся караваны,
В томительную полуденную не продвинуться глубину.
Лишь яркие золотистые пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную неизведанную страну.- Г. Шенгели, 1916
Размер первого из этих стихотворений знаком русскому читателю: им много писали Кольцов и другие подражатели русской народной песни (иногда печатая его короткими пятисложными строчками, как здесь, иногда – сдвоенными, десятисложными). В XIX в. его иногда называли «сугубый (т.е. двойной) амфибрахий» (почему? – начертите схему этого 5-сложника и амфибрахия и вы поймете); в XX в. – «кольцовский пятисложник». Размер второго стихотворения, наоборот, уникален: кроме этого намеренного, метрического эксперимента, он ни разу не употреблялся. Тем не менее они родственны между собой: оба представляют собой вереницу «пятисложных стоп», первое – с сильным местом на 3-м слоге, второе – на 2-м слоге. Разница же между ними в том, что в первом размере граница стопы совпадает с границей стиха (или полустишия, если строки сдвоены), т.е. намеренно отбита словоразделом; во втором же размере этого нет, и слова перетекают из стопы в стопу так же свободно, как во всех других размерах (только в середине есть обязательная цезура – найдите ее! – но и она не разделяет, а рассекает стопу). Из примеров видно: если односложный метр звучит натянуто из-за недостатка односложных слов в русском языке, то пятисложные метры – из-за недостатка многосложных. С. Соловьев (как Кольцов и другие) выходит из затруднения, нагромождая много сверхсхемных ударений (на первом и последнем слогах строчек). Г. Шенгели этого избегает, но сам сбивается в счете слогов и три раза допускает в междуударных промежутках 5 безударных слогов вместо 4-х (найдите эти места).
ЛОГАЭДЫ СТОПНЫЕ И СТРОЧНЫЕ
№ 126
* * *
Я живу в пустыне, вдали от света.
Один ветер вольный вокруг гуляет,
Не нужна мне только свобода эта,
И что делать с нею, душа не знает.
Не ищу я больше земного клада,
Прохожу все мимо, не глядя в очи,
И равно встречаю своей прохладой
Молодых и старых, и дни, и ночи.
Огоньки мелькают чужих желаний...
Вот подходит утро в одежде сизой;
Провожаю ночь я до самой грани
И целую край золотистой ризы.- А. Герцык, [1910]
№ 127
* * *
Речи погасли в молчании.Слова – как дымы.
Сладки, блаженны касания
Руки незримой.
Родина наша небесная
Горит над нами,
Наши покровы телесные
Пронзило пламя.
Всюду одно лишь Веление...
(Как бледны руки!)
Слышу я рост и движение
Семян в разлуке.
Сердце забыло безбрежное
Борьбу и битвы.
Тихо встает белоснежное
Крыло молитвы.
- А. Герцык, [1910]
№ 128
* * *
Как в истерике, рука по гитаре
Заметалась, забилась, – и вот
О прославленном, дедовском Яре
Снова голос роковой поет.
Выкрик пламенный, – и хору кивнула,
И поющий взревел полукруг,
И опять эта муза разгула
Сонно смотрит на своих подруг.
В черном черная, и белы лишь зубы,
Да в руке чуть дрожащий платок,
Да за поясом воткнутый, грубый,
Слишком пышный, неживой цветок.
Те отвыкнуть от кочевий успели
В ресторанном тепле и светле.
Тех крестили в крестильной купели,
Эту – в адском смоляном котле!
За нее лишь в этом бешеном сброде,
Задивившись на хищный оскал,
Забывая о близком походе.
Поднимает офицер бокал.- С. Парнок, [1916]
Слово логаэд по-гречески означает «прозо-песня», т.е. как бы и стихи менее правильные, более приближенные к прозе, чем обычные. Выражалась эта «прозаизация» в том, что обычные стихи состояли однородных стоп, а логаэды – из разнородных стоп, но в твердой постоянной последовательности: например, два хорея, дактиль и еще два хорея. (Такой размер назывался «сапфический 11-сложник» – по имени поэтессы Сапфо; именно им написано первое стихотворение А. Герцык.). В стихе такого рода метр, т.е. упорядоченное чередование сильных и слабых мест, налицо, но уловить его труднее, потому что периодичность этого чередования больше: расположение ударений повторяется не из стопы в стопу, а из стиха в стих. Такие размеры – с правильным чередованием неоднородных стоп – иногда называют стопными логаэдами. Эта периодичность может стать еще больше: из двустишия в двустишие, – например, все нечетные стихи составлены из дактилей, а четные – из ямбов. (Именно так – чередование 3-ст. дактиля и 2-ст. ямба – написано второе стихотворение А. Герцык.) Такие размеры – с правильным чередованием неоднородных строк – иногда называют строчными логаэдами. Строчные логаэды могут включать в себя стопные логаэды как составную часть. Например, в стихотворении С. Парнок о цыганской певице (Яр – ресторан в старой Москве со знаменитым цыганским хором) первые строки всех строф представляют собой стопный логаэд: два хорея и два анапеста; вторые и третьи строки – 3-ст. анапесты, а четвертые – 5-ст. хорей. Таким образом, середина строфы как бы подхватывает анапестический ритм начального логаэда, а конец строфы возвращает к его хореическому ритму; периодичность повторяющегося расположения ударений – из четверостишия в четверостишие.
ЛОГАЭДЫ АНТИЧНОГО ОБРАЗЦА: АЛКЕЕВА И САПФИЧЕСКАЯ СТРОФЫ
№ 130
Алкей – Сафо
На небе звезды свой хоровод ведут.
Светила ярче светит краса твоя,Сафó, средь дев лесбосских граждан,
Будто луна на большой поляне.
Фиалки в рощах и в потайных лугах
Цветут, и скромный вид их милей богам,Чем розы пышные и лавры,
Чем Дионисовы плющ и мирты.
В венке фиалок ты мне мила, Сафо,
Твоя улыбка сердце сжимает мне.И я б сказал свое желанье...
Верь, что мне стыд говорить мешает.- М.Л. Гофман, [1910]
№ 131
Сафо – Алкею
Сколько звезд горит на высоком небе,
Сколько рыб морских и фиалок мирных, –
Столько чудных дев на Лесбосе чудном- Я ясною душою.
Я – одна из них, и мое желанье –
Средь лесбосских дев, безмятежных, чистых,
Запевать в хорах на пирах веселых- Песни о счастьи.
Я пою любовь, но любви не знаю.
Милости богов мне дают услады.
Мой венок из роз – на кудрях златистых –- Дар Аполлона.
Льстивый твой язык утиши молитвой,
В дар богам неси свой любовный трепет.
И в груди своей сохрани святыню –- Чистое сердце.
М.Л. Гофман, [1910]
Излюбленной областью применения логаэдических размеров были переводы и подражания античным лирическим стихам. Здесь подлинники представляли собой упорядоченное чередование долгих и кратких слогов, а имитации – безударных и произвольно-ударных слогов. Так, «алкеев 11-сложник» получал вид È ´ È ¢ È / È ¢ È ¢ È ´; «алкеев 10-сложник» – ´ È È ¢ È È ´ È ¢ È; «алкеев 9-сложник» – È ´ È ´ È ´ È ¢ È; «сапфический 11-сложник» – ´ È ´ È ¢ / È È ¢È¢ È; «адоний» – ´ È È ¢ È. Почти все эти размеры разлагаются лишь на неоднородные стопы (какие?) и, стало быть, являются стопными логаэдами. Далее, упорядочение чередуясь, они образуют 4-стишные строфы: алкееву (два алкеевых 11-сложника, 9-сложник и 10-сложник) и сапфическую (три сапфических 11-сложника и адоний); в составе этих строф они являются, таким образом, также и строчными логаэдами.
Эти строки и строфы получили свои названия от имен древнегреческого поэта Алкея и поэтессы Сапфо (или Сафо), которые жили ок. 600 г. до н.э. на эгейском острове Лесбос. Среди отрывков их стихов сохранились два четверостишия (сомнительной подлинности), в которых Алкей признается в своем нескромном желании, а Сапфо его вразумляет. Модест Гофман в своей ранней книжке стихов («Гимны и оды», почти все – античными размерами) развернул эти отрывки в два небольших стихотворения, написанных соответственно алкеевой и сапфической строфой. Цезура в 11-сложных строках (Гофман ее строго соблюдает) у Алкея и Сапфо отсутствовала и была введена в эти размеры только римским поэтом Горацием (I в. до н.э.). Цезура позволяет почувствовать в этих строфах волнообразное чередование восходящего (È ¢…) и нисходящего (¢ È…) ритма: в алкеевой – восходящее полустишие, нисходящее полустишие (дважды), восходящий стих, нисходящий стих; в сапфической – нисходящее полустишие, восходящее полустишие (трижды), нисходящий стих. Таким образом, в алкеевой строфе восходящие и нисходящие ритмы уравновешиваются, а в сапфической преобладают нисходящие и от этого она звучит спокойнее. Так ли это на ваш слух?
В заключение прочтите такое стихотворение:
№ 132
Я, купаясь в горном источнике.
Из-за рощи видел странное зрелище:
Пастух прицепил на шею козочке- Алую розу.
А после он заиграл на дудке
Необычно нежно грустную песенку,
Словно сказать хотел кому-то:- Нету любимой!..
- М. Долинов, [1913]
Это не сапфические строфы: длинные строки в них построены не по-сапфически, ритмически расшатаны и даже не выдерживают единого ритма (только в двух длинных строках он одинаков – в каких?). Но последний стих каждой строфы точно воспроизводит ритм адония и своей краткостью контрастирует с предыдущими, – этого достаточно, чтобы общими очертаниями эти четверостишия напоминали сапфические строфы и сохраняли ассоциации с античными темами и стилем. Такие формы могут быть названы «дериватами» («производными») сапфических строф; такие дериваты возможны и от других стихотворных форм. Насколько может удаляться форма деривата от исходной формы, чтобы сохранялось ощущение их связи и, соответственно, семантический ореол исходной формы, – вопрос неизученный, который пока приходится решать интуитивно, на слух.
РАСШАТАННЫЙ ЛОГАЭД
№ 133
Ария юноши
Песня моей свирели не ждет ответа:
Прошла зима, пройдет весна, пройдет и лето.
Голос мой, тот же всегда, звучит уныло:
Забудут все, что было зло, что было мило.
Время, как птица, вьется, любовь крылата.
Собравшим только хлеб рабам дается плата.
Камень, стукнутый камнем, огонь рождает,
Любовный взгляд найдет, ища, кого не знает.
Маски ловятся слепо в повязке жмурок:
Пастух, король, поэт, герой, монах и турок.
Время летит: скорее, не ждите лета,
Свирель моя одна поет, полна ответа.- М. Кузмин, [1908]
Перед нами несомненные строчные логаэды: первый стих каждого двустишия гибок и причудлив, а второй стих, наоборот, предельно строг: это 6-ст. ямб, и притом полноударный, и притом со словоразделами, как бы отбивающими стопы («пастух, король, поэт, герой...»). Стихотворение Кузмина входило в сюиту «Куранты любви», написанную на собственную музыку; эта музыка еще больше подчеркивала контраст первой и второй строк двустишия.
На фоне четких ямбов первые строки кажутся однородно построенными – стопными логаэдами, только очень сложными. На самом деле логаэдичность их расшатана, на одинаковую последовательность разных стоп они не разлагаются. Пять из этих шести стихов укладываются в схему: хорей (отбитый словоразделом); за ним амфибрахий или дактиль; за ним опять хорей и после него женская цезура; а потом два ямба с женским окончанием. Найдите сами единственный стих, который не укладывается в эту схему, и попробуйте в нем заменить одно слово (предцезурное), чтобы он не выбивался из схемы.
Это «или» в нашем описании (амфибрахий или дактиль) и есть признак расшатанности кузминского стопного логаэда. Это – шаг от силлабо-тоники в сторону чистотонического стиха. Сравните схему кузминского стиха со схемой стиха поэмы Г. Адамовича «Вологодский ангел» в следующем разделе (№ 141), вы увидите много общего.
«СМЕШАННЫЕ МЕТРЫ»
№ 134
* * *
– Прости, – сказала, –
Забудь ошибку!.. –
Ветром умчало
Ее улыбку...
И было скучно.
И было снежно.
Снег беззвучный
Таял нежно. | | Фонари бежали
К углам, от ступеней.
Тени дрожали
Дрожью осенней.
Синели лужи.
Дымилась слякоть.
О, почему же
Хотелось плакать!- Я. Годин, [1913]
|
№ 135
* * *
Когда подымаю,
Опускаю взор –
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.
И мукою в мире
Взнесены мои
Тяжелые гири
Шаткия ладьи. | | Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.
Есть в тяжести радость
И в паденьи есть
Колебаний сладость –
Острой стрелки месть.- О. Мандельштам, 1911
|
В стихотворении № 127 («Речи погасли в молчании...») упорядочение чередовались строки дактиля и ямба; и мы это называли строчным логаэдом. А что, если строки этих двух (и даже трех, четырех, пяти...) метров будут следовать друг за другом беспорядочно, как разностопные строки в вольном стихе (№ 118—121)? Именно так написано стихотворение Я. Година: в нем представлены 2-стопные размеры всех пяти метров (сокращено: Я, X, Д, Ам, Ан), но в совершенно непредсказуемой последовательности – Я, Я, Д, Я; X, Ам, Д, Д; Я, Я, X, X; Я, Я, Я (или Д?), Я. Как ни странно, такие стихи – с правильной предсказуемостью количества стоп в строке, но с непредсказуемой последовательностью строк в строфе, и стихотворении – в русской поэзии совершенно не употребительны. Кроме этого, нам известно лишь одно: «Дозор» В. Брюсова (1899) (найдите его в Собрании сочинений и запишите последовательность метров). Оно тоже написано короткими строчками: видимо, слух не успевает в них привыкнуть к метру и легко переключается на другой. Попробуйте мысленно удлинить все строки нашего стихотворения до трех стоп («Прости, – она сказала...»); как изменится общее звучание? Такие «смешанные метры» (термина для них еще нет) – интересная область для будущих поэтов-экспериментаторов. В стихотворениях такого рода могут обнаруживаться неожиданные сюрпризы. В приводимом стихотворении молодого О. Мандельштама, на первый взгляд, такие же смешанные метры, как у Я. Година. Последовательность метров – Ам, X, X, X; Ам, X, Ам, X; X, Ам, Ам (X?), X; Ам, X, X, X. Все амфибрахии – 2-стопные, все хореи – 3-стопные. Сразу заметно, что круг отбираемых размеров ограниченней, чем у Година: не пять, а только два варианта. Но не сразу заметно, что эти два варианта имеют общую черту: от первого слога до ударной константы – 6 слогов. Таким образом, мы можем определить этот размер двояко: с точки зрения тоники – как «смешанный метр» из 2-ст. амфибрахия и 3-ст. хорея, с точки зрения силлабики – как 6-сложник с его двумя самыми употребительными ритмическими вариациями (ср. № 155). Такие случаи, поддающиеся двойственному истолкованию, часто встречаются в практике стиховедов. Что можно здесь сказать? Среди русских читателей, воспитанных на силлабо-тонике и тонике, девять человек из десяти почувствуют тут такие же смешанные размеры, как у Година, и ничего более; и только один, привыкший к звучанию, например, французской силлабики (или хотя бы знакомый с ней), уловит разницу и сможет ее осмыслить. А вы, читатель, уловили бы эту разницу самостоятельно?
«Шаткия ладьи» у Мандельштама – архаическая форма родительного падежа «шаткой ладьи»: такою ладьей он метафорически называет весы с чашками (своей судьбы?).
ПОЛИМЕТРИЯ, ЛОГАЭДЫ, АССОНИРУЮЩИЕ РИФМЫ
№ 136
Нимфы
Сестры, сестры! Быстро, быстро – вместе, вместе вслед за ним!
Вкрадчивым топотом, ласковым шепотом, сладостным ропотом вдруг опьяним.
Душен шелест листьев сонных, рощ лимонных сладкий бред.
Путник взволнованный сном очарованный, негой окованный, грезой согрет.
Ах, кружитесь, мчитесь мимо, вдруг – незримо вновь к нему.
Страхи задушите, вздохи потушите, песню обрушите в тихую тьму.
Путник милый, о, внемли же! Ближе, ближе тайный миг.
Разве ты радости, ласковой сладости, пламенной младости в нас не постиг?
Наша ночь тиха, тепла;
Играть мы будем до утра.
Нынче юная пришла
Впервые к нам еще сестра.
Звезды в небе зажжены
Среди колеблющейся тьмы:
Так торжественно должны
При них сестру приветить мы.
Клики, плески далеко
Мы бросим в пляске горячо;
В круг сплетемся так легко –
Рука с рукой, к плечу плечо.
Крикнет нимфа на берегу:
«Силены, фавны! вас зову!»
Спляшем с ними на лугу
Во сне хмельном – иль наяву?
Брат! И ты в хмельной толпе
Не устремишься ль по росе?
Легок бег босой стопе!
Эй, люди! К нам бегите все!
После плясок нас в тиши
Лелеют пирные огни.
Сестры – все мы хороши,
К любой груди чело склони.
Будет ночь жива, светла
В багровых отсветах костра.
Как в траве ала, бела
Твоя подруга и сестра!
Путник милый, о, внемли же! Ближе, ближе тайный срок!
Разве ты радости, ласковой сладости, пламенной младости нам не сберег?
Да, ты с нами! Да, ты слышишь! Грезой дышишь и горишь!
Ночь благодатная, тьма ароматная, ширь необъятная, нежная тишь!
Звуки, лейтесь! Вейтесь, девы, – как напевы знойных чар!
Вами посеянный, ночью взлелеянный, вихрями взвеянный, буен пожар!
Сестры, сестры! Быстро, быстро! С нами, с нами – вот же он!
Тающим топотом, плещущим шопотом, радостным ропотом он опьянен!
Ю. Верховский, [1910]
В этом стихотворении Ю. Верховского начало и конец написаны одним размером, а середина, вставленная между ними как в рамку, – другим. Такое сочетание разных размеров в одном текс называется полиметрией (гр. «многоразмерность») и обычно мотивируется переменой темы, эмоций, точки зрения, в конечно счете интонации. В полиметрию могут сочетаться и более короткие отрывки текста; так, полиметрично стихотворение Маяковского «Прощание» (см. № 9), где одно четверостишие написано дольником (ср. № 143—144), а другое – вольным хореем (ср. № 120).
Здесь оба сочетаемых размера представляют собой логаэды, но разные. В серединной части это – правильное чередование строк 4-ст. хорея и 4-ст. ямба (при желании можно сказать, что это «двусложный размер с переменной анакрусой», см. № 75). В начальной и конечной части это правильное чередование 8-ст. хор и 8-ст. дактиля (восприятие такого соседства облегчается одинаковым их цезурным членением на 2+2+2+2 стопы, дополнительно подчеркнутым внутренними рифмами: в хореических строках между 2-м и 3-м колоном, «...сонных, ...лимонных» и т.д., в дактилических строках между 1-м, 2-м и 3-м колоном, «...топотом, ...шопотом, ...ропотом» и т.д.). Противопоставлены эти разноразмерные куски не только тем, что в крайних строчки длинные, а в среднем короткие, но еще и тем, что в крайних все рифмы – мужские закрытые (т.е. кончающиеся согласным звуком; найдите одно исключение), а в среднем – мужские открытые (кончающиеся гласным звуком) и вдобавок ассонирующие (см. № 48); здесь сменяются строфы с рифмами на А, Ы, О, У, Е, И, А, образуя таким расположением некоторую симметрию; в крайних кусках тоже можно уловить симметрию рифмующих гласных (И, Е, У, И и О, И, А, О), но более слабую.
МИКРОПОЛИМЕТРИЯ
№ 137
Лествица
(Из поэмы)
<...>
Высокий, звонкий свод.
Отзвук каждого движенья,
Бесов злобный хоровод
И – мученья, и мученья!
Нет, не хочешь ты мучений,
Стонов грузных тел. –
В небесах ликуют тени,
Чертят грешному предел.
Ты всех объяла тканью нежной –
Покров единый надо всем;
В тебе нет горести мятежной,
Твой взор прозрачен, тих м нем.
Смело ты зажгла зарницы,
Осветила ярко тьму, –
Грозно огненные птицы
В княжью вторгнулись тюрьму.
И руки слепцов разъяренных
Застыли пред трепетным светом,
А камни в стенах полусонных
Их встретили звучным приветом.
Высокий, звонкий свод
Опустел, и бесов нет.
Их расторгнут хоровод...
Последнему утру – привет! <...>- А. Миропольский, ок. 1898
И предыдущем примере полиметрический текст состоял из трех больших кусков и перемена метра мотивировалась переменой содержания и переменой интонации – более эпической в середине, более призывающей в начале и конце. Разноразмерные отрывки могут быть и короче: в стихотворении Маяковского «Прощанье» (см. № 9) две строфы, одна (дольником) обрисовывает ситуацию, другая (вольным хореем) выражает чувство. Мотивировка смены метров тоже может исчезать или почти исчезать: таков предлагаемый отрывок мистической поэмы А. Миропольского о ночи в темнице («ты» – это ночь). Герой поэмы – князь, он убил злого духа, скрывавшегося в облике монаха, за это брошен в монастыре темницу, будет сожжен на костре и уже в виде бестелесного духа станет сражаться дальше в вечной битве Добра и Зла. Ни одно приведенных 6 четверостиший не тождественно с другим; более того, в одной строфе смешаны строки ямба и хорея, а в другой – ямба, хорея и амфибрахия (в каких?) – ср. № 135. Это разрушает «строфическое ожидание», делает строение текста непредсказуемым, содействует нагнетанию тревожной неопределенности, в которой и развертывается сюжет поэмы. Такую полиметрию с немотивированными сменами коротких отрывков можно назвать микрополиметрией («мелкой многоразмерностью»). Величайшим мастером ее Велимир Хлебников; его стихи местами звучат похоже на поэму Миропольского.
V. НЕСИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ МЕТРИКА
ГЕКСАМЕТР И ДЕРИВАТ ГЕКСАМЕТРА
№ 138
* * *
В звездный вечер помчались,
В литые чернильные глыбы,
Дымным сребром
Опоясав борта
И дугу означая
Пенного бега.
Слева
Кошачья Венера сияла.
Справа
Вставал из волн
Орион, декабрем освеженный.
Кто, поглядев в небеса
Или ветр послушав,
Иль брызги
Острой воды ощутив на ладони, –
Скажет:
Который
Век проплывает,
Какое
Несет нас в просторы судно:
Арго ль хищник,
Хирама ли мирный корабль,
Каравелла ль
Старца Колумба?..
Сладко
Слышать твой шопот, Вечность!- Г. Шенгели, 1920
№ 139
Розы
Жди, за спиною старух другу подарок я брошу,
Страстью обостренный слух ловит «спасибо» твое.
Прячешь под плащ на груди легкую нежную ношу
Милый, теперь уходи, близко вражды острие.
Смотрят служанки за мной: розы я кинула дома,
В путь не взяла ни одной, запах их мне нездоров.
Это от ярких лучей глаз потемневших истома,
Щеки горят горячей только от жарких ветров.- Т. Ефименко, 1912
В строчных логаэдах было упорядочено чередование разнородных строк. Если оно становилось неупорядоченным, перед нами возникали «смешанные метры», и мы видели, как они могли стать переходной формой от силлабо-тонического стихосложения к чисто силлабическому (№ 134—135). В стопных логаэдах было упорядочено чередование разнородных стоп; если оно становится неупорядоченным, перед нами возникают дольники – тоже переходная форма от силлабо-тонического стихосложения к чистотоническому.
Первым дольниковым размером, освоенным русской поэзией, был «дактилохореический гексаметр» (гр. «шестиметрик») – 6-ст. дактиль с женским окончанием, в любой стопе которого вместо трехсложного дактиля мог быть поставлен двусложный хорей. Этот стих всем знаком по переводам и подражаниям античному стиху. Античный гексаметр был не «дактилохореический», а «дактилоспондеический»: он принадлежал к метрической (квантитативной) системе стихосложения (см. № 156—157), стопы в ней строились не из ударных и безударных слогов ( ¢, È), а из долгих и кратких слогов ( — , È ), причем по долготе звучания долгий слог считался равным двум кратким и мог быть ими заменен. Поэтому стопа античного дактиля (долгий и два кратких, — È È) могла быть заменена стопой «спондея» (два долгих слога, — — ): число слогов в стихе становилось меньше, но продолжительность звучания стиха оставалась неизменной. При переходе в языки, где долгие и краткие слоги не различались (например, в русский), разница между трехсложными и двусложными стопами оставалась, а продолжительность звучания стиха уже не ощущалась. Так дактилоспондеический гексаметр (из стоп — È È, — — ) превращался в дактилохореический (из стоп ¢ È È, ¢ È).
Схема русского гексаметрического стиха:
¢ È (È) ¢ È (È) ¢ È (È) ¢ È (È) ¢ È È ¢ È
(в скобки взяты слоги, которые могут пропускаться; на 5-й стопе такие пропуски избегаются, хотя Шенгели дважды – где? – их допускает). Интервалы между сильными местами (ударениями) колеблются в объеме 1-2 слогов; скоро мы увидим, что это характерная черта дольников (№ 142—144).
Античными ассоциациями насыщено и это стихотворение Г. Шенгели (Венера, Орион; «Арго» – корабль аргонавтов; Хирам – царь моряков-финикиян во времена Соломона). Оно состоит из 9 стихов гексаметра, разбитых на короткие строки для декламационной выразительности (ср. № 8). Первый стих: «В звездный вечер помчались, в литые чернильные глыбы...»; последовательность дактилей (Д) и хореев (X) в ней – ХДДДДХ. Восстановите сами остальные стихи гексаметра и запишите последовательность в них дактилей и хореев.
В античной поэзии гексаметр часто чередовался с производным от него дериватом – пентаметром, «пятимерником». Такое чередование называлось элегический дистих (дистих – двустишие). Пример силлабо-тонической имитации элегического дистиха – стихотворение Брюсова «Слово» (№ 56). По нему видно, как пентаметр образуется из гексаметра путем усечения третьей стопы (так что на цезуре получается стык ударений) и последней стопы (так что на конце оказывается мужское окончание). Схема русского ментаметрического стиха:
¢ È (È) ¢ È (È) ¢ / ¢ È È¢ È È ¢
Ни гексаметр, ни пентаметр не были рифмованы: античность не знала рифмы. Т. Ефименко, создавая для своей стилизации новый дериват гексаметра, брала за образец пентаметр: третья стопа усечена, и усечение подчеркнуто внутренней рифмой («старух-слух» и т.д.). Но окончания строк чередуются – женские и мужские (как если бы гексаметр чередовался с пентаметром) – и вдобавок рифмуются («брошу-ношу» и т.д.). При этом внутренние рифмы парные, а конечные – перекрестные. В результате получается стих, ритмом напоминающий древний пентаметр (напоминающий, но не копирующий: окончания нечетных строк – не как в пентаметре, а как в гексаметре), а рифмами отличающийся от него. Это новая стихотворная форма, внушающая, однако, читателю старые, античные смысловые ассоциации: к этому и стремился автор. Дериваты гексаметра возможны многообразные; ср. пример японской танка, ритмизованной под элегический дистих, в комментарии к № 152.
ГАЛЛИЯМБ И РАСШАТАННЫЙ ГАЛЛИЯМБ
№ 140
* * *
Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.
Припаду я к острым щебням, к серым срывам размытых гор,
Причащусь я горькой соли задыхающейся волны,
Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело.
Здравствуй ты, в весне распятый, мой торжественный Коктебель!- М. Волошин, 1907
№ 141
Вологодский ангел
(Из поэмы)
<...>
Ой, весна, ой, люди-братья, в небе серые облака,
Ой, заря над лесом, ветер, – все в темнице Господней мы!
Белый город Вологда наша, на окраине тишина,
Только стройный звон колокольный, да чирикают воробьи.
Вьется речка, блестит на солнце, а за речкой лес, холмы,
За холмами мир вольный, – но Алеша не знал о нем.
Знал пустое – что соседка продала на базаре кур,
А уряднику на почте заказное письмо лежит.
Да и Пелагея Львовна не умнее сына была,
Не в гимназии училась – у Воздвиженской попадьи.
Всякий люд идет дорогой – проезжают в тройках купцы,
И с котомками богомольцы, и солдаты на войну.
Из обители далекой в Троице-Сергию инок шел,
Попросил приюта в доме, отдохнуть и хлеба кусок.
В мае ночи коротки, белы, стихнет ветер, небо горит,
И плывет звезда Венера по сияющим морям.
Все о доле монастырской, о труде монах говорил,
А Алеша о мире думал и заснуть потом не мог. <...>- Г. Адамович, 1916
На примере имитаций гексаметра мы видели, как на фоне более длинных стоп могут появляться стопы укороченные. На примере имитаций гораздо менее распространенного античного размера – галлиямба – можно увидеть, как на фоне более коротких стоп могут появляться стопы удлиненные.
В самом деле, если в античной квантитативной метрике два кратких слога могли стягиваться в один долгий (и из дактиля, — È È, получался спондей, — —), то и один долгий слог мог распускаться в два кратких (и из хорея, — È , получался «трибрахий», È È È). В силлабо-тонической имитации равнодлительность звучания переставала ощущаться, а замена трехсложия двусложием оставалась. Естественно было бы ожидать, что как гексаметр возник у нас в переводах и подражаниях античному эпосу, так и расшатывание хореев и ямбов произойдет в переводах античной драмы, которая писалась преимущественно этими размерами. Этого не произошло: античную драму у нас переводили выровненными двусложными стопами. Одинокий эксперимент произошел лишь в редком лирическом размере галлиямбе (название – от «галлов», жрецов культа богини Кибелы, которые будто бы пользовались им в своих экстатических песнях; не путать с галлами, жителями Галлии!).
В основе галлиямба лежит хореическая стопа; на русский слух строгий, без распущений галлиямб воспринимается как 8-ст. хорей (с цезурой после 4-й стопы), затянутый на конце лишним слогом. Так его и передал М. Волошин в стихотворении о крымском Коктебеле, где он жил, – «лишний» слог берем в скобки: «Я иду дорогой скорбной / в мой безрадост(ный) Коктебель...» Г. Адамович, почувствовав эффект такого приема, стал применять его и в других местах строки: «Белый город Волог(да) наша...», «Вьется речка, (бле)стит на солнце...... Стих стал более гибок и изменчив, хотя эффект выделенной концовки ослабел: в некоторых концовках автор обходится без этой обязательной в галлиямбе затяжки («...а за речкой лес, холмы», «...и солдаты на войну»), а в одном месте в середине стиха допускает даже не распущение двусложия в трехсложие, а стяжение его в односложие («За холмами мир ( – ) вольный...»), что вовсе противоречит тенденциям галлиямба. Впрочем, оговорим сразу: никаких свидетельств о том, что Адамович сознательно опирался на традицию античного галлиямба, нет. Но что он держал в сознании или в подсознании образец Волошина, можно не сомневаться.
Как же определить форму стиха, получившуюся у Г. Адамовича? Вернее всего, кажется нам, вот такой формулой:
´ È ¢ È ´ (´) È ¢ È | ´ È ¢ È ´ (´) È ¢
Это значит: два полустишия с цезурой между ними; первое полустишие с женским окончанием, второе – с мужским; оба – с двусложной анакрусой, первый слог которой может нести необязательное ударение; в каждом – два обязательно ударных слога (это сильные слоги сильных стоп вторичного ритма 4-ст. хорея, из которого развился наш размер: см. № 88); между ними – 3- или 4-сложный безударный интервал, на одном из внутренних слогов которого может стоять необязательное ударение. Такие произвольные ударения в затянутых промежутках между сильными местами мы встретим в тактовике – следующей за дольником переходной форме от силлабо-тоники к чистой тонике (№ 147—148). Как богатый опыт русского гексаметра был предварительной школой русского дольника, так скудный опыт русского галлиямба был предварительной школой русского тактовика.
Примерьте сами, как укладывается в изображенную схему каждый стих отрывка из поэмы Адамовича. Предупреждаем, что отклонений будет два: одно в стихе 6 (мы его упоминали), другое в стихе 9.
В заключение – небольшое отступление. В 1919 г. Блок написал очерк о Катилине, которого называл «римским большевиком». Там он цитировал по-латыни стихотворение Катулла (современника Каталины – I в. до н.э.) «Аттис», написанное галлиямбом. Ничего общего между содержанием «Аттиса» и заговором Катилины не было, но Блок услышал в ритме галлиямба – маршевом хорее с резкими перебоями-затяжками в концах строчек – нечто родственное духу заговора Катилины: «Вы слышите этот неровный, торопливый шаг обреченного, шаг революционера, шаг, в котором звучит буря ярости, разрешающаяся в прерывистых музыкальных звуках? Слушайте его...» Так Блок воспринимал «музыку революции» (одно из любимых его выражений в те годы). С этим любопытно сравнить содержание двух приведенных русских имитаций галлиямба (о которых Блок вряд ли думал): у Волошина – религиозно окрашенная торжественность (образ весенних страстей Христовых; орарь – церковное облачение, наплечная перевязь с крестами), у Адамовича – мирное захолустное затишье (хоть поэма его и кончается печально). Таково разнообразие субъективных восприятий одного и того же размера; вот почему всякий раз, говоря о связи какой-то стихотворной формы с содержанием, мы спрашиваем: «Так ли это на ваш слух?»
ДОЛЬНИК З-ИКТНЫЙ И 4-ИКТНЫЙ
№ 142
Жонглерка
Ты, как гибкая, тонкая ветка,
В неживых, голубых цветах –
Купол цирка мнится беседкой;
Крылато-уверен шаг
По стальной неуступчивой нитке.
Озаряют тебя с шестов
Грозды ламп, как яркие слитки
Прозрачных круглых плодов.
И ты пляшешь и ловишь и мечешь
Пять огней и кинжал стальной.
И зигзагом огненным свечи
Скользят над нагой спиной.- В. Эльснер, [1913]
№ 143
* * *
Над Невой завывает сирена,
И тучи близко к земле,
Чугунные вижу колена
У царя на серой скале.
По земле – это тень моя бродит,
Я давно окаменел;
В неизвестном и диком роде
Остался мой царский удел.
И там, над застывшей водою.
Где нет ни людей, ни огня,
Я тоже железной уздою
Удерживаю коня!- Б. Эйхенбаум, [1913]
№ 144
* * *
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.- А. Блок, 1905
Слово дольник происходит от слова «доля», имеющего более широкий смысл, чем слово «стопа»: стопы в силлабо-тонической строке всегда равносложны (или двусложны, или трехсложны), а доли в дольниковой строке могут быть то двусложны, то трехсложны. Поэтому мы называем дольник переходной формой от силлабо-тоники к чистой тонике и измеряем в нем длину стиха не числом стоп, а числом сильных мест (иктов), слабые интервалы между которыми колеблются от 1 до 2 слогов.
Таким образом, ритмическое ожидание не исчезает, но становится расплывчатее. В стихотворении, написанном силлабо-тоническим анапестом, стих, начинающийся «Над Невой завывает...», может иметь только одно продолжение – слово типа «сирена», чтобы последний междуиктовый интервал был такой же двусложный, как и первый. В стихотворении же, написанном дольником, такое начало может иметь два продолжения: как «Над Невой завывает сирена» (оба интервала двусложные), так и «Над Невой завывает буря» (второй интервал односложный); но, например, вариант «Над Невой завывает ураган» (второй интервал трехсложный) уже невозможен.
Гексаметр был 6-иктным дольником; но самыми употребительными размерами дольника, освоенными в начале XX в., были 3-иктный и 4-иктный. Легко рассчитать, что число возможных сочетаний одно- и двусложного интервала в двух междуиктовых промежутках 3-иктного и трех промежутках 4-иктного стиха ограничено. Так, 3-иктный дольник имеет лишь 5 ритмических форм с такими слоговыми интервалами:
2—2: Над Невой завывает сирена...
1—2: У царя на серой скале...
1—1: Я давно окаменел...
5: Удерживаю коня...
В третьем и четвертом примерах на среднем икте пропущено ударение, и поэтому последний тип может даже восприниматься двояко: «Удерживаю коня» или «Удерживаю коня».
Сравните расположение этих форм в первых двух стихотворениях и вы увидите: в трехстрофии Эйхенбаума оно беспорядочно, а в трехстрофии Эльснера упорядочение – в каждом четверостишии; чередуется формы «2—2», «2—1», «1—2», «2—1». Анакруса у Эйхенбаума неурегулированно переменна, а у Эльснера урегулированна: в трех строках – двусложная, в четвертой – односложная. Стихотворение Эльснера – как бы переходный шаг от логаэдов к чистому дольнику.
Составьте сами список возможных сочетаний интервалов в 4-иктном дольнике (их будет 8, не считая случаев с пропусками ударения), выберите примеры на них из стихотворения Блока, а недостающие примеры сочините сами.
ДОЛЬНИК НА ДВУСЛОЖНОЙ ОСНОВЕ
№ 145
Закатные лебеди
В мягко вздрагивающем лифте
с зеркалами отшлифованными
мы неслись, дрожа в предчувствии,
на двенадцатый этаж.
Нам в пролетах небо искрилось,
точно чаша из финифти
с инкрустированными лебедями,
яркий ткущими мираж.
Отрывались от солнца лебеди,
розовым золотом сверкающие лебеди,
плавно плыли в отуманенную
лаской сумеречной даль,
пели медленный тихий реквием
дню, багряно умирающему,
небо трепетно окутывая
в огнецветную вуаль.
Отражаясь в зеркальных плоскостях,
дали сделались тысячегранными,
нас окутала бесконечности
переливная парча,
мы неслись, томясь предчувствиями,
из закатных огней чеканными,
как в те дали аметистовые
два сверкающих луча.- Г. Шенгели, 1915
№ 146
Пляска
Под копыта казака
грянь, брань, гинь, вран,
киньтесь, брови, на закат, –
Ян, Ян, Ян, Ян!
Копья тлеют на западе
у вражьего лика,
размочалься, лапоть
железного лыка.
Закружи кунтуши,
горячее вейло,
из погибшей души
ясного Ягейло.
Закачался туман
не над булавою,
закачал наш пан
мертвой головою.
Перепутались дни,
раскатились числа,
кушаком отяни
души наши, Висла.
Времени двоякого
пыль дымит у Кракова,
в свисте сабель, в блеске пуль
пляшет круль, пляшет круль.- Н. Асеев, 1916
Мы сказали: доли в дольниковой строке могут быть то двусложны, то трехсложны. В подавляющем большинстве русских стихотворений, написанных дольником, преобладают трехсложные доли (и, соответственно, двусложные интервалы между иктами). Например, если разрубить на доли стихотворение Б. Эйхенбаума (№ 143), мы увидим: «Над Невой / завыва/ет сире(на), / / И ту/чи близ/ко к земле...» и т.д.; если посчитать, то трехсложные («Над Невой», «завыва-» и т.д.) составят две трети стихотворения, а двусложные доли («И ту-», «чи близ-» и т.д.) – одну треть. Это позволяет нам назвать обычный русский дольник дольником на трехсложной основе. Он настолько господствует в русской поэзии, что когда говорят просто «дольник», то имеют в виду именно его. (Подчеркиваем: «в русской поэзии». В немецкой поэзии, например в дольнике Гейне, двусложных долей гораздо больше. Это сказывается и в ритме русских переводов из Гейне, например у Блока, – проверьте!)
А как будет звучать дольник на двусложной основе – такой, в котором преобладают двусложные доли? Здесь возможны два очень непохожих варианта: в одном к двусложным долям примешиваются в небольшом количестве трехсложные (к которым мы уже привыкли), в другом – односложные (с которыми мы еще не сталкивались). Соответственно в первом случае преобладают односложные междуиктовые интервалы, среди которых появляются двусложные; во втором случае преобладают односложные, среди которых появляются нулевые, т.е. обычно – стыки ударений на смежных слогах. Мы оговариваем «обычно», потому что помним: если в трехсложных стопах (дактиле, амфибрахии, анапесте) ударения на сильных местах (иктах) пропускаются редко, то в двусложных стопах (ямбе, хорее) – довольно часто; то же можно сказать и о трехсложных долях. Такие пропуски ударений еще больше осложняют звучание дольника на двусложной основе.
Стихотворение Шенгели разбавляет двусложный (хореический) ритм трехсложными долями: «В мягко / вздраги/вающем / лифте...», «С инкру/стиро/ванными / лебе/дями...», «Отры/вались от / солнца / лебеди...». Всего таких выбивающихся из хорея строчек в этом стихотворении – девять. Найдите их; учтите, что в одной из них сам Шенгели сбился с ритма и допустил в стихе два лишних слога: «Розовым золотом сверкающие лебеди...» (замените слово «сверкающие» так, чтобы стих уложился в общий ритм). Впрочем, может быть, это была и не оплошность, а намеренное ритмическое выделение заглавного образа стихотворения? Обратите внимание на строфику Шенгели: в каждом восьмистишии 4-й стих он рифмует с 8-м, а как расположены окончания (женские, дактилические, гипердактилические) и рифмы в остальных стихах? Слово финифть (архаизм) означает «эмаль»; какими еще словами создает Шенгели атмосферу нарочитой красивости?
Стихотворение Асеева разбавляет двусложный (тоже хореический) ритм односложными долями и от этого звучит совершенно иначе: не мягко, а резко. Содержание его – вымышленный эпизод из польской истории: тризна по королю Ягейло (правильнее – Ягайло) и пляска в честь нового короля Яна. Круль – по-польски «король»; кунтуш – широкополый кафтан; лапоть железного лыка – латы; вейло – неологизм от глагола «веять»; гинь, вран – «погибни, ворон», смертная птица.
Если у Шенгели ритмическая основа всех строк – 4-ст. хорей, то у Асеева попеременно – то 4-ст. хорей («В свисте сабель, в блеске пуль»), то 3-ст. хорей («Мертвой головою»). При этом в его 4-стопные строчки вторгаются среди двусложных долей и односложные: иногда один раз в строке («Пляшет / круль, / пляшет / круль», «Закру/жи / кунту/ши», «Пере/пу/тались / дни»: заключительные доли мы не считаем односложными, потому что они просто усечены мужскими окончаниями; ср. № 64), иногда два раза («Зака/чал / наш / пан»), иногда целых три раза «Ян, / Ян, / Ян, / Ян»). А в 3-стопных его строчках нет односложных долей, зато есть перебои ритма (№ 105): «У вражьего лика», «Железного лыка», «Горячее вейло». Это – подражание украинской народной поэзии, где такие сдвиги ударения очень часты: их можно найти у Т. Шевченко и даже в его русских переводах.
Как видите, ритмический рисунок получается очень сложный. Некоторые стиховеды предпочитают считать, что это уже не дольник (хотя бы и на двусложной основе), а тактовик – более свободная форма стиха, к которой мы и переходим.
ТАКТОВИК 3-ИКТНЫЙ И 4-ИКТНЫЙ
№ 147
Из цикла «Буковинские песни»
Полюбил, и не видел лица ее,
Только ясные очи сияли,
Полюбил, и не спрашивал совета,
Сам сказал ей про любовь у колодца.
Ворон конь умчал их вихрем
В далекие горы, к чужим людям.
Далекие горы, чужие люди
Стали им дороже родни и дома.
Через год сын у них родился,
И ему по деду нарекли они имя,
И то имя, словно руки, потянуло
Через дальние горы, в край родимый.
А когда они пришли в край родимый,
Никого в живых не застали,
Перебили родные друг друга
За ее побег, его обиду.
Подрастет скоро сын их и спросит,
В память чью нарекли ему имя,
Ничего они ему не ответят,
И покинет он их в печали.
Не любите же, люди, без совета,
Не женитесь, не исполнивши закона,
Не кидайте родни и отчизны,
И тогда будет счастье вам в детях.- С. Федорченко, [1925]
№ 148
Гимн бессмертию
Привет тебе, пламя творческого мира,
Вечного знанья пылающий язык,
Чистый зачаток, исход обильный пира,
Призрак смертельный к ногам твоим поник.
Ты вещество неподвижное волнуешь,
Велишь соединяться ему и жить,
Ты глину ваяешь и в обликах ликуешь,
В тысячах существ свою проводишь нить.
Создания свои разрушаешь напрасно.
Смерть превозмогает над жизнью порой,
И вновь из обломков встаешь ты ежечасно
В новых созданьях торжественной игрой.
Горнило Солнца питаешь ты собою.
Лазурью одеваешь немые небеса,
Луну серебришь над облачной мглою,
Тобой сияет зорь венчанная краса.
Рождаешь переклички в роще туманной,
Деревьям ты даруешь зеленый убор,
В реке ты, как музыка с печалью тонкотканной,
В море – как хриплый угрожающий хор. <...>- К. Бальмонт, пер. из Х. Эспронседы, [1923]
Следующий после дольника шаг от силлабо-тоники к чистой тонике – это тактовик. Если в дольнике объем слабых интервалов между иктами колебался в пределах двух вариантов (1—2 слога), то в тактовике он колеблется в пределах трех вариантов (1—2—3 слога). Соответственно и ритмическое ожидание ударности/безударности каждого следующего слога здесь становится еще расплывчатее. Разницу между дольником и чистотоническим стихом («акцентным стихом», примеры которого – № 45—46) уловить на слух легко, между тактовиком и чистотоническим стихом – труднее; например, В. Шершеневич (№ 46) начинает стихотворение акцентным стихом, а кончает тактовиком, сам, видимо, того не замечая.
Заметим: как в дольнике отдельные строки могли звучать правильными анапестами и амфибрахиями («Над Невой завывает сирена»), так и в тактовике отдельные строки могут звучать не только анапестами («Не кидайте родни и отчизны»), но и хореями или ямбаим («Не женитесь, не исполнивши закона»). Удивляться этому не приходится: чем больше расшатан, расплывчат ритм стиха, тем легче он включает в себя более строгие ритмы как частные свои случаи.
К тактовику близок по строению русский народный речитативный стих (былины, повествовательные песни; подражание ему – стих пушкинской «Сказки о золотой рыбке»); именно поэтому С. Федорченко выбрала его для своей имитации народной песни. Анакруса в ее стихотворении – двусложная (кроме двух строчек), в «Гимне» Бальмонта – переменная одно—(ноль) сложная. Расположение межударных интервалов в строчках «Гимна»: 2—1—3, 2—2—3, 2—2—3, 2—2—3, 2—2—3, 3—2—1, 2—2—3, 3—1—3 и т.д. Знаком «3» здесь обозначен трехсложный междуиктовый интервал с сверхсхемным ударением в середине («Чистый зачаток, исход обильный пира, / Призрак смертельный к ногам твоим поник» – слова «обильный» и «твоим» лежат в междуиктовых интервалах, и ударение на них – сверхсхемное). Доведите сами эту запись до конца.
Некоторые авторы употребляют термин «тактовик» и в других значениях (см., например: Квятковский А.П. Поэтический словарь. М., 1966)
ТОНИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ: АКЦЕНТНЫЙ СТИХ, РАЕШНЫЙ СТИХ
№ 149
Про Червяка
Слава Господу-Богу,
Пошел Червяк в путь-дорогу...
По пешему пути
Труднее тому Червяку идти.
Ох, господи, грех,
Лежит камень с орех!
Куды Червю пройти,
Кругом Червю ползти.
Богородица святая,
Соломина-то какая,
Соломина толста
Да долга, что верста.
Ой, господи батюшка,
Ты куда, Червяк, катишься?
Да тут яма темнешенька
С-под сухой с горошинки...
Ой, святые угодники,
Сидит Жук греховодник,
Усом ввертит,
Глазом глядит,
Меня, Червяка, видит... <...>- С. Федорченко, [1925]
№ 150
Честь
Служа в охранке
Уже лет десять,
Свои замашки
И привычки
Давно успел уравновесить
Иван Петров.
Подле часов
Всегда в кармашке
Носил он спички,
Медаль в петличке,
И в Новом банке
Имел он свой вклад –
Сто пятьдесят
Мужчина в соку,
Под тридцать лет,
Вставал он чуть свет
И до поздней ночи | | Был начеку.
За всеми следил,
За всеми ходил
Походкой тяжелой,
Подняв воротник...
Короче –
Наблюдал за крамолой,
Как честный шпик.
Была у него любовница,
Мелкая чиновница,
Угощала его по воскресеньям
Пирогами
С грибами,
Сравнивала себя с грациями
И завязывала банки с вареньем
Прокламациями... <...>
- П. Потемкин, [1911]
|
За порогом тактовика начинается чистотоническая система стихосложения. Колебания междуиктовых интервалов в 1-2 слогам (как в дольнике) и в 1-2-3 слога (как в тактовике) слух еще может уловить и выделить; но отличить на слух, без подсчета, например, четырехсложный интервал от пятисложного уже вряд ли возможно. В таком стихе ритмическое ожидание ударности/безударности каждого следующего слога исчезает совсем – остается лишь обычное общеязыковое ожидание того, что за вереницей безударных слогов, наконец, последует ударный. Таким образом, длина стиха в тонической системе измеряется не числом стоп (и, соответственно, сильных мест – иктов), а числом слов (и, соответственно, ударений): строки различаются 2-ударные, 3-ударные, 4-ударные и т.д. Не нужно думать (как часто делают), что в тоническом стихотворении все строки должны быть равны по числу ударений: как в силлабо-тонике вполне законны неравностопные стихи (урегулированные или вольные), так и в тонике – неравноударные. По-латыни «ударение» – «акцент», поэтому самое общее название чистотонического стиха – акцентный стих.
Так как акцентный стих лишен метра, то повышенную важность в его организации приобретает рифма. Самый типичный образец акцентного стиха начала XX в. (4-ударного) – это стихи В. Шершеневича (№ 45—46); сходное звучание имел акцентный стих и у Маяковского. Стихи Шершеневича имели перекрестную рифмовку (АБАБ). Если рифмовка в акцентном стихе парная (ААББ), то звучит он несколько упорядоченное, распадаясь на законченные двустишия; если, наоборот, рифмовка его более прихотлива, то звучит он более беспорядочно и аморфно. Первый случаи, представлен здесь стихотворением (для детей) С. Федорченко. Такой парнорифмованный акцентный стих употребителен в народной говорной поэзии (свадебные приговоры, балаганные зазывания, лубок; подражание ему – пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде») и носит особое название – раешный стих. Второй случай представлен «сатириконским» стихотворением П. Потемкина (ср. № 5: иная тема, но столь же непредсказуемая рифмовка); такой стих почти не употребителен. Составьте схему расположения рифм у Потемкина.
ТОНИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ: СВОБОДНЫЙ МОЛИТВОСЛОВНЫЙ СТИХ
№ 151
Песня на работе
Благослови нас, Царь наш Батюшка,
На труды Твои, на трудную землю Твою,
Как сына Твоего возлюбленного,
Как отрока Твоего Иисуса.
Да плотничал он, други, на земле да тридцать лет
И победил начальника зла и отца праздности,
И Царь Небес укреплялся трудом, как сын человеческий.
Так благослови нас на всякое низкое дело твое по лицу всей земли.
Потом на дело Божье в винограднике Твоем.
Нет в небесах Твоих ни одного отдыхающего иль сидящего.
Не имеют покоя день и ночь тьмы тем и тысячи тысяч Твоих.
Ибо Ты Отец Вечноделающий,
И Сын Твой Искупитель – Раб всех даже до этого дня,
А мы трудящие названные братья его,
Избранные в веки. Аминь.- А.М. Добролюбов, 1901
Мы уже встречались со свободным стихом – свободным от четкого ритма и от рифмы (№ 2). Теперь мы можем определить его терминологически: свободный стих – это нерифмованный (белый) акцентный стих. Он звучит еще аморфнее, чем беспорядочно-рифмованный акцентный стих. Некоторую упорядоченность в него могут внести лишь внестиховые средства – синтаксические. Хаотичнее и напряженнее всего звучит стих, насыщенный анжамбманами, синтаксическими переносами, как в нашей экспериментальной переработке стихотворения С. Нельдихена (№ 2). Уравновешеннее – стих, в котором синтаксические членоразделы совпадают со стиховыми (как в настоящем тексте Нельдихена). Еще уравновешеннее – стих, в котором строки связаны синтаксическим или тематическим параллелизмом, часто подкрепляемым анафорой (единоначатием: «Как... Как...», «Нет... Не...»). Такой стих был разработан в переводах и подражаниях библейским псалмам, употребляется в богослужебных текстах и носит особое название молитвословный стих (термин необщепринятый). Так постройка и эта «песня» А. Добролюбова, одного из первых русских декадентов, ушедшего «в народ», ставшего бродячим сектантом, странником-ремесленником.
СИЛЛАБИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ (ЯПОНСКИЙ ТИП)
№ 152
- * * *
Знай! Я – ствол дуба
Четырехсотлетнего.
Любя не сломить!
- * * *
Черный нож в ладонь!
Кровь! Боль! Что смотришь? Страшно?
«Я» не ранено.
- * * *
Ли! Знаешь? Месяц –
Янтарный кубок... Я хо-
чу пить из него!
- * * *
Не смейте думать,
Что люблю, потому что
Смотрю вам в зрачки.
Зеркала нет. Я смотрю,
Чтоб поправить прическу...
- * * *
Осень на землю
Листья – монеты золо-
тые бросает.
Но ей не купить на них
Моего счастья с тобой.
- О. Черемшанова, [1925]
Силлабическое стихосложение (гр. «слоговое») – это стихосложение, в котором строки измеряются и соизмеряются не группами слогов (как в силлабо-тонике – стопами), а непосредственно слогами: слух ожидает конца стиха (или полустишия) через столько-то слогов. Восприятию, воспитанному на силлабо-тонике и тонике, это непривычно; однако опыт свидетельствует, что человек может непосредственно на слух, не считая, различать, например, группы из 6, 7 и 8 слогов (но обычно не более). Такими (и меньшими) стихами и полустишиями пользуется силлабика. В самом чистом своем виде силлабическое стихосложение вовсе не учитывает разницы между ударными и безударными (краткими и долгими и пр.) слогами: все слоги считаются произвольными. Такова японская силлабика. Самые популярные из ее классических форм – хокку (или хайку) (трехстишия в 5+7+5 слогов) и танка (пятистишия в 5+7+5+7+7 слогов). Им и подражала в этих стихах Ольга Черемшанова. Обостренное ощущение стихораздела (важное в силлабике) подчеркивается здесь резкими переносами фраз и даже слов из стиха в стих. Другие русские переводчики и подражатели предпочитали придавать русским танка ритм хорея:
Не весенний снег
Убелил весь горный скат:
Это вишни цвет!
Ах, когда б моя любовь
Дожила и до плодов!
– или элегического дистиха (гексаметра с пентаметром – № 56).
Как золотые
Дождя упадания –
Слезы немые, –
Будут в печальной судьбе
Думы мои о тебе
(оба примера из стихов В. Брюсова, 1913—1915).
СИЛЛАБИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ С УДАРНОЙ КОНСТАНТОЙ
(ИТАЛЬЯНСКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП)
№ 153
Свиток о пламени
(Отрывок)
Всю ночь оно пылало, воздымая
ввысь над горою храма языки
огня. С высот опаленного неба
брызгали звезды ливнем искрометным
наземь. Или Господь свой трон небесный
и свой венец вдребезги раздробил?
Обрывки красных туч, перегруженных
кровью с огнем, скиталися в просторах
ночи, неся по далеким горам
скорбную весть о гневе Бога мщений
и о его ярости возглашая скалам пустынь. Не свою ли порфиру
разодрал Адонай, и по ветрам
клочья развеял? – И великий ужас
был на дальних горах, и дрожь объяла
хмурые скалы пустынь: Бог отмщений,
Иегова, Бог отмщений воссиял! <...>
- В. Жаботинский, пер. из Х.Н.Бялика, [1912]
№ 154
Отъезд
(Из «Стихов об Италии»)
Ты, море тайное, ты, чаша из лазури,
Которую сам Дий украсил по краям,
Где играет дельфин, и чайки, жены бури,
Прикрепляют полет к трепетным кораблям!..
Когда уходят вдаль, бледнея, гор уклоны, –
Генуэзский залив, – и дрожит пароход.
Тех индийских морей предчувствуя циклоны, –
Взгляды любви скользят долго по лону вод...
И тихая душа, привыкшая к безлюдью,
Тоскует и живет жизнью чаек и туч.
Простясь с лучом зари, вольной вздыхая грудью,
Не зная, что сулит утра нового луч...
Но будет, будет миг: вдруг божества морские
Лазурный горизонт позволят разгадать.
Вдруг розами пахнет земная благодать,
И скажет капитан седой: «Александрия!»
- С.В.Шервинский, [1925]
Для облегчения восприятия силлабическое стихосложение часто допускает в себя элементы тоники (или квантитативной метрики) т.е. принимает, что определенные слоги, обычно в конце стиха или полустишия, должны быть обязательно ударными (или долгими). Это служит как бы сигналом, предваряющим приближение стихораздела или цезуры. Таково большинство силлабических размеров в романских языках. Например, в итальянской поэзии господствующий размер – 11-сложник – имеет обязательные ударения на 10-м слоге и на 4-м и/или 6-м слоге (и, соответственно, смежные слоги в нем преимущественно безударны): это делает его ритм настолько отчетливым, что он даже обходится без цезуры. Обычно на русский язык он переводится силлабо-тоническим 5-ст. ямбом; но в предлагаемом отрывке «Свитка о пламени» (переложение с еврейского; оригинал, как это ни странно, написан прозою) ритм этого итальянского силлабического размера передан совершенно точно. Во французской поэзии господствует (с XVII в.) другой размер – 12-сложник с цезурой после 6-го слога и с обязательными ударениями на 6-м и 12-м слогах; на практике это значит, что каждое полустишие звучит или ямбом («которую сам Дий...») или анапестом («где играет дельфин...»). Обычно на русский язык он переводится силлабо-тоническим 6-ст. ямбом; и даже автор «Стихов об Италии» (1912—1921) С.В.Шервинский при переиздании в 1984 г. переработал свои силлабические эксперименты в 6-ст. ямб. Дий – форма имени верховного греческого бога Зевса.
МНИМО-СИЛЛАБИЧЕСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ
(РАВНОСЛОЖНЫЙ ДОЛЬНИК)
№ 155
На берегу моря
Уронила луна из ручек –
Так рассеянна до сих пор –
Веер самых розовых тучек
На морской голубой ковер.
Наклонилась... достать мечтает
Серебристой тонкой рукой
Но напрасно! Он уплывает,
Уносимый быстрой волной.
Я б достать его взялся... смело,
Луна, я б<ы> прыгнул в поток,
Если б ты спуститься хотела
Иль подняться к тебе я мог.- Н. Гумилев, пер. из Теофиля Готье, 1912
Оригинал этого стихотворения написан силлабическим 8-сложником и читается так:
La lune de ses mains distraites
A laissé choir, du haut de l’air,
Son grand éventail de palettes
Sur le bleu tapis de la mer.
Pour le ravoir elle se penche,
Et tend son beaux bras argenté
Mais l’éventail fuit sa main blanche
Par le flot qui passe emporté.
Au gouffre amer pour te le render,
Lune, j’irais bien me jeter,
Si tu voulais du ciel descendre
Au ciel si je pouvais monter!
На русский слух, привыкший следить за ритмом ударений в стихах (ударные слоги здесь набраны полужирным шрифтом), эти строки звучат то 4-ст. ямбом (Я), то 3-ст. амфибрахием (А), то 3-иктным дольником (Д), образуя последовательность: ЯЯАД, ЯАЯД, Я?ЯЯ. По традиции такие стихи переводятся на русский язык ровным 4-ст. ямбом. Но в начале XX в., когда поэты начали осваивать дольник, они стали делать редкие попытки переводить их 3-иктным дольником; это – одна из них. Переводчик, судя по некоторым его заявлениям, искал таким образом путь к возрождению силлабики в русском стихосложении. Конечно, это было преувеличением: новый размер воспроизводил силлабическую гибкость так же условно и отдаленно, как и старый. Схема французского 8-сложника: ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ¢ (È); схема стиха перевода — ´ È ¢ È ´ ´ È ¢ (È): во французском языке 7 позиций могут произвольно замещаться как ударными, так и безударными слогами, в русском – только 3 позиции. Из этой схемы выпадает лишь одна строка русского перевода (которая? каким размером она звучит?). Впоследствии аналогичным образом стали переводить силлабический стих испанских романсов: схема стиха испанского оригинала – ´ ´ ´ ´ ´ ´ ¢ , традиционный размер переводов – 4-ст. хорей, но в последние десятилетия все чаще можно встретить и переводы дольником — È ¢ È ´ ´ È ¢, однако внутри одного перевода хореические строки с дольниковыми никогда не смешиваются.
МЕТРИЧЕСКОЕ (КВАНТИТАТИВНОЕ) СТИХОСЛОЖЕНИЕ
№ 156
Весна
| Сиинь соон сиий селле соонг се | | — — — È È — È |
| Сиинг сеельф сиик сигналь сеель синь | | — — — È È — È
|
| Лиий левиш ляак ляйсииньлюк | | — È È —È — È |
| Ляай луглет ляав лилиинлед | | — È È —È — È |
Сяасиинь соо сайлен саайсед
Суут сиик соон росин сааблен
Ляадлюбсон лии ли ляаслюб
Соолёнсе сеерве сеелиб | | |
№ 157
Шань
| Веекс вейн воольт веель вед ваар ваарналь | | — È — — È — — È |
| Иив нинг виин воо винд виинч ваар | | — È — — È — —
|
| Ляарк летлюз лиик ляйтлёв лиин сонсий шее | | — È È — È È — È È — |
| Лёо беляйф лёоф ляйлит люуз сайсон соо | | — È È — È È — È È —
|
Шии шей шиип шеем шот шеель шаанши
Шпиль шайм шеек шеед ши шеед шаань
Чюр руин риинг рейнар риип зонзес соо
Ринг райвер риип крайруф зеест цзяо сии |
| А. Туфанов, [1924] | | | |
Метрическое (гр. «мерное»), или квантитативное (лат. «количественное»), стихосложение – это стихосложение, в котором строки измеряются и соизмеряются, как и в силлабо-тонике, стопами, но внутри стоп противопоставляются не ударные слоги безударным, а долгие кратким. Понятно, что такое стихосложение возможно только в языках, где долгота и краткость гласных фонологична, смысло-различительна; наиболее разработано оно было в языках греческом, латинском, арабском, в санскрите. В русском языке долгие и краткие гласные фонологически не различаются, поэтому квантитативное стихосложение в нем практически невозможно. Но для футуристов, сочинителей заумных языков, это не было преградой. Автор этих стихов – Александр Туфанов, считавший себя продолжателем В. Хлебникова (пошедшим дальше него, потому что учитывал ассоциации заумных звукосочетаний не только с русскими, но и с английскими словами; с какими?). Долгие слоги Туфанов отмечал удвоением гласной; из долгих и кратких слогов складывались квантитативные стопы (спондей — —; дактиль — ÈÈ; хорей — È; амфимакр — È — ), а из них – логаэдические стихи (ср. № 130—131). Заслуживает внимания забота автора о фонике: аллитерации в началах слов становятся почти предсказуемы (ср. № 56).
МНИМО-КВАНТИТАТИВНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ
№ 158
Зевс, ты – всех дел верх!
Зевс, ты – всех дел вождь!
Ты будь сих слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс!- Вяч. Иванов, пер. из Терпандра, [1914]
Чтобы передать квантитативные ритмы на русском (а не на заумном) языке, поэты пользовались тем, что в русском языке ударные гласные звучат дольше безударных, и подставляли на место долгот – ударения. При чередовании долгих и кратких слогов в образце это давало вполне удовлетворительные имитации (см. № 130—131). Но в квантитативной метрике несколько долгих слогов могут легко идти подряд, а в русской речи несколько ударений подряд встречаются очень редко. В таких случаях поэтам приходилось или упрощать ритм, или нагромождать односложные ударные слова – именно так поступает здесь Вяч. Иванов, переводя фрагмент греческого гимна Терпандра (VII в. до н.э.), написанного ради плавной величавости только долгими слогами. Перевод получился поневоле отрывист и неровен («всех», «сих», «мой» и другие слова несут слишком слабое ударение и звучат слишком кратко). Ученый футурист И. Аксенов не преминул спародировать эти строки в одном из хоров своей трагедии (на античную тему) «Коринфяне»:
Прав ты, наш царь!
Правь век нам, царь!
Свет нам – ты, царь!
Наш, наш, наш царь!
VI. СТРОФИКА
МОНОРИМ
№ 159
Лунная колыбельная
Я не знаю много песен, знаю песенку одну.
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну
Колыбельку я рукою осторожною качну.
Песенку спою младенцу, отходящему ко сну.
Тихий ангел встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну.
И шалун ему ответит: «Ты не бойся, ты не дуйся, я засну».
Ангел сядет к изголовью, улыбаясь шалуну.
Сказки тихие расскажет отходящему ко сну.
Он про звездочки расскажет, он расскажет про луну,
Про цветы в раю высоком, про небесную весну.
Промолчит про тех, кто плачет, кто томится в полону,
Кто закован, зачарован, кто влюбился в тишину.
Кто томится, не ложится, долго смотрит на луну.
Тихо сидя у окошка, долго смотрит в вышину, –
Тот проникнет, и не крикнет, и не пикнет, и поникнет в глубину,
И на речке с легким плеском круг за кругом пробежит волна в волну.
Я не знаю много песен, знаю песенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Я на ротик роз раскрытых росы тихие стряхну.
Глазки-светики-цветочки песней тихою сомкну.- Ф. Сологуб, 1907
Строфа – это группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, повторяющимся периодически. В античной поэзии, не знавшей рифмы, таким признаком обычно было устойчивое чередование строк разных метров (см. № 130—131); в новоевропейской поэзии таким признаком стало чаще всего чередование рифм. Самыми ранними опытами применения рифмы для организации стихотворения были моноримы – «стихи на одну рифму», выдержанные от начала до конца. Потом явилась парная рифмовка, а потом и более сложная. Моноримы стали редкостью, и употребление их обычно мотивировалось содержанием стихов, например, как здесь, монотонным убаюкиванием. Основной размер этого стихотворения 8-ст. хорей, но два двустишия (в композиционно важных местах) выделены 10-ст. хореем. Проследите сами, как расположены в этом стихотворении многочисленные повторы, параллелизмы, внутренние рифмы, аллитерации и как это расположение соотносится с развитием двух тем стихотворения – основной безмятежной и оттеняющей трагической.
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ СТИХ
№ 160
***
Дитя гармонии – александрийский стих,
Ты мед и золото для бедных губ моих.
Я истощил свой дар в желаньях бесполезных.
Шум жизни, для меня, как звон цепей железных...
Где счастие? Увы – где прошлогодний снег...
Но я еще люблю стихов широкий бег,
Вдруг озаряемый, как солнцем с небосклона.
Печальной музыкой четвертого пэона.- Г. Иванов, 1921
После монорима, сплошного нанизывания строк на одну рифму самое простое сочетание рифм – попарное. Оно дает предельно краткую строфу – два стиха, такую краткую, что некоторые теоретики утверждают, будто это даже еще не строфа, и рассматривают парную рифмовку отдельно от строфической. Один из их доводов: по правилу альтернанса (см. № 184) за двустишием с мужским окончанием должно следовать двустишие с женским окончанием, и наоборот, т.е. двустишные строфы не могут быть тождественны по рифмовке, как это полагается строфам. Но для данного стихотворения этот вопрос не встает, потому что сам автор разделил его на двустишия отбивками.
В некоторых размерах такая парная рифмовка стала традиционной – если не господствующей, то широко распространенной. В русской поэзии, например, таков 4-ст. хорей крупных произведений – сказок Пушкина или «Конька-горбунка» Ершова. В общеевропейской же поэзии таков прежде всего александрийский стих: французский силлабический 12-сложник с цезурой после 6-го слога и традиционно приравниваемый к нему немецкий и русский силлабо-тонический 6-ст. ямб (с цезурой после 3-й стопы). Название он получил от средневековой французской поэмы об Александре Македонском; наибольшую популярность имел в эпоху классицизма, когда им писались поэмы, трагедии и в значительной части элегии, послания, идиллии, сатиры; в эпоху романтизма он был вытеснен из больших жанров, но остался в малых и русскому читателю напоминал, например, о таких стихах Пушкина, как «Редеет облаков летучая гряда...», «Мой голос для тебя и ласковый и томный...», «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» и др. Эта ностальгия по пушкинской эпохе и определяет настроение стихотворения Г. Иванова александрийским стихом об александрийском стихе.
Ритм французского (силлабического) александрийского стиха мы можем представить по 12-сложнику, который мы видели в № 154; ритм русского (силлабо-тонического) александрийского стиха – по 6-ст. ямбу с цезурой, который мы видели в № 90—91. Мы помним там строки типа «Неопалимою сияла их краса» – с ударениями на каждом 4-м слоге, как в «пеоне IV» (№ 98). На слух современников они звучали особенно изысканно, поэтому Г. Иванов и заканчивает свое короткое стихотворение двустишием, выдержанным именно в этом ритме, и прямо именует его в последних словах. («Пеон» и «пэон» – равноправные орфографические варианты, но «пэон» звучит изысканнее – ср. № 103.) «Где прошлогодний снег» – реминисценция из № 207.
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ РАЗЛИЧНОЙ РИФМОВКИ
№ 161
Русский ум
Своеначальный, жадный ум, –
Как пламень, русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он – и так угрюм.
Подобный стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.
Как чрез туманы взор орлиный
Обслеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.- Вяч. Иванов, 1890
После рифмованных двустиший (АА, ББ, ВВ...) самая простая рифмованная строфа – четверостишие на две пары рифм. Трехстишия употребляются редко: в них приходится или затягивать рифмующую цепь (ААА, БББ, ВВВ...; см. № 101), или оставлять одну строку незарифмованной (АХА, БХБ, ВХВ... и т.п.; см. № 179, 194).
В четверостишии на две пары рифм возможны три случая их взаимного расположения: рифмовка парная (ААББ, ВВГГ...), перекрестная (АБАБ, ВТВГ...) и охватная (АББА, ВГГВ...). В приведенном стихотворении Вяч. Иванова в трех строфах представлены все три типа рифмовки.
Наиболее употребительна перекрестная рифмовка (проверьте по любым стихам любого классика, написанным четверостишиями). Четверостишие АБАБ кажется как бы естественным развитием двустишия ББ: если такое двустишие состоит из очень удлиненных стихов, то они распадаются на полустишия, а полустишия подкрепляются внутренними рифмами (как если бы было написано:
...Подобно стрелке неуклонной, он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной пугливой воле кажет путь...).
После этого достаточно написать каждое полустишие отдельной строкой, и мы получим четверостишие АБАБ, как у Иванова. Памятью же о происхождении перекрестного четверостишия из длиннострочного двустишия остается сильная пауза после 2-го стиха, как бы делящая строфу на два полустрофия.
По сравнению с этим общеупотребительным перекрестным четверостишием («пошлой строфой» предлагал называть его поэт-экспериментатор Иван Рукавишников) четверостишие парное, ААББ, кажется упрощенным, а четверостишие охватное, АББА, усложненным. Парное четверостишие представляется простой суммой двух двустиший, в котором трудно отличить границу между строфами и границу между полустрофиями. Охватное же четверостишие кажется затянутым и напряженным: слух, привыкший к перекрестному чередованию рифм, после начального АБ... ожидает повторения рифмы А, но это ожидание не оправдывается, а рифма А возвращается лишь строку спустя: ...БА. Вяч. Иванов использует такое психологическое ощущение разницы между типами рифмовки, располагая три строфы своего стихотворения в порядке АББА, ВГВГ, ДДЕЕ – от самой сложной к самой простой. Первое четверостишие описывающее «русский ум», полно смятенных противоречий; второе «кажет путь» из этих противоречий; третье расширяет кругозор до спокойной гармонии. Этому вторит и успокаивающийся ритм строф. (Так ли это на ваш слух?)
Каждая из трех рифмовок может по-разному сочетать окончания мужские, женские и дактилические; какие из этих сочетаний предпочтительнее и почему, об этом мы уже говорили (№ 65—74).
ШЕСТИСТИШИЯ РОНСАРА И ДЕРИВАТЫ ИХ
№ 162
Пастораль
Как весенний цвет листвы,Так и Вы
Нежным веете апрелем
В дни, когда в тени ветвей
Соловей
Предается сладким трелям.
В дни, когда исподтишка
Пастушка
Ждет пастушка в поле злачном,
И в ручье опять жива
Синева,
Тихоструйном и прозрачном.
Испещрен цветами куст.
Сотни уст
Раскрываются на солнце.
Розы зелень серебрят,
И горят
Одуванчиков червонцы.
Гуще лиственный навес.
От древес
Ароматным веет медом.
Грузный шмель к цветку прилип.
Ветви лип
Вознеслись зеленым сводом<...>
- С. Соловьев, [1907]
№ 163
* * *
Пусть слова как будто узки,И по-русски
Мы сестрой найдем Любовь.
Не пристрастны мы к фигурам,
И Амуром,
Как и встарь, ведемся вновь.
Быстрый, розовый, крылатый
Тот вожатый,
Кем наш стан и луч храним.
Он проворнее пилота,
С ним болота
На крылах перелетим.
Что хотели, то посмели.
В милом теле
Жизни плещет водоем,
Справа, слева, дальше, ближе,
Выше, ниже
Всё зовем и назовем.
Доведет перечисленье
Восхищенье
До сладчайшей до межи,
Пусть косятся на примеры
Лицемеры
И печальные ханжи.
Словно трепетная птица,
Что стремится,
Шелковых мечта сетей,
Взвейтесь выше, песни эти!
Мы не дети,
И поём не для детей.
- М. Кузмин, 1918
№ 164
Песня шофера
(Из пьесы «Вторник Мэри»)
В окне карикатуры пар.
Ночной угар
Рассеян быстрою ездою.
В стекло мелькнет летучий мир –
И пассажир
Разбужен утренней звездою.
Но где проснешься, легкий друг?
Какой испуг,
Какой восторг глаза откроет?
Где веретена-тополя?
Река, поля?
Троянцы пали, пала Троя!
А вдруг, на снег и зиму злясь,
Канала грязь
Тебя затянет без проклятья?
В сухой и пудренной крупе
Тепло купе,
Но расторгаются объятья.
Очки вуалят странно даль.
Кого мне жаль?
Мне только чтоб не очень дуло.
Диван возьмете ль за кровать,
Иль проклинать,
В висок уткнув тупое дуло?
Ах, все равно, летим, летим.
Куда хотим, –
Ведь цель поставлена не нами!
Как мерен вверх упор резин!
Дыми, бензин.
Отяжеленный облаками!
Над садом, там, видна всегда
Одна звезда –
Мороженный осколок злата!
Вор, кот иль кукольный кумир,
Скрипач, банкир,
Самоубийца ль, – та же плата!
- М. Кузмин, 1921
Итак, простейшая строфическая форма – это двустишие, АА. Если строки двустишия длинные, то рифма в конце их может подкрепляться рифмой в середине их, на цезуре – (А)Б(А)Б (см. № 161). Если затем каждое такое зарифмованное полустишие описать отдельной строкой, то получится простейшая форма четверостишия с перекрестной рифмовкой – АБАБ. Более длинные строфы, например шестистишия, могут получаться из такого четверостишия тремя способами: во-первых, нанизыванием – АБА-БАБ...; во-вторых, добавкой – АБАБВВ; в-третьих, затягиванием – АБАААБ или ААБВВБ. Примерами затягивания могут служить стихотворения, приведенные в этом и следующем параграфах.
Некоторые виды строф так широкоупотребительны, что не связываются ни с каким определенным содержанием или стилем; другие менее употребительны, и использование их привносит в стихотворение ассоциации с прежними стихами, где эта строфа была использована. Например, шестистишие с рифмовкой ааБввБ вообще семантически нейтрально, но с укороченными 2-й и 5-й строками (как у С. Соловьева – 4—2—4—4—2—4-ст. хорей) характерно преимущественно для легкой поэзии Ронсара и других поэтов французского Возрождения XVI в.; это небезразлично для восприятия «Пасторали» Соловьева.
Полезно различать три понятия: «схема строфы» (только порядок рифм, например ААБВВБ), «вариант схемы строфы» (тот же порядок, но с уточнением позиций мужских и женских окончаний, например ааБввБ и АабВВб) и «модель строфы» (тот же порядок рифм и то же расположение окончаний, но в применении к конкретному размеру, столько-то-стопному хорею или ямбу). Схема шестистопной строфы во всех трех стихотворениях одна. Но второе стихотворение дает иной вариант схемы, чем первое: женские и мужские окончания меняются местами, поэтому первое звучит более отрывисто (частые стыки ударений на стихоразделах), а второе более плавно и летуче (так ли это на ваш слух?). Третье же стихотворение дает тот же вариант схемы, но иную модель строфы, чем первое: оно написано не хореем, а ямбом тех же стопностей. Хорей традиционно употребляется для более легкой тематики, ямб – для более серьезной; в соответствии с этим второе стихотворение (при жизни автора не печатавшееся) должно было, по-видимому, служить вступлением к циклу эротических стихов «Занавешенные картинки» (где не все, но многое называлось своими именами), а третье стихотворение, замыкающее пьесу «Вторник Мэри» после самоубийства лирического героя, содержит нимало не шутливые раздумья о том, как пути всех людей ведут к одному концу.
ВОСЬМИСТИШИЯ ГЮГО
№ 165
Осенью
Рдяны краски,
Воздух чист;
Вьется в пляске
Красный лист, –
Это осень,
Далей просинь,
Гулы сосен.
Веток свист
Ветер клонит
Ряд ракит,
Листья гонит
И вихрит
Вихрей рати,
И на скате
Перекати-
Поле мчит.
Воды мутит,
Гомит гам,
Рыщет, крутит
Здесь и там –
По нагорьям,
Плоскогорьям,
Лукоморьям
И морям. | |
Заверть пыли
Чрез поля
Вихри взвили,
Пепеля;
Чьи-то руки
Напружили,
Точно луки,
Тополя.
В море прянет –
Вир встает,
Воды стянет,
Загудет,
Рвет на части
Лодок снасти,
Дышит в пасти
Пенных вод.
Ввысь, в червленый
Солнца диск –
Миллионы
Алых брызг!
Гребней взвивы,
Струй отливы,
Коней гривы,
Пены взвизг...- М. Волошин, 1907
|
Восьмистишие – одна из самых распространенных и семантически нейтральных строф. Обычно оно представляет собой сочетание двух четверостиший (чаще с одинаковым, реже с различным расположением рифм; при различном для начала обычно берется более простое расположение рифм, например АБАБ, а для конца – более сложное, например АББА) и в таком случае пишется на 4 пары рифм. Пример такого самого обычного восьмистишия из двух перекрестных четверостиший – № 54. Реже всего восьмистишие образуется при помощи нанизывания на 2 пары рифм (АБАБАБАБ – сицилиана, см. № 168), чаще – путем концовочной добавки (октава, см. № 166) на 3 пары рифм. При помощи затягивания оно может образовываться очень разнообразно (АААБВВВБ, ААБВВБАБ и др.). Один из этих вариантов – АбАбВВВб – получил известность потому, что Виктор Гюго написал этой строфой длинную балладу «Турнир короля Иоанна», очень трудным сверхкоротким трехсложным силлабическим стихом, передаваемым в силлабо-тонике 2-ст. хореем. Баллада эта динамичная, бурная; Волошин, выбирая размер и строфу для своего стихотворения об осеннем ветре, несомненно, рассчитывал на эти ассоциации у читателя. Всюду ли у Волошина выдержана одинаковость строф?
ОКТАВА, НОНА, СИЦИЛИАНА
№ 166
Октавы
Вот я опять поставлен на эстраде,
Как аппарат для выделки стихов.
Как тяжкий груз, влачится в прошлом сзади
Бессчетный ряд мной сочиненных строф.
Что ж, как звено к звену, я в длинном ряде
Прибавить строфы новые готов.
А речь моя привычная лукаво
Сама собой слагается октавой.
Но чуть стихи раздались в тишине,
Я чувствую, в душе растет отвага.
Ведь рифмы и слова подвластны мне,
Как духи элементов – зову мага.
В земле, в воде, в эфире и в огне
Он заклинает их волшебной шпагой.
Так, круг магический замкнув, и я
Зову слова из бездн небытия. <...>- В. Брюсов, 1918
№ 167
Поэма в нонах
(Отрывок)
Рассказ мой в трех словах изобразить легко:
Младенцем я был хил, болезненно способен;
Мечтами юности ширял я далеко,
И был как Дон-Кихот беспечен и беззлобен.
Натура нервная, я принял глубоко
Все, чем в России год усобиц был утробен
(Год Витте, Дурново, Иванова и К o);
В чужих краях меня загрызла до психоза
Тоска по родине. – Все «умственно» и проза.
(Медлительной своей ревнителей пера
Давно порадовать хотелось мне поэмой.
Лирических стихов прелестная игра,
Одной спокон веков очерченная схемой,
Мне надоела. Их душа всегда стара,
А к новой юности и к новой красоте мой
Стремится дух. Кончать октаву мне пора,
Но я обычным здесь не подчинюсь законам
И дерзкие стихи расположу по «нонам»). <…>
- В. Пяст, [1912]
№ 168
* * *
- Вл. Пясту
Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: выходи!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! –
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи!
Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти, –
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!
- А. Блок, 1908
В итальянской поэзии была народная песенная форма «страмботто» – нанизывание чередующихся рифм АБАБАБ... Из нее развилось несколько строф, получивших употребление в итальянской поэзии и одна – в международной. Восьмистишие (ottava rima) АБАБАБАБ получило название «сицилианская октава», или просто сицилиана; восьмистишие АБАБАБВВ – «тосканская октава», или просто октава; девятистишие (nona rima) АБАБАБАВВ – нона (впрочем, у ноны были и другие варианты). Октава получила широкое распространение в поэмах итальянского Возрождения, отсюда была заимствована поэтами европейского романтизма и через байроновского «Дон-Жуана» и пушкинский «Домик в Коломне» попала в русскую поэзию.
Стихотворение Брюсова, начало которого здесь приводится, – его импровизация на заданную тему на вечере поэзии в одном из московских кафе 1918 г. Строфы В. Пяста – начало автобиографичекой поэмы (содержание которой сжато пересказано в первой строфе; год усобиц – 1905); с формой ноны Пяст был знаком как филолог-романист. Именно Пясту посвящено знаменитое стихотворение Блока, написанное – намеренно или ненамеренно – рифмовкой сицилианы, хотя и необычным для этой формы размером (каким?). Обратите внимание на богатые рифмы в стихах Блока и смысловой перебой их в концовке.
СПЕНСЕРОВА СТРОФА
№ 169
Всадник
(Отрывок)
Дремучий лес вздыбил по горным кручам
Зубцы дубов; румяная заря,
Прогнавши ночь, назло упрямым тучам,
В ручей лучит рубин и янтаря.
Не трубит рог, не рыщут егеря,
Дороги нет смиренным пилигримам, –
Куда ни взглянь – одних дерев моря
Уходят вдаль кольцом необозримым.
Все пламенней восток в огне необоримом.
Росится путь, стучит копытом звонкий
О камни конь, будя в лесу глухом
Лишь птиц лесных протяжный крик и тонкий,
Да белки бег на ствол, покрытый мхом.
В доспехе лат въезжает в лес верхом,
Узду спустив, младой и бледный витязь.
Он властью сил таинственных влеком.
Безумен, кто б велел: «остановитесь!»
И кто б послу судьбы сказал: «назад вернитесь». <...>
- М. Кузмин, 1908
Спенсерова строфа названа именем английского поэта, но вдохновлялся он французскими образцами. Во французской средневековой поэзии (XIV—XV вв.) очень популярной строфой было восьмистишие, составленное из двух четверостиший перекрестной рифмовки с одной общей рифмой: АБАБ + БВБВ. Такими строфами писались, между прочим, французские баллады (см. № 207—208). В XVI в. Эдмунд Спенсер для своей поэмы «Королева фей» взял схему этого восьмистишия и добавил к нему девятый стих, длиннее предыдущих: получалась строфа из восьми 5-ст. ямбов и одного 6-ст. ямба с рифмовкой АБАББВБВВ. Эта «антиклаузульная» (см. № 176) строфа получила его имя; в XIX в. ее вторично прославил Байрон, написав ею «Странствие Чайльд Гарольда». Однако Кузмин, выбрав ее для своей небольшой аллегорической поэмы «Всадник», рассчитывал не на байроновские, а на спенсеровские ассоциации этой строфы: рыцарское средневековье, преломленное через восприятие Возрождения. Обратите внимание, что все строки 5-ст. ямба здесь цезурованные (ср. № 78): это напоминание даже не о Спенсеровой, а о французской поэзии, потому что именно из нее русский 5-ст. ямб унаследовал эту цезуру.
ОДИЧЕСКАЯ СТРОФА
№ 170
Наброски оды
Волокна, мышцы все теснятся
Вперед и вверх, тепло и дух
Зовут, чтоб силами меняться,
Чтоб совершился жизни круг.
Огни земли, огни лесные
Варят для них плоды земные,
Густые, плотные плоды.
И вот, впитав их соки, тело
Опять раздвинуло пределы,
Опять растут людей роды.
И крови мерное теченье
Приемлет тела, солнца жар,
И в сердце плеск круговращенья
Кипит; как в небе звездный шар.
По сердцу, по среде томиться
И вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь.
Ей в срок урочный возвращаться,
Чтоб вновь извне обогащаться,
Чтоб ткать живые ткани вновь.
И все творит, и все струиться,
И тело – тьмя сплоченных сил.
Но нечто от ума таиться:
Их много – я один пребыл.
Сейчас лишь здесь толпы их были,
Теперь уж сплыли и забыли:
Я не могу быть там тогда.
Когда б я был всегда и всюду,
То мне не быть, иль сбыться чуду:
Я – это мест, минут чреда.- И. Коневской, 1900
Десятистишие с рифмовкой АбАб+ВВгДДг (реже – аБаБ+ввГддГ) в начале XVII в. было употреблено французским поэтом Малербом в жанре торжественной оды и с тех пор стало самой распространенной одической строфой и во французской, и в немецкой, и в русской поэзии: почти все оды Ломоносова написаны именно такими строфами. Обычно первое четверостишие служит формулировке основной темы строфы, а последующее шестистишие (напоминающее строением раздвинутое четверостишие) является ее разработкой и развитием. Когда жанр оды вышел из употребления, одическая строфа тоже забылась и воскресала лишь в стилизациях, как, например, в этой раннесимволистской философской оде о месте «я» в строе вселенной.
ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА
№ 171
Безмолвие
Я в жизни верую в значенье
Молитв, сокрытых тишиной,
И в то, что мысль – прикосновенье
Скорбящих душ к душе родной...
Вот почему я так упорно
Из тесноты на мир просторный,
Где только пядь межи – мой дом,
Гляжу в раздумии немом…
И оттого в томленьи духа,
Благословляя каждый час,
Что есть, что вспыхнет, что погас,
Безмолвный жрец, я только глухо
Молюсь святыне Бытия,
Где мысль – кадильница моя...- Ю. Баотрушайтис, 1918
Онегинская строфа, созданная Пушкиным для своего романа в стихах, – одна из самых длинных в русской поэтической практике: 14 стихов с рифмовкой АбАб+ВВгг+ДееД+жж. Таким образом, здесь следуют друг за другом четверостишия всех трех возможных рифмовок – перекрестной, парной и охватной, а затем заключительное двустишие. Перекрестная рифмовка ощущается как умеренно сложная, парная – как более простая, охватная – как наиболее сложная, двустишие – как самая простая: получается чередование то большего, то меньшего напряжения. Часто первое четверостишие задает тему строфы, второе ее развивает, третье образует тематический поворот, а двустишие дает четко сформулированное разрешение темы. Такую композицию можно проследить и в стихотворении Балтрушайтиса.
Было много подражаний, написанных онегинской строфой, – начиная с «Тамбовской казначейши» Лермонтова («Пишу Онегина размером...»). В начале XX в. М. Волошин стал употреблять онегинскую строфу для задумчивых посланий («Я соблюдаю обещанье / И замыкаю в четкий стих / Мое далекое посланье. / Пусть будет он, как вечер, тих, / Как стих «Онегина» прозрачен...»); у него нашлись продолжатели. Это любопытно: вероятно, форма онегинской строфы связывалась в сознании писавших и читавших с письмами Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне, хотя именно эти письма в романе написаны не онегинской строфой, а астрофически. Как бы осколками таких раздумий являются несколько стихотворений Балтрушайтиса 1910-х годов, из которых каждое представляло онегинскую строфу.
В порядке соперничества изобретались и другие строфы подобные онегинской. Почти тотчас вслед за Пушкиным Баратынский написал свою поэму «Бал» тоже четырнадцатистишиями, но другого строения (найдите эту поэму у Баратынского, составьте схему строфы и подумайте, в чем разница вашего впечатления от строфы Пушкина и от строфы Баратынского). А в 1927 г. В. Набоков написал «Университетскую поэму», перевернув порядок рифмовки онегинской строфы от конца к началу. Любопытно, что ему пришлось все же сделать одно нарушение: заменить женские рифмы на мужские и мужские на женские, чтобы строфа начиналась женским окончанием, а кончалась мужским (№ 65—74). Получилась последовательность: АА+бВВб+ГГдд+ЕжЕж. Например:
Я по утрам, вскочив с постели,
летел на лекцию. Свистели
концы плаща – и наконец
стихало все в холодноватом
амфитеатре, и анатом
всходил на кафедру – мудрец
с пустыми детскими глазами;
и разноцветными мелками
узор японский он чертил
переплетающихся жил
или коробку черепную;
чертил, – и шуточку нет-нет
да и отпустит озорную, –
и все мы топали в ответ.
Чем такой вариант кажется слабее пушкинского оригинала? Думается, вот чем. Начальные строки, вопреки намерению автора, членятся не на АА+бВВб, но, по стремлению к симметрии, на ААб+ВВб (ср. № 165); за ними следует четверостишие ГГдд, своими мужскими стихами как бы уже завершающее строфу, а после этого последние строки ЕжЕж кажутся избыточным довеском. (Так ли это по вашему ощущению?) Набоков пытался избежать такого впечатления средствами синтаксиса – не допуская (по возможности) концов фразы после 6-й и 10-й строк, как в приведенном примере.
Но главный интерес балтрушайтисовского стихотворения в другом. Оно – однострофично: собственно, мы даже не вправе здесь говорить о строфе, потому что строфичность предполагает повторение какой-то структуры сочетания строк, а здесь никакого повторения нет. Тем не менее оно опознается как онегинская строфа всяким читателем, знакомым с «Евгением Онегиным». Это значит, что онегинская строфа употреблена здесь не как строфа, а как твердая форма: строфа воспринимается как повторение на фоне других строф того же стихотворения, а твердая форма воспринимается как повторение на фоне других стихотворений, написанных в той же форме. Такими твердыми формами будут триолет, рондо, сонет и многие другие рассматриваемые далее образцы.
СУБСТРОФЫ И СУПЕРСТРОФЫ
№ 172
Николино житие
- 1
В раздробленной нашей доле,
В замерзающем конце
Вспомним, братья, о Николе,
Устроительном отце.
Зарно зыкнет зимний звон,
Замаячат майски свечи,
Расколдуется канон
Для желанной, жданной встречи.
Прибирай, душа, обитель,
Уготовь тесней затворец,
Припадет к тебе святитель,
Мирликийский чудотворец. <...>
- 35
<...> Чудотворцы – те же люди,
Правит ими тот же рок.
Мысли все еще о чуде,
Как приходит смертный срок.
И Николин час пробил
(Боже, смилуйся над нами!):
Кто слезу нам осушил,
Мы о том восплачем сами.
Чтобы Западу с Востоком
Съединиться в братской паре,
Пренесен небесным роком
Прах святой из Мир во Бари.
- 36
Прославляйся и красуйся,
Славный Бари городок!
Божий сын, Христос Исусе,
Тебя славою облек.
Солнце майское, сияй,
Розовейте, зимни зори,
Вертоградный славим рай
В серафимском лирном хоре.
О Никола, святец зимний,
О Никола, святец вешний,
Простецы, прославим в гимне
Отсвет благости нездешней.- М. Кузмин, 1919/1920
№ 173
Казнь
Туманно утро красное, туманно,
Да все светлей, белее на восходе,
За темными, за синими лесами,
За дымными болотами, лугами...
Вставайте, подымайтесь, псковичи!
Роса дождем легла на пыль,
На крыши изб, на торг пустой,
На золото церковных глав,
На мой помост средь площади...
Точите нож, мочите солью кнут!
Туманно солнце красное, туманно,
Кровавое не светит и не греет
Над мутными, над белыми лесами,
Над росными болотами, лугами...
Орите позвончее, бирючи!
– Давай, мужик, лицо умыть,
Сапог обуть, кафтан надеть,
Веди меня, вали под нож
В единый мах – не то держись:
Зубами всех заем, не оторвут!- И. Бунин, 1915
Поэма «Николино житие» (о чудотворце Николае Мирликийском, родившемся в IV в. в Малой Азии в Мирах Ликийских, а погребенном в Южной Италии в Бари) была написана М. Кузминым голодной зимой 1919—1920 гг. и при жизни поэта не печаталась; мы приводим первую и последние ее строфы. Строфы эти – двенадцатистишия, очень четко членящиеся каждая на три четверостишия, каждое со своим чередованием мужских и женских рифм: АбАб+вГвГ+ДЕДЕ. Отчетливость членения ощутима в значительной степени из-за крушения правила альтернанса (№ 184) – резкого стыка нерифмующих мужских окончаний в 4-й и 5-й строках. В первом четверостишии как бы намечается волна окончаний (самая привычная) – ЖМ...; во втором – она как бы откатывается в обратной последовательности, МЖ...; в третьем – эти два контрастные движения как бы нейтрализуются в единородном ЖЖ... (При желании это можно вообразить себе наглядно, вспомнив, что когда-то поэзия была неразрывна с песней и пляской. Представим себе хоровод, который движется в одну сторону и поет первое четверостишие; потом движется в обратную сторону и поет второе четверостишие; потом, вернувшись в исходное положение, поет третье четверостишие. Именно так пелись и строились строфы в античной лирике и отчасти в народной средневековой – ср. № 186—193. Убедительна ли для вас эта аналогия?)
Если мы выделяем в «Николином житии» не только двенадцатистишные строфы, но и четверостишия внутри каждой строфы, то эти четверостишия тоже имеют право на терминологическое звание. Мы предлагаем для этого термин субстрофа («подстрофа»); в общее употребление он еще не вошел, но потребность в нем, как кажется, имеется. В самом деле, как иначе назвать, например, три четверостишия и двустишие, на которые ощутимо делится онегинская строфа АбАб+ВВгг+ДееД+жж (см. № 171)?
А теперь вообразим, что Кузмин напечатал свою поэму с отбивками не после каждого двенадцатистишия, а после каждого четверостишия. Как мы будем воспринимать эту россыпь четверостиший? Вероятно, сперва запутаемся в разнообразии их рифмовок, потом уловим их последовательность, а потом будем воспринимать их группами по три четверостишия, как задумывал и писал Кузмин: наше сознание будет предчувствовать рифмовку каждого очередного четверостишия («строфическое ожидание», скажем мы по аналогии с «ритмическим» и «рифмическим» ожиданием), и это предчувствие будет подтверждаться. Но как быть с терминами? Разбивкой текста поэт велит нам называть четверостишия «строфами» (пусть «нетождественными», «свободными» – см. № 182); как же мы должны называть столь ощутимые нами однородные трехстрофия? Мы предлагаем для этого термин суперстрофа («сверхстрофа»). В общее употребление он тоже не вошел, но потребность в нем еще более очевидна. Так, античная хоровая лирика, как сказано, писалась именно такими трехстрофиями (каждая строфа выделена отбивкой!) – суперстрофами; и она вызывала подражания. Прочтите внимательно стихотворение Державина «Осень во время осады Очакова», следя за чередованием в ней рифмованных и нерифмованных восьмистиший, и вы найдете в ней такие же трехстрофия – суперстрофы.
Более же простые суперстрофы – двустрофия – встречаются нам на каждом шагу в популярнейшем жанре – песнях. В самом деле, в песне чередуются запев (строфа, куплет) и припев, обычно с другим ритмом, на другой мотив; эти пары «запев – припев» и проходят через всю песню. Литературная имитация такого чередования – например, в отрывке из поэмы Цветаевой «Молодец» (№ 105).
Стихотворение Бунина «Казнь» заведомо никогда не пелось, но народные, в том числе песенные, ассоциации для автора были очень важны, и поэтому оно написано именно такими суперстрофами-двустрофиями: две пары пятистишных строф, и в каждой паре первая – это 5-ст. ямб от начала до конца, а вторая – это 4 строки другого размера [какого? Вопрос нелегкий: сперва присмотритесь, на котором слоге находится ударная константа (№ 60—63), на 6-м или на 8-м, а потом отвечайте] и лишь последняя – опять 5-ст. ямб. Параллелизм образов и синтаксиса между однородными 1-й и 3-й строфами вы, конечно, заметили сами. А заметили ли вы, что в этом, казалось бы, нерифмованном стихотворении последние строки нечетных строф рифмуют между собой и последние строки четных строф тоже?
Нам удалось найти суперстрофу, растянутую даже на целое стихотворение:
№ 174
Бумеранг
Одетая солнцем опушка,
И утра стыдливый покой,
И клонится ивы верхушка
Над радостно зыбкой рекой.
Над зоркой открытой поляной
Древесный всклокочен навес;
Лазурными тайнами пьяный,
Весь в таинстве шелеста лес.
Чуть тронуты розовой краской
Изгибы зеленой каймы,
И – трепетно скрытые маской –
Капризно призывны холмы. | | Всегда неразлучные – мы –
– Пускай это кажется сказкой –
И в сонности мягкой зимы,
И в поступи осени вязкой.
Завязаны нитью чудес,
Блуждаем с улыбкой румяной
Все там, где нахмуренный лес
Граничит с беспечной поляной.
Разгадана яви людской
Нелепая, злая ловушка –
И радужен утра покой,
И рядится в солнце опушка. |
| В. Пяст, 1903 |
Неожиданное заглавие (потом убранное автором) указывает на то, что с середины стихотворения (стык рифм «холмы- мы») начинается повторение рифм (а затем и рифмующих слов) в обратном порядке: если обозначить одинаковыми буквами строфы, зарифмованные одинаковыми рифмами, то последовательность строф будет А, Б, В, В, Б, А. Имеем мы право сказать, что эти шесть четверостиший срастаются в одну суперстрофу?
АНТИСИММЕТРИЧНЫЕ И АНТИКЛАУЗУЛЬНЫЕ СТРОФЫ
№ 175
***
Земному счастью
Учись не днем, не меж людей:
Ночною властью
Ты нераздельно овладей, –
И по безлюдью
В напеве сладостном стремись,
Вдыхая грудью
И блеск, и тьму, и ширь, и высь.
А под стопою –
Морей таинственных ладья –
Одна с тобою
Земля волшебная твоя.
- Ю. Верховский, [1917]
№ 176
* * *
Раскрыта ли душа
Для благостного зова
И все ль принять готова,
Безвольем хороша,
Боголюбивая душа?
Влачится ли в пыли,
Полна предрассуждений,
И сети наваждений
Немую оплели
В непроницаемой пыли?
Ты будешь вечно ждать,
Когда тебя, милуя,
Святыней поцелуя
Отметит благодать, –
Ты будешь неусыпно ждать.
- Ю. Верховский, [1917]
К первому из этих стихотворений Юрий Верховский поставил эпиграф из концовки стихотворения Фета «Одна звезда меж восьми дышит...»:
...Чем мы горим, светить готовоВо тьме ночей;
И счастья ищем мы земного
Не у людей.
Строфа Фета четко делится на две полустрофы; каждая полустрофа состоит из двух строк, сперва длинной, потом короткой (по скольку в них стоп?). Такая последовательность кажется естественной и благозвучной, потому что мы уже знаем (см. № 65—74): укороченные строки как бы побуждают делать после себя паузу и поэтому служат привычным знаком концовки. Верховский построил свою строфу противоположным образом: в каждой полустрофе первая строка короткая, вторая длинная; такие строфы встречаются гораздо реже и звучат непривычно, неровно и взволнованно. (Так ли это на ваш слух?) Французские стиховеды называют такие строфы, как у Фета, симметричными, а такие, как у Верховского, – антисимметричными.
Слово «клаузула» по-латыни значит «окончание, концовка, заключение». Если в симметричных строфах укорочены последние строки каждой полустрофы, то в клаузульных строфах укорочены только последние строки каждой строфы. Знаменитый пример из Пушкина:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорнойАлександрийского столпа.
Соответственно антиклаузульными французы называют строфы, в которых последний стих не укорочен, а удлинен. Они употребляются гораздо реже и тоже задевают слух необычностью. Именно так построено второе стихотворение Верховского. Заметьте, что удлиненные строки здесь выделены и по содержанию: они не развивают тему (их можно было бы отбросить, и стихотворение осталось бы осмысленным), а вместо этого возвращают читателя к начальной строке строфы и даже повторяют ее рифмующее слово (тавтологическая рифма – ср. № 28). От этого движение мысли в стихотворении кажется замедленным, как бы откликаясь на основную тему стихотворения: «...ждать».
СДВОЕННЫЕ СТРОФЫ
№ 177
Ночь перед рождеством
Тихо в комнате моей.
Оплывающие свечи.
Свет неверный на стене.
Но за дверью слышны мне
Легкий шорох, чьи-то речи.
Кто же там? Входи скорей.
Полночь близко – час урочный!
Что толочься у дверей?
Дверь, неясно проскрипев,
Растворилась. Гость полночный
Входит молча. Вслед за ним
Шасть другой. А за другим
Сразу два, и на пороге
Пятый. Лица странны: лев,
Три свиньи и змей трехрогий
Позади, раскрывши зев.
Ну и гости! Ждал иных.
Говорю им: скиньте хари,
Неразумные шуты,
И скорей свои хвосты
Уберите! Не в ударе
Вы сегодня. Видно, злых
Нет речей и глупы шутки –
Только я-то зол и лих.
Зашипели. Сразу злей
Стали рожи. Ветер жуткий
Дунул вдруг – и свет потух.
Но вдали запел петух –
Свиньи в дверь, а лев кудлатый
За окно, и в печку змей.
Что же, бес иль сон проклятый
Были в комнате моей?- А.Д. Скалдин, [1916]
№ 178
Из цикла «Гобелены»
Петли у шелковой лестницы
Цепко к карнизу прилажены.
Скоро ли сдастся маркизу
Сердце усталой прелестницы?
Лестно ведь, плащ свой разматывая,
Глянуть в замочную скважину.
Разве желанья не станет
Руки лобзать бледно-матовые?
Лестно за серой портьерою
Сладкое имя Эмилии
Робко промолвить украдкою,
В звезды счастливые веруя.
Только бы вдруг появлениями
Граф не нарушил идиллии –
Нежно-влюбленные души
Тешатся уединениями.- Вс. Курдюмов, 1911
Первое стихотворение написано восьмистишиями сложного строения. Если прочитать первую строфу и остановиться, то покажется, что рифмовка его – аБввБаХа: предпоследняя строка остается без рифм, читательский слух застывает в обманутом напряжении. Но если прочитать второе восьмистишие, то повисшая строка найдет себе в нем рифмующую пару («урочный – полночный»), и рифмовку этих двух восьмистиший можно будет записать: аБввБаГа+дГееЖдЖд. В следующих двух восьмистишиях повторяется точно такая же последовательность рифм. Это значит, что стихотворение написано не просто восьмистишиями, а парами восьмистиший – как бы суперстрофами (№ 175). Такие сдвоенные строфы употреблялись в русской поэзии сравнительно редко; однако, например, в цикле стихов Блока «Страшный мир» вы можете найти целых два стихотворения, написанных «сдвоенными пятистишиям» (Найдите!)
Постоянное напряжение рифмического ожидания должно подчеркивать то тревожное настроение, которое содержится в стихотворении. Здесь ему еще способствуют ассоциации со стихами Пушкина: во-первых, со сном Татьяны из «Евгения Онегина», а во-вторых (так ли это на ваш слух?), с интонациями «Стихов, написанных ночью во время бессонницы», которые тоже написаны 4-ст. хореем и начинаются строкой с мужским окончанием (в 4-ст. хорее это нечасто).
По сравнению с этим строение второго стихотворения может показаться простым (тема его ведь тоже гораздо банальнее). С первого взгляда, оно состоит из двух пар четверостиший, зарифмованных АБХА+ВБХВ, где X – женское окончание (только ли?), перекидная рифма Б – дактилическая, а из двух охватных А – дактилическая и В – гипердактилическая (сразу ли уловили вы эту тонкую разницу?). Третья строка каждого четверостишия кажется незарифмованной (холостой), и неудовлетворенное ожидание рифмы к ней придает восприятию строфы особую остроту. Но на самом деле она зарифмована! Только рифма к ней спрятана внутри предыдущей строки, где ее не ждешь, и поэтому остается незамеченной: «карнизу – маркизу», «глянуть – станет», «сладкое – украдкою», «нарушил – души». Это – рифмы в необычных местах строки (ср. № 40—42). В нечетных четверостишиях (с дактилическими А-рифмами) они точные, в четных четверостишиях (с гипердактилическими В-рифмами) они неточные. (Сразу ли уловили вы и эту тонкую разницу?)
ТЕРЦИНЫ И ЦЕПНЫЕ СТРОФЫ
№ 179
***
Сырые дни. В осенних листьях прелых
Скользит нога. И свищет ветр в тени
Плохие песни. Лучше б он не пел их.
На край небес краснеющий взгляни.
Лохмотьями кумачными рубахи
Висит закат на лужах. Злые дни!
Дрожат деревья в чутком вещем страхе.
Земля, как труп неубранный, лежит.
Как труп блудницы, брошенной на плахе.
Глаз выклеван. Какой ужасный вид!
Зияет здесь запекшаяся рана,
Здесь кровь струей из синих губ бежит,
Здесь дождь не смыл дешевые румяна,
Желтеют груди в синих пятнах все.
Припухшая мягка округлость стана.
Вороны гимн поют ее красе.
Такой ты будешь поздно или рано.
Такими – рано ль, поздно – будем все.
Чу! Крик ворон ты слышишь из тумана.- С.В. Киссин (Муни), [1913]
№ 180
* * *
Глядит печаль огромными глазами
На золото осенних тополей,
На первый треугольник журавлей,
И взмахивает слабыми крылами.
Малиновка моя, не улетай,
Зачем тебе Алжир, зачем Китай?
Трубит рожок, и почтальон румяный
Вскочив в повозку, говорит: «Прощай»,
А на террасе разливают чай
В большие неуклюжие стаканы.
И вот струю крутого кипятка
Последний луч позолотил слегка.
Я разленился. Я могу часами
Следить за перелетом ветерка
И проплывающие облака
Воображать большими парусами.
Скользит галера. Золотой гриффон
Колеблется, за запад устремлен...
А школьница-любовь твердит прилежно
Урок. Увы – лишь в повтореньи он!
Но в этот час, когда со всех сторон
Осенние листы шуршат так нежно,
И встреча с вами дальше, чем Китай,
О грусть влюбленная, не улетай!- Г. Иванов, [1920]
№ 181
Колеса
Сон молнийный духовидца
Жаждет выявиться миру.
О, бессмысленные лица!
О, разумные колеса!
Ткут червонную порфиру,
Серо-бледны, смотрят косо
И под гул я строю лиру
За ударом мчатся нити.
И на лицах нет вопроса,
И не скажут об обиде.
И зубчатые колеса
Поцелуев вязких ищут.
На железный бег смотрите!
Челноки, как бесы, рыщут.
Напевая дикой прыти,
Свиристит стальная птица.
Рычаги, качаясь, свищут.
Реют крылья духовидца.- В. Бородаевский, [1909]
В сдвоенных строфах перекидывающаяся межстрофная рифма связывает 1-ю и 2-ю, 3-ю и 4-ю, 5-ю и 6-ю строфы и т.д. Если же сделать так, чтобы перекидывающаяся рифма связывала каждую строфу со следующей за ней – 1-ю и 2-ю, 2-ю и 3-ю, 3-ю и 4-ю... – то перед нами будет непрерывная цепь строф, связанных между собою рифмами. Такие строфы называются цепными.
Простейшая и наиболее известная разновидность таких строф – это терцины (итал. Terza rima, «третья рифма»): трехстишия АБА, БВБ, ВГВ, ГДГ... Предполагают, что терцинная рифмовка развилась из ритурнельной (АХА, БХБ, ВХВ... – см. № 195). Терцинами написана «Божественная Комедия» Данте; с тех пор любое произведение, написанное терцинами, ассоциируется именно с нею. (Найдите среди стихотворений Пушкина 1830—1833 гг. два, написанных терцинами, и скажите, какие ассоциации использованы в них. Какими размерами написаны эти пушкинские стихотворения?) Обычно терцинами пишутся длинные произведения: в коротких стихотворениях [как здесь у С.В.Киссина (Муни) в его подражании Бодлеру; найдите в нем тавтологическую рифму] они редки.
Вяч. Иванов считал, что для того, чтобы терцины ощущались терцинами, а не просто плавным плетением рифмующих строк, по меньшей мере два-три трехстишия должны кончаться точкой. Следовал ли он сам этому правилу, пока не вычислено.
Остальные виды цепных строф разнообразны и особых названий не имеют. В стихотворении Г. Иванова схема рифмовки: АббАвв ГввГдд ЕддЕжж... Обратите внимание: в терцинах цепное строение замечается сразу, а в строфе Иванова может остаться и незамеченным; это потому, что в трехстишии терцин всегда есть висячая, ожидающая рифмы строка, а в шестистишии Иванова каждая рифма имеет свою пару, и поэтому продолжение его последней рифмической цепи (вв...) в следующей строфе кажется необязательным, избыточным. По этой же причине в конце терцин всегда приходится прибавлять еще одну строчку вне строф, чтобы подхватить последнюю рифму, а в конце ивановских шестистиший этого не нужно.
Схему рифмовки третьего стихотворения определите сами; она здесь самая сложная, в ней есть строфические цепи, соединяющие даже не две, а три строфы. (Одна рифма в этом стихотворении – неточная; какая?)
СВОБОДНЫЕ СТРОФЫ
№ 182
О, Дама пик!
Колосья тяжелы и полдень мягко-зноен
И небо пахаря бездумно и светло
Как звонко в воздухе здоровое «Hallo!..»
Бегут разбеги ржи... Степенен и достоин.
Размерный звон зовет на празднество, в село.
Мне грустно потому, что я теперь спокоен,
Мне грустно потому, что счастие пришло.
Чего, чего мне ждать в моем разумном мире?
Все достижимое я на земле достиг...
Моя Эсфирь живет в правдивости и в мире
И стал правдив и добр мой ум и мой язык...
Я бросил глетчеры, я руку дал Эсфири,
Я в соты мед принес офортов, нот и книг...
Но ночью изредка смеется дама пик!
Зачем меня с собой не уведет она?
Ведь в величавый час, когда взойдет луна
И декламируют старинные куранты
Те заклинания, что знают некроманты,
Ведь дама пик сведет, блистательно-страшна,
На фестивал в аду, насмешливо-галантный,
Монаха, пьяницу, безумца и лгуна!- А. Лозина-Лозинский, [1916]
По определению, строфа – это группа стихов, объединенных такой структурой, которая повторяется периодически. Элементами такой структуры в силлабо-тоническом рифмованном стихе обычно являются: 1) одинаковое количество строк, 2) одинаковый размер или одинаковое чередование размеров, 3) одинаковый характер рифм (мужские, женские...) и одинаковое их чередование. Но возможен и такой случай, когда один или несколько из этих признаков входят в структуру и остаются свободными. Таково это стихотворение. Строфы в нем одинаково семистишны (редкий объем!), одинаково написаны 6-ст. ямбом, каждая строфа – на две рифмы, мужскую и женскую, но расположение рифм в каждой строфе иное: АббАбАб, АбАбАбб, ааББаБа. Несмотря на это, соотнесенность строф остается ощутимой, и это позволяет считать стихотворение строфическим. Однако если вообразить это стихотворение напечатанным без отбивок, подряд, то, скорее всего, ощущение строфичности исчезнет: роль графических строфоразделов здесь такая же, как роль графических строкоразделов в свободном стихе (№ 2). Такие стихи называются свободными строфами, или вольными стансами (термины не общепринятые); в книге А. Лозины-Лозинского «Троттуар» (Пг., 1916) так написано не менее 18 стихотворений. Ср. также вольные шестистишия в № 51 («Тучелет»).
АСТРОФИЧЕСКИЙ СТИХ (ВОЛЬНАЯ РИФМОВКА)
№ 183
Раздор князей
Не в день осенний журавли
С призывным криком мчатся к югу:
С окраин Киевской земли,
Вражду забывшие друг к другу,
Князья стекаются на съезд
В старинный Любеч. Ярче звезд
Их шлемы блещут. Под харлужным
Булатом весело кипит
Их кровь удалая, и щит,
Как жар, горит на солнце южном.
Вражду из-за своих земель
Они забыть желают ныне.
Покинув злачную постель
Своей красавицы Волыни,
Приехал хитрый князь Давид,
Смиренный, вкрадчивый на вид,
Но сердцем злобный и лукавый,
И простодушный Василько,
Уже покрытый бранной славой,
О нем гремящей далеко.
И, позабывши, как набегом
Олег терзал его поля,
Прощеньем сердце веселя,
Владимир обнялся с Олегом. <...>- С. Соловьев, 1914—1915
Это начало длинной поэмы из истории Киевской Руси: Любечский сьезд князей происходил в 1097 г.; Владимир в последней строке – Владимир Мономах; Давид и ослепленный им Василько – герои дальнейшего повествования; хар(а)лужный – эпитет, заимствованный из «Слова о полку Игореве».. Читатель легко улавливает здесь стилизацию под романтические поэмы пушкинской эпохи: выдержанный язык, 4-ст. ямб и, что сейчас для нас важнее всего, астрофический стих, или, как еще говорят, стих с вольной рифмовкой.
Астрофический («нестрофический») – это значит, что текст не расчленяется (ни по какому признаку) на группы стихов, объединенных структурой, повторяющейся периодически. В самом деле, посмотрим, как здесь следуют друг за другом четверостишия и двустишия с женскими (прописные буквы) и мужскими (строчные) рифмами: аБаБ, вв, ГддГ, еЖеЖ, зз, ИкИк, ЛммЛ... Никакой упорядоченности заметить невозможно: четверо- и двустишия, перекрестная и охватная рифмовка, чередование окончаний мЖмЖ и ЖмЖм располагаются в тексте вполне произвольно. Такие рифмически замкнутые, но не повторяющиеся куски астрофического текста иногда называются строфоидами. С. Соловьев еще сравнительно сдержан: поэты пушкинской поры, которых он брал за образец, свободно пользовались в качестве строфоидов не только четверо- и двустишиями, но и более длинными стихосочетаниями (АббАб, АбАбАб, АбАбВбВ и т.п.) – просмотрите с этой точки рения несколько страниц любой из ранних пушкинских поэм.
А теперь позволим себе скромную игру воображения. В предыдущем параграфе мы сказали: если вообразить себе свободные строфы А. Лозина-Лозинского напечатанными без отбивок, то они не ощущались бы как строфы – текст казался бы нам астрофическим. Теперь попробуем вообразить противоположное – будто этот текст С. Соловьева напечатан с отбивками после каждых 4 (или 5, или 6) строк, независимо ни от каких синтаксических пауз (точек) или границ рифмических цепей; как будет он восприниматься – как строфический или как астрофический? Установка, заданная поэтом на урегулированное членение, вступала бы в противоречие с установкой, задаваемой самим текстом, и степень этого противоречия могла бы быть то сильнее, то слабее, интересно играя «строфическими анжамбманами» (ср. № 2). В русской поэзии так никто еще не писал; желающие могут поэкспериментировать.
ПРАВИЛО АЛЬТЕРНАНСА
№ 184
Апостольский пир
В Апостольком дому кипит работа;
Назначен пир для избранных гостей.
Там отроки, как пчелы возле скота,
Кружатся у столов, и дар кистей,
Что к осени лелеял виноград,
С ломтями крупными подносят хлеба.
Весь в розах зал, как будто вешний сад,
И звезды ясные, мерцая с неба,
Им говорят о том, что нужно свечи
Уже возжечь: настал условный час,
Да в свете радостном польются свечи
Сладчайшие, рекомые за нас.
Не знаменье ли тайное дано:
Зима суровая, трещат морозы,
А на столах пурпурное вино
И милые благоухают розы?
Держать совет за чашей круговою
Из гроба темного на белый свет
Идут, одеты дымкой голубою,
Философ, полководец и поэт.
Здесь Александр, Гомер и Гесиод,
Платон и Дант и Пушкин с Соловьевым
И многие еще – венчанный род,
Победные, прославленные ловом
Сердец людских в божественные сети.
Их отроки встречают у дверей.
Сливаются уста в одном привете.
Апостолы с четой своих зверей,
С орлом и ангелом стоят и ждут,
Пока рассядутся. И мудрым словом,
Сжигающим, как раскаленный прут,
Прекрасный Иоанн к заботам новым
О мире страждущем и вечно ждущем
Своих гостей, поднявшись, призовет
И скажет так: «Пускай же к темным кущам,
К полям и городам направят лет
Все девять Муз, – к рабочим, пастухам
И к воинам. И легкого Гермеса
Пошлем мы с ними в поиски, чтоб к нам
Из темного подвала иль из леса
Иль из дворца богатого поэтов,
Художников достойнейших вели
И мудрых воинов. Мы, в Розе Светов,
Издалека пришедших и в пыли,
Омывши прах земной с их лиц и ног,
Усталых уберем из роз венцами,
Да тяжкий труд благословят дорог
И чистые воссядут вместе с нами».- А. Скалдин, 1912
В предыдущем параграфе мы сказали, будто строфоиды в поэме С. Соловьева следуют друг за другом «вполне произвольно». Это было не совсем точно. «Произвол» ограничивался одним правилом: если один строфоид кончался строкой с мужским окончанием, то следующий начинался строкой с женским, и наоборот. Это правило называлось правилом альтернанса (по-фр.: «чередования») и могло быть сформулировано так: «Нерифмующие стихи с одинаковым окончанием не могут стоять рядом». Правило это было выработано в поэзии французского классицизма и принято русской поэзией XVIII—XIX вв. Разумеется, к стихам на сплошные мужские или сплошные женские рифмы (например, у Балтрушайтиса, № 85, или Кузмина, № 133), которые во французской поэзии не употреблялись, это не относится.
Мы так привыкли к этому чередованию разных окончаний, что почти не замечаем его. Ощутить альтернанс поможет приводимое стихотворение А. Скалдина, нарочно написанное вопреки этому правилу. В нем чередуются четверостишия АбАб, вГвГ, ДеДе (и т.д.), так что на каждом стыке сталкиваются одинаковые окончания, имеющие разные рифмы. Чтобы это дополнительно подчеркнуть, четверостишия напечатаны без отбивок и синтаксически сцеплены между собой: на все стихотворение только в трех местах концы четверостиший совпадают с концами фраз (найдите их). Заметим, что именно в этих местах нарочитая шероховатость текстового потока смягчается: пауза между фразами ослабляет ощущение стыка. Это так естественно, что даже в классической поэзии на границах строф (самые сильные паузы!) допускался стык однородных нерифмующих окончаний. Вспомним «Фонтан» Тютчева: «Смотри, как облаком живым / Фонтан сияющий клубится; / Как пламенеет, как дробится / Его на солнце влажный дым. / (П а у з а.) / Лучом поднявшись к нему, он / Коснулся высоты заветной – / И снова пылью огнецветной / Ниспасть на землю осужден. / (П а у з а.) / О смертной мысли водомет...» и т.д. (Найдите это стихотворение и дочитайте его до конца. Не кажется ли вам, что эта форма – рифмовка мЖЖм и стыки окончаний – связана с содержанием тютчевского стихотворения, передает повторяющийся и вновь отбрасываемый порыв ввысь?)
Содержание стихотворения А. Скалдина – единение «в Апостольском дому» античного с христианским, духовного с мирским, военного с мирным – близко идеям Вяч. Иванова, учителя Скалдина. Александр, – конечно, Македонский; Соловьев – философ Вл. Соловьев; орел и ангел – символы евангелистов Иоанна и Матфея, чета зверей – телец и лев, символы евангелистов (не апостолов) Луки и Марка.
ПРАВИЛО СКРЕЩЕНИЯ РИФМИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
№ 185
* * *
Как неуемный дятел
долбит упорный ствол,
одно воспоминанье
просверливает дух. –
Вот все, что я утратила:
цветами убран стол,
знакомое дыханье
напрасно ловит слух. | | Усталою походкой
в иное бытие
от доброго и злого
ты перешел навек.
Твой голос помню кроткий
и каждое мое
неласковое слово,
печальный человек- С. Парнок, 1916/1921
|
|
Из правила альтернанса вытекает еще одно правило, как ни странно, твердого названия в стиховедении не имеющее. Мы позволили себе назвать его правилом скрещения рифмических цепей. Формулируется оно так: «Между двумя рифмующими строками могут находиться строки не более чем на одну рифму». Это значит: допустимы рифмовки АБАБ, АБАБАБ, АББА, АБББА АБББААБ и пр., но недопустимы, например, АБВБАВ, АБВГАГБВ и пр. В самом деле, в таких сложных скрещениях рифмических цепей трудно соблюсти правило альтернанса. Если, например, А – женское окончание (прописная буква), а б – мужское (строчная буква), то приведенные примеры будут выглядеть: АбВбАВ, АбВгАгбВ – в первом сталкиваются женские нерифмующие окончания А и В, во втором – мужские нерифмующие г и б. Поэтому такие скрещения рифмических цепей обычно допускаются в тех литературах, где окончания стихов преимущественно однородны, например в итальянской, где все они, как правило, женские, но не во французской и не в русской.
У этих двух правил есть простое психологическое обоснование. Человеческому сознанию, настроенному на рифмическое ожидание, легко уследить одновременно за двумя рифмическими цепями (особенно когда одна из них женская, другая – мужская), но уже трудно – за тремя, а тем более за четырьмя. Для этого нужен навык, тренировка слуха. В Европе такой навык выработался в аристократической поэзии провансальских трубадуров (XII—XIII вв.), благо там еще не установилось сковывающее правило альтернанса. Но при переходе в другие, менее развитые (по тому времени) литературы этот навык утратился, и рифмовка упростилась.
Легче всего воспринимаются несколько рифмических цепей одновременно тогда, когда с самого начала перед глазами (или на слух) проходят первые звенья всех рифмических цепей, а потом повторяются в том же порядке. Такая рифмовка называется скользящей и воспринимается как усложнение перекрестной; ср. – АБАБ (перекрестная), АБВАБВ (тернарная, т.е. «троичная»), АБВГАБВГ (кватернарная, т.е. «четверочная») и т.д. По кватернарной рифмовке (и даже без нарушения альтернанса) построено и это стихотворение С. Парнок. На чью смерть написано оно, неизвестно. Одна рифма в нем – неравносложная (какая?).
VII. ТВЕРДЫЕ ФОРМЫ
ТРИОЛЕТ И РАСШИРЕННЫЙ ТРИОЛЕТ
№ 186
* * *
Пропал прелестный триолет,
Забытый в суете всегдашней.
На мысль мгновенную ответ,
Пропал прелестный триолет.
Кем снова он увидит свет?
Портретом? Лаской? Песней? Башней?
Пропал прелестный триолет,
Забытый в суете всегдашней.- И. Рукавишников, [1922]
№ 187
* * *
Какая сладкая отрава
Легко звенящий триолет!
Его изящная оправа.
Какая сладкая отрава
И вечно детская забава,
Когда владеет ей поэт.
Какая сладкая отрава
Легко звенящий триолет.- И. Калинников, 1915
№ 188
Неживая, нежилая, полевая, лесовая, нежить горькая и злая.
Ты зачем ко мне пришла и о чем твои слова?
Липнешь, стынешь, как смола, не жива и не мертва.
Нежилая, вся земная, низовая, луговая, что таишь ты, нежить злая,
Изнывая, не пылая, расточая чары мая, темной ночью жутко лая,
Рассыпаюсь, как зола, в гнусных чарах волшебства?
Неживая, нежилая, путевая, пылевая, нежить темная и злая,
Ты зачем, ко мне пришла, и о чем твои слова?- Ф. Сологуб, 1913
№ 189
Азия
Азия – желтый песок и колючие желтые травы...
Азия – розовых роз купы над глиной оград...
Азия – кладбище битв, намогилье сыпучее славы...
Азия – желтый песок и колючие желтые травы,
Голубая мечеть, чьи останки, как смерть, величавы,
Погребенный святой и времен погребальный обряд...
Азия – розовых роз купы над глиной оград...
Азия – желтый песок и колючие желтые травы,
Узких улиц покой, над журчащими водами сад...
Азия – розовых роз купы над глиной оград,
Многопестрый базар, под чалмою томительный взгляд,
Аромат истлеваний и ветер любовной отравы;
Азия – желтый песок и колючие желтые травы...
Азия – розовых роз купы над глиной оград...- К. Липскеров, 1915
В средневековой устной поэзии романских народов обычны были хороводные песни с припевами: припев, строфа, припев, строфа и т.д., а в конце опять припев. Потом по их образцу стали сочиняться и литературные песни («вирелэ», «вильянсико»). Но на бумаге такие многоповторные композиции выглядели громоздко, поэтому стихотворцы стали, во-первых, сокращать число повторяющихся звеньев до двух-трех и притом коротких, а во-вторых, сокращать объем припева до одной-двух строк (рефрен) и повторять его полностью лишь в конце, а в середине лишь частично. Так возникли, один короче другого, рондо, рондель и триолет.
Триолет (фр. «тройной») – это восьмистишие с рифмовкой АБ+АА+АБАБ (курсивом выделены повторяющиеся строки-рефрены); знаком «+» отмечены границы первоначального припева и двух строф, в «правильном» триолете на этих местах непременно должны были стоять точки. После средневековья триолет пользовался недолгой популярностью в эпохи барокко и символизма, но лишь в качестве салонной и эстетской забавы. В России целую книгу триолетов написал Ф. Сологуб и целых две – его подражатель И. Рукавишников. Триолет Рукавишникова написан по всем классическим правилам. Триолет Калашникова уже нарушает тонкое правило «расстановки точек». Триолет Сологуба отклоняется от них в последовательности рифм (как?) и в том, что строка А повторяется не дословно. Стихотворение К. Липскерова (из книги стихов о Туркестане – «Песок и розы», М., 1916), условно названное нами «расширенным триолетом», представляет собой попытку построить на триолетных повторах стихотворение более длинное. Любопытно, что и Сологуб, и Липскеров используют нетрадиционные длинные размеры (у Липскерова это подобие гексаметра, а у Сологуба?) как бы для того, чтобы создать ощущение тяготящего однообразия, мотивирующего повторы.
РОНДЕЛЬ
№ 190
Диссо-рондели
Шмелит-пчелит виолончель
Над лиловеющей долиной.
Я, как пчела в июле, юный.
Иду – весь трепет и печаль.
Хочу ли мрака я? хочу ль,
Чтоб луч играл в листве зеленой?
Шмелит-пчелит виолончель
Над лиловеющей долиной...
Люблю кого-то... Горячо ль?
Священно, или страстью тленной?
И что же это над поляной:
Виолончелят пчелы, иль
Шмелит-пчелит виолончель?- И. Северянин, 1911
Рондель (фр. «круглый») – построение такого же типа, как триолет, но более пространное: тринадцати- или четырнадцатистишие из трех строф с рифмовкой АББА+АБАБ+АББАА(Б); последний стих последнего рефрена обычно опускается. Рондель пережил расцвет во Франции в XV в., затем был вытеснен формой рондо (см. № 191—192), а в позднейшее время использовался лишь качестве изысканного архаизма. В этом ронделе Северянина архаичность строфы оттенена модернистичностью диссонансной рифмы (см. № 49).
РОНДО И НЕПРАВИЛЬНОЕ РОНДО
№ 191
Надпись на книге
Манон Леско, влюбленный завсегдатай
Твоих времен, я мыслию крылатой
Искал вотще исчезнувших забав,
И образ твой, прелестен и лукав,
Меня водил – изменчивый вожатый.
И с грацией манерно-угловатой
Сказала ты: «Пойми любви устав,
Прочтя роман, где ясен милый нрав
Манон Леско:
От первых слов в таверне вороватой
Прошла верна, то нищей, то богатой,
До той поры, когда без сил упав,
В песок чужой, вдали родимых трав,
Была зарыта шпагой, не лопатой
Манон Леско!»- М. Кузмин, 1909
№ 192
Скорпионово рондо
Не вея ветром, в часе золотом
Родиться князем изумрудных рифов
Иль псалмопевцем, в чьем венке простом
Не роза – нет! – но перья мертвых грифов,
Еще трепещущие от истом.
Раздвинув куст, увидеть за кустом
Недвижный рай и, кончив труд сизифов,
Уснуть навеки, ни одним листомНе вея...
О мудрость ранняя в саду пустом!
О ветр Гилей, вдохновитель скифов!
О ветер каменный, о тлен лекифов!
Забудусь ли, забуду ли о том,
Что говорю, безумный хризостом,
Неве я?
- Б.Лившиц, [1914]
№ 193
* * *
О Эрос мой! О бог весенних грез!
Тебя венчают лотосы и розы!
Но ты не здесь, ты – там, где крепко лозы,
Виясь, ползут на дремлющий утес,
Где расцветают золотом мимозы,
Где пьяны солнцем резвые стрекозы,
Где море моет ряд песочных кос,
Ты там цветешь нежнее туберозы,О бог весенних грез!
Сюда, где бродят белые морозы,
Цветы дрожат в слезах холодных рос,
И горестно качают зыбкие березы
Зелеными волокнами волос,
Ты мне приносишь злые скабиозы,
О бог весенних грез!
- Е. Сырейщикова, 1911/1913
Рондо (фр. «круглый»: вариант того же слова, которым обозначается и рондель) возникло как более изысканный вариант ронделя: припев сокращается до минимального намека, в середине и в конце стихотворения повторяется не вся первая строка, а ее начало, остающееся даже без рифмы – как бы недоговоренное. В классическом рондо 15 строк с рифмовкой ААББА+АББх+ААББх (где х – повтор начала первого стиха). Нередко этот порядок рифм нарушается (из приводимых трех рондо он соблюден только в первом; а каков он в двух других?), но позиции повторяющихся полурефренов сохраняются твердо.
Как и во всех твердых формах с рефренами, художественный эффект рондо состоит в том, что заданный полурефрен, появляясь каждый раз с кажущейся естественностью, в новых контекстах получает новый, несколько иной смысл. В «Скорпионовом рондо» Б. Лившица это даже подчеркнуто каламбуром («не вея – Неве я»). В «Надписи на книге» М. Кузмина это сделано тоньше: имя героини знаменитого романа (несклоняемое) в первый раз упоминается в звательном падеже (как обращение), во второй раз в родительном и в третий раз в именительном (как подлежащее).
Нерифмованные короткие строчки в рондо раздражали слух многим читателям и писателям с недостаточно изощренным вкусом. Им хотелось вставить и эти строчки в общий ряд рифм. Простейшим способом было ввести в начальную строку внутреннюю рифму. Так, у того же Бенедикта Лившица наряду с таким рондо, как напечатанное выше, имеются и рондо со сквозной рифмовкой. Одно из них начинается так:
Печальный лик былой любви возник
В моей душе: вечерняя неистовая
Фантазия влечет меня в тайник
Минувшего, и, тихо перелистывая
Страница за страницею дневник,
Я вновь, любовь, твой робкий ученик,
Я вновь тебе подвластен, аметистовая
Звезда любви, явившая на миг- Печальный лик...
Таким образом, строки-рефрены на «лик» входят здесь в общую цепь рифм «возник – тайник – дневник» и т.д. С нею переплетается цепь гораздо более изысканных – ср. № 29 – гипердактилических рифм: «неистовая – перелистывая – аметистовая» и далее «насвистывая – батистовая». Обратите внимание, что «Скорпионово рондо» построено на совпадениях стиховых и синтаксических членоразделов, а «Печальный лик...» – преимущественно на анжамбманах (№ 21); попробуйте их указать.
Е. Сырейщикова тоже старается перестроить рондо так, чтобы рефрен входил в общую рифмовку, но делает это грубее: повторяет в качестве рефрена не первое, а последнее полустишие начального стиха. Кажется, такой опыт остался в русской поэзии единственным. Сырейщикова была не очень умелой поэтессой (Брюсов исправлял в ее рукописях слово «орхидея», от волнения написанное через «а»): у нее рефрены повторяются без всяких смысловых изменений, а среди 5-ст. ямбов появляется один 6-ст. ямб без цезуры (найдите его и подумайте: а может быть, это не неумение, а обдуманное выделение строки – так сказать, ритмический курсив?).
Б. Лившиц, поэт французской выучки, входил в футуристическую группу «Гилея». Это – древнегреческое название херсонского Приднепровья (где жили летом Д. Бурлюк и его братья); отсюда упоминания о скифах, греческих погребальных вазах-лекифах и греческое слово «хризостом», означающее «златоуст». Сырейщикова украшает свои стихи только редким ботаническим названием «скабиоза», что означает «шершавка».
ВИЛЛАНЕЛЬ
№ 194
Мария
(Из поэмы)
Города блеск, треск, коридоры
Миражами явились мне,
Покинувшему ваши взоры!
Испуганный, задернув сторы,
Забыть хотел я при огне
Города блеск, треск, коридоры.
Неизъяснимые Фаворы
При пристальной взвились луне
Покинувшему ваши взоры
Память воскрылила узоры
Черт ваших, загасив в окне
Города блеск, треск, коридоры...
Воспоминанья-пикадоры
Сердце пронзили в сонном сне
Покинувшему ваши взоры...
О если б не были позоры!
О если б не явились мне –
Города блеск, треск, коридоры –
Покинувшему ваши взоры.
- Божидар, 1913
Вилланель (фр. «крестьянская песня») сохранила черты народной песни с припевом в большей степени, чем триолет, рондель и рондо: во-первых, в ней число строф (и строк) не задано, а произвольно, во-вторых, в ней повторяются рефренами не один, а два стиха начальной строфы, первый и последний, чередуясь. Строфы – трехстишные, рифмовка: А1БА2+АБА1+АБА2+АБА1+АБА2+...+АБА1А2. Широкой популярностью вилланель не пользовалась никогда. У Брюсова в этой форме написано стихотворение «Предчувствие» в сборнике «Зеркало теней» и два других в сборниках «Девятая камена» и «Опыты» (найдите их в Собрании сочинений); по тому же принципу, но с интересным усложнением (каким?) написано его раннее стихотворение «В старом Париже» («Холодная ночь над угрюмою Сеной...»). Вероятно, поэтому 19-летний Божидар озаглавил свою вилланель «Первая Валериева строфа» (ср. № 130—131). Она входит в цикл стихов («поэму») «Мария», посвященный харьковской художнице М.М.Синяковой-Уречиной – одной из сестер Синяковых, воспетых В. Хлебниковым в поэмах «Три сестры» и «Синие оковы» (заглавие последней обыгрывает звучание фамилии). Другие стихотворения этого цикла имели форму триолета, рондо, ронделя, опрокинутого сонета, октав, элегических дистихов и пр. Будучи футуристом, Божидар писал при этом все «и» как «и с точкой» (а в других стихотворениях смешивал русские буквы с латинскими еще смелее). Сторы – шторы; Фавор – гора, на которой Христос явился ученикам в божественном свете (Преображение); кто такие пикадоры?
Найдите в стихотворении три строки (одна из них – повторяющаяся), в начале которых имеются ритмические перебои (см. № 104—105). Можно ли считать ритмическим перебоем слово «треск» в начальной строке?
РИТУРНЕЛЬ
№ 195
* * *
Миндальный цвет
Вновь нежным и прозрачным ароматом
Тревожит память непрожитых лет.
Настанет день,
И мне предстанет в запахе миндальном
Внезапно воплотившаяся тень,
И я возьму
Ее за пальцы, тонкие, как стебли,
И с ней войду в чуть дышащую тьму.
Там красок нет,
Там я – как тень, но тень меня реальней,
Там нет меня, но лишь миндальный цвет.- Т.А. Ящук, [1917]
Ритурнель, или риторнель, – итальянская форма народного происхождения, напоминающая нашу частушку: короткий стих, зачин, обычно с именем какого-нибудь цветка, и затем два длинных стиха, по смыслу часто почти ничем не связанные с зачином. Средний стих трехстишия остается без рифмы, третий рифмует с первым («возвращение» рифмы, отсюда этимология заглавия). В предлагаемом образце «цветочный» зачин сохранен, но затем получает тематическое развитие.
Любопытно, что в итальянской поэзии такие стихи редко называются ритурнелями, – там это слово чаще означает просто припев в большой песне. Отрывочные трехстишия такого рода там называются просто «фьори» («цветки»). Название «ритурнель» за ними закрепил поэт Ф. Рюккерт (XIX в.), написавший много переводов и подражаний им на немецком языке. Более широкого распространения эта форма не получила; на русском языке известны лишь единичные примеры.
ГЛОССА
№ 196
* * *
Парки бабье лепетанье
Жутко в чуткой тишине...
Что оно пророчит мне –
Горечь? милость? испытанье?
Темных звуков нарастанье
Смысла грозного полно.
Чу! жужжит веретено,
Вьет кудель седая пряха...
Скоро ль нить мою с размаха
Ей обрезать суждено!
Спящей ночи трепетанье
Слуху внятно... Вся в огне,
Бредит ночь в тревожном сне.
Иль ей грезится свиданье,
С лаской острой, как страданье,
С мукой пьяной, как вино?
Все, чего мне не дано!
Ветви в томности трепещут,
Звуки страстным светом блещут.
Жгут в реке лучами дно.
Ночь! зачем глухой истомой
Ты тревожишь мой покой?
Я давно сжился с тоской.
Как бродяга в край искомый,
Я вошел в наш мир знакомый,
Память бедствий сохраня.
В шумах суетного дня
Я брожу, с холодным взглядом,
И со мной играет рядом
Жизни мышья беготня.
Я иду в толпе, ведомый
Чьей-то гибельной рукой, –
Как же в плотный круг мирской
Входит призрак невесомый?
Знаю: как сухой соломой
Торжествует вихрь огня,
Так, сжигая и казня,
Вспыхнет в думах жажда страсти...
Ночь! ты спишь!.. но чарой власти
Что тревожишь ты меня?
- В. Брюсов, 1918
Глосса первоначально (по-гр.) значило «трудное слово», потом «комментарий к трудному слову», потом комментарий вообще. Стихотворная глосса представляла собой строфу, обычно четверостишную, выписанную из какого-нибудь классика или народной песни («мотто»), а затем ряд строф, развивающих ее тему и заканчивающихся повторением сперва 1-й, потом 2-й, потом 3-й, потом 4-й ее строки. Таким образом, если в балладе повторялся рефреном последний стих начальной строфы, а в вилланели – по очереди первый и последний, то в глоссе повторяются по очереди все ее стихи. Брюсов отступил от этой темы только в том, что мотто – четверостишие из пушкинских «Стихов, сочиненных ночью...» – он не выписал перед текстом отдельной строфой, считал общеизвестным, и что первые два ее стиха он повторил в начале, а последние два в конце своих четырех строф. Глосса была популярной формой в испанской классической поэзии, поэтому строфы Брюсова соблюдают строение употреблявшейся в глоссе испанской строфы – децимы, десятистишия с рифмовкой АББА-АВВГГВ (причем после 5-й строки не должна стоять точка, чтобы десятистишие не развалилось на два пятистишия).
ВЕНОК СЕМИСТИШИЙ
№ 197
Золотая ветвь
Моему учителю
Средь звездных рун, в их знаках и названиях
Хранят свой бред усталые века,
И шелестят о счастье и страданьях
Все лепестки небесного венка.
На них горят рубины алой крови;
В них, грустная, в мерцающем покрове
Моя любовь твоей мечте близка.
Моя любовь твоей мечте близка
Во всех путях, во всех ее касаньях,
Твоя печаль моей любви легка,
Твоя печаль в моих воспоминаньях,
Моей любви печать в твоем лице,
Моя любовь в магическом кольце
Вписала нас в единых начертаньях.
Вписала нас в единых начертаньях
В узор Судьбы единая тоска;
Но я одна, одна в моих исканьях,
И линия Сатурна глубока...
Но я сама избрала мрак агата,
Меня ведет по пламеням заката
В созвездье Сна вечерняя рука.
В созвездье Сна вечерняя рука
Вплела мечту о белом Иордане,
О белизне небесного цветка,
О брачном пире в Галилейской Кане...
Но есть провал в чертах моей судьбы...
Я вся дрожу, я вся ищу мольбы...
Но нет молитв о звездном океане.
Но нет молитв о звездном океане...
Пред сонмом солнц смолкают голоса...
Горит венец на звездном Эридане,
И Вероники веют волоса.
Я перешла чрез огненные грани,
И надо мной алмазная роса
И наших дум развернутые ткани.
И наших душ развернутые ткани,
И блеклых дней широкая река
Текут, как сонм, в опаловом тумане.
Пусть наша власть над миром велика,
Ведь нам чужды земные знаки власти;
Наш узкий путь, наш трудный подвиг страсти
Заткала мглой и заревом тоска.
Заткала мглой и заревом тоска
Мою любовь во всех ее сверканьях;
Как жизни нить мучительно-тонка,
Какая грусть в далеких очертаньях!
Каким бы мы не предавались снам,
Да сбудется завещанное нам
Средь звездных рун, в их знаках и названиях.
Средь звездных рун, в их знаках и названиях
Моя любовь твоей мечте близка,
Вписала нас в единых начертаньях
В созвездье Сна вечерняя рука.
Но нет молитв о звездном океане.
И наших дум развернутые ткани
Заткала мглой и заревом тоска.
- Черубина де Габриак, 1908
Это стихотворение тоже представляет собой глоссу, только не на заданный текст, а на семистишие-магистрал собственного сочинения; оно образует последнюю строфу текста. Построено это семистишие по тому же принципу рифмовки, что и знакомое нам восьмистишие Гюго (№ 165), только на строку короче. Каждая из семи строф, кончающихся строками этого мотто-магистрала, имеет такое же строение. Но главная особенность этой формы в том, что каждая новая строфа начинается повторением последней строки предыдущей строфы; таким образом, каждая строка магистрала оказывается в предыдущем тексте повторена дважды. Такое сплетение строф повторением строк на их стыке, причем эти повторяющиеся строки потом складываются в строфу-магистрал, называется венком. Наиболее популярны (благодаря своей трудности) венки сонетов (например – № 218). Венок семистишных строф такого строения (семь – мистическое число, золотая ветвь – жезл, открывающий вход в иные – здесь звездные – миры, Эридан – река, Волосы Вероники – созвездие; стихотворение представляет собой объяснение поэтессы в любви к ее учителю М. Волошину, с которым души у них родственны, но разделены линией Сатурна) – собственное изобретение Черубины де Габриак. Потом оно понравилось Игорю Северянину, он дал такой форме название «лэ» (заимствовано из терминологии старофранцузской поэзии, но там оно не означало ничего подобного) и в 1918—1919 гг. написал целый цикл таких мнимых «лэ».
ГАЗЕЛЛА И РУБАИ
№ 198
* * *
Цветут в саду фисташки, пой, соловей!
Зеленые овражки, пой, соловей!
По склонам гор весенних маков ковер;
Бредут толпой барашки. Пой, соловей!
В лугах цветы пестреют, в светлых лугах:
И кашки, и ромашки. Пой, соловей!
Весна весенний праздник всем нам дарит,
От шаха до букашки. Пой, соловей!
Мы сядем на террасе, сядем вдвоем…
Дымится кофей в чашке… Пой, соловей!
Но ждем мы ночи темной, песни мы ждем
Любимой, милой пташки. Пой, соловей!
Прижмись ко мне теснее, крепче прижмись,
Как вышивка к рубашке. Пой, соловей!- М. Кузмин, 1908
№ 199
Из персидских четверостиший
Не мудрецов ли прахом земля везде полна?
Так пусть меня поглотит земная глубина,
И прах певца, что славил вино, смешавшись с глиной,
Предстанет вам кувшином для пьяного вина.- В. Брюсов, 1911
Большинство твердых форм, освоенных европейской поэзией, имеют, как мы видели, романское происхождение. Твердые формы восточной поэзии применяются обычно только в переводах. Исключения редки: таковы японские танка (№ 152), малайский пантум (№ 200) и особенно персидские газеллы и рубаи. Газеллу популяризировал в Европе Ф. Рюккерт в первой половине XIX в., рубаи – Э. Фицджеральд (переводом О. Хайама) в середине XIX в. На русском языке серьезная разработка гизелл начинается в начале XX в., а освоение рубаи – уже после 1928 г., когда И. Тхоржевский выпустил за границей свой перевод Хайама по Фицджеральду. До этого даже термин был не в ходу: рубаи назывались «персидскими четверостишиями».
Единицей арабо-персидского стихосложения является длинный стих (бейт) из двух полустиший, часто, но не всегда связанных внутренней рифмой; в переводах и подражаниях каждое полустишие пишется отдельной строкой. Вереница бейтов часто нанизывается на одну конечную рифму (монорим, см. № 159); в рифме, как всегда, нередок редиф (см. № 34—35). Бейт с внутренней рифмой («царский бейт») и бейт без внутренней рифмы образуют рубаи; в европейской имитации это четверостишие с рифмовкой ААХА (смысловая кульминация – в нерифмующей 3-й строке). Бейт с внутренней рифмой и вереница бейтов без внутренней рифмы образуют газеллу (правильнее «газель», от арабского слова, означающего «ткань»); в европейской имитации это ряд двустиший с рифмовкой АА ХА ХА ХА... Размеры арабо-персидской поэзии принадлежат к метрической, квантитативной системе стихосложения (аруд); общепринятой традиции передачи их в силлабо-тонике не существует, и поэты выбирают более простые или более сложные размеры по своему усмотрению. Более простой размер (какой?) выбрал Брюсов для «четверостишия» на тему из Хайама для своей антологии стилизаций «Сны человечества»; более сложный размер, логаэдический, с эффектным ритмическим переломом на стыке основной части строки и редифа, избрал Кузмин для цикла 30 газелл «Венок весен» на свое (мнимое) 30-летие.
ПАНТУМ УПРОЩЕННЫЙ И УСЛОЖНЕННЫЙ ПАНТУМ
№ 200
Дитя Аллаха
| (Из пьесы-сказки) |
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Фазанокрылый знойный шар
Зажег пожар в небесных долах.
– Мудрец живет среди чинар.
Лаская отроков веселых.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Зажег пожар в небесных долах
Царь пурпурный и золотой.
– Лаская отроков веселых,
Мудрец подъемлет кубок свой.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Царь пурпурный и золотой
Описан в чашечках тюльпанов.
– Мудрец подъемлет кубок свой,
Ответный слыша звон стаканов.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Описан в чашечках тюльпанов
Его надир, его зенит.
– Ответный слыша звон стаканов,
Мудрец поет и говорит.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Его надир, его зенит
Собой граничит воздух тонкий.
– ...Мудрец поет и говорит,
Смеется, внемлет лютне звонкой.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Собой граничит воздух тонкий,
Сгорает солнце-серафим.
– Смеется, внемлет лютне звонкой
Нагая дева перед ним.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Сгорает солнце-серафим
Для верного, для иноверца.
– Нагая дева перед ним,
Его обрадовано сердце.
|
Г а ф и з:
П т и ц ы: | – Для верного, для иноверца
Шумит спасительный пожар.
– Его обрадовано сердце,
Фазанокрылый знойный шар. |
| Н. Гумилев, [1917] |
№ 201
* * *
Как роза белая, ты бледен и печален,
Твои глаза – небес осенних глубина,
Как бледная луна, тоской любви ужален,
Мятежен, как грозой вспененная волна.
Как бледная луна, тоской любви ужален,
Ты смотришь на меня улыбкой грустных глаз,
Когда весь бурный мир так чуток и хрустален,
Когда топазы звезд любуются на нас.
Когда весь бурный мир так чуток и хрустален,
Твои уста горят желаньем и тоской,
И кажется мне вдруг, что лик луны умален,
Как роза белая, он никнет надо мной.
И кажется мне вдруг, что лик луны умален,
И я твоим огнем навеки сожжена,
Что ты один живешь, тоской любви ужален,
Мятежен, как грозой вспененная волна!- Е. Сырейщикова, 1911/1913
№ 202
Любовь – мираж
(Ария из оперетты)
Мерцает огонек на мачте корабля,
Что в море темное мою любовь уносит!
Лететь бы вслед за ним, и крыльев сердце просит,
Но держит узника унылая земля.
Лететь бы вслед за ним, и крыльев сердце просит.
Еще его во мгле могу я распознать...
Вчера я счастлив был: былого не догнать,
Что в море темное мою любовь уносит.
Вчера я счастлив был: былого не догнать.
Пуста моя душа, и склепа нет мрачнее.
Заветный огонек, чем дале, тем бледнее:
Еще его во мгле могу я распознать.
Заветный огонек, чем дале, тем бледнее,
Окрест – могилами разрытые поля...
Скелеты движутся, костями шевеля...
Пуста моя душа, и склепа нет мрачнее.
Скелеты движутся, костями шевеля
В разгулье праздничном и свадебном веселье...
О безотзывная унылая земля!
Нег упоительных угрюмое похмелье!..
Чуть брезжит огонек на мачте корабля.
- Вяч. Иванов, 1924
Пьеса-сказка «Дитя Аллаха» была написана для кукольного театра; дитя Аллаха – это красавица Пери, которая ищет себе в мужья лучшего из смертных людей, и этим лучшим оказывается царь поэтов Гафиз. Она застает его, когда он поет песню на голоса с птицами. Однако форма этой песни – не арабская и персидская, а малайская. В малайской народной поэзии пантум (точнее, «пантун») – это импровизированные четверостишия (обычно с тематическим параллелизмом), иногда соединяемые в цепочку так, чтобы 2-й и 4-й стихи каждой предыдущей строфы повторялись как 1-й и 3-й стихи следующей строфы. Именно в таком «цепном» виде пантум был усвоен европейской поэзией (впервые – французскими романтиками), но широкого распространения не получил, примкнув к ряду твердых форм с повторами, представленных выше.
У Брюсова в такой форме написан один перевод из Ш. Бодлера, вошедший в «Опыты» с подзаголовком «бесконечное рондо»; близко к ней подходят (в чем?) его стихотворение «На смерть И. Лялечкина» (1895) и, отчасти, знаменитое «Творчество» («Тень несозданных созданий...», 1895). Ученица Брюсова Е. Сырейщикова, в свою очередь, изобрела упрощенный вариант пантума – такой, в котором из строфы в строфу повторяются не две, а только одна строка. Здесь каждое новое четверостишие начинается повторением 3-й строки предыдущего четверостишия.
Таким образом, традиционный пантум имеет перекрестную рифмовку. Это облегчает его восприятие: уловив одну повторяющуюся строку, читатель знает, что рифмующаяся с ней тоже будет повторением. Если четверостишия в пантуме будут иметь охватную рифмовку (№ 161), то повторяться будут строки нерифмующиеся и воспринимать такие повторы будет труднее. Вот пример – начало стихотворения В. Ходасевича «На грибном рынке» (1917, под псевдонимом, от женского лица), построенного именно таким образом:
Бьется ветер в моей пелеринке...
Нет, не скрыть нам, что мы влюблены:
Долго, долго стоим, склонены
Над мимозами в тесной корзинке.
Нет, не скрыть нам, что мы влюблены!
Это ясно из нашей заминки
Над мимозами в тесной корзинке –
Под фисташковым небом весны...
Какая должна быть следующая строчка у Ходасевича?Вяч. Иванов тоже строит свой усложненный пантум из четверостиший с охватной рифмовкой. Он облегчает восприятие этих стихов тем, что меняет места повторения строк – так, чтобы повторяющиеся строки все-таки рифмовались между собой. Но зато он и затрудняет восприятие этих стихов новым приемом: повторяющиеся строки повторяются не в первоначальном, а в обращенном порядке. Эта усложненность видна из сравнения: если повторяющиеся строки обозначить одинаковыми цифрами, то схема строения пантума Гумилева будет: а1Б1а2Б2 , Б1в1Б2в2 , в1Г1в2Г2..., а схема строения пантума Иванова: а1Б1Б2а2 , Б2в1в2Б1 , в2Г1Г2в1... Рассмотрите сами, как строят оба поэта концовки своих пантумов. Оперетта «Любовь – мираж» (неожиданный жанр для Вяч. Иванова, поэта высокого стиля) до сих пор не опубликована; текст арии печатается по копии ЦГАЛИ.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕФРЕННЫЕ ФОРМЫ
№ 203
Заря
Не теплой негой стана,
Не ласкою колен
Истомная нирвана
Меня замкнула в плен, –
Меня замкнула в плен
Из льдистого стакана
Легчайшею из пен, –
Не теплой негой стана.
Не теплой негой стана,
Не пением сирен | | Над зыбью океана,
Не ласкою колен, –
Не ласкою колен,
Надушенных так пряно,
Вливалась в сети вен
Истомная нирвана.
Истомная нирвана
Прозрачно-синих стен,
Окрасившись багряно,
Меня замкнула в плен.- М. Лопатто, [1916]
|
№ 204
Рондолет
Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!
Мирра Лохвицкая
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!» –
Он в душе у меня, твой лазоревый стих!
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов.
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
Он в душе у меня, твой пылающий стих!
Он в душе у меня, твой скрижалевый стих:
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
Я склоняюсь опять, опечален и тих.
Я склоняюсь опять, опечален и тих,
У могилы твоей, чуждой душам рабов,
И в душе у меня твой надсолнечный стих:
«Смерть над миром царит, а над смертью – любовь!»- И. Северянин, 1910
№ 205
Квадрат квадратов
Никогда ни о чем не хочу говорить...
О поверь! – я устал, я совсем изнемог.
Был года палачом, – палачу не царить...
Точно зверь, заплутал меж поэм и тревог...
Ни о чем никогда говорить не хочу...
Я устал... О поверь! изнемог я совсем...
Палачом был года – не царить палачу...
Заплутал, точно зверь, меж тревог и поэм...
Не хочу говорить никогда ни о чем...
Я совсем изнемог... О, поверь! я устал...
Палачу не царить!.. был года палачом...
Меж поэм и тревог, точно зверь, заплутал...
Говорить не хочу ни о чем никогда!..
Изнемог я совсем, я устал, о, поверь!
Не царить палачу!.. палачом был года!..
Меж тревог и поэм заплутал, точно зверь!..- И. Северянин, 1910
По образцу традиционных твердых форм могут создаваться и новые, нетрадиционные. Однако для того, чтобы они ощущались в качестве таковых, нужно, чтобы такие стихи или производились сразу в большом однообразном количестве, или имели достаточно четкое и сложное строение, легко воспринимаемое как формальное задание. Лучше всего для этого годятся рефренные формы. Здесь представлены лишь три примера из многих возможных.
«Заре» автор дал условный подзаголовок «рондо»; вернее ее можно назвать «двойной глоссой»: все строки начальной строфы дважды проходят через следующие строфы, по начальным и по конечным их позициям, так что переменны в каждой строфе лишь две средние строки. В «Рондолете» (заглавие – обозначение новой твердой формы, сочиненное самим Северянином) все строки начальной строфы трижды проходят через следующие строфы, так что каждая успевает побывать и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й, и на 4-й позиции, а переменным (и оттого особенно ощутимым) в каждой строфе остается только одно слово – эпитет к слову «стих». В «Квадрате квадратов» не остается ни одного переменного слова: четыре строфы переставляют здесь четырьмя способами одни и те же строки, а четыре строки – одни и те же слова; стиховое ожидание сводится к вопросу: «Какая будет новая перестановка?» Попробуйте определить, какие числовые оттенки вносит в повторяющуюся картину каждая из перестановок.
У Брюсова есть стихотворение «Томные грезы» (с подзаголовком «Вариация»), где таким же образом, как и в «Квадрате квадратов», комбинируются строчки из трех слов:
Томно спали грезы;
Дали темны были;
Сказки тени, розы,
В ласке лени стыли. | | Сказки лени спали;
Розы были темны;
Стыли грезы дали.
В ласке лени, томны… |
Прочитайте это шестистрофное стихотворение до конца (в III томе 7-томного Собрания сочинений Брюсова) и подумайте, нельзя ли к нему (да и к северянинскому стихотворению) составить еще несколько сколько строф.Заметим, что в «Заре» и «Рондолете» первый стих каждой строфы повторяет последний стих предыдущей; такое построение Рукавишников предлагал называть «гирляндой». Мы видели его в венке семистиший (№ 197) и еще увидим в венке сонетов (№ 218). В «венках» из этих повторяющихся строк складывается (как в глоссе, № 196) строфа-магистрал. Попробуйте переставить ту строфу в стихотворении «Заря» так, чтобы его после этого можно было назвать «венком четверостиший».
КАНЦОНА
№ 206
* * *
Я бросил в море ландышей фиалы,
Сказал: не то, не то, прошло все мимо,
Осеннюю лесную с мыса опаль
Кружит нагретый вихрь неутомимо,
И я не в силах спеть уж мадригалы.
Меня встречает с мыса стройный тополь,
Как будто в тоге. Вспомнил я Акрополь,
Гречанок лики с взором опаленным
И белый парус в отмели томленья.Давно кукушек пенье
Не слушал под каштанами и кленом,
Семь лет прикосновенья
Священного не знал, носимый бурей,
С глазами, устремленными в Меркурий.
В челне из волн, луны и белых лилий
Плыла, как лотос Нила, онемелый
От ила, в локонах ласкающе-гульливых,
Она. Я молча подошел, несмело,
Сказал 6ез слов: люблю. – И я, мой милый,
Но я боюсь весеннего разлива
Любви твоей, – с ней буду ль я счастливой,
Когда опять сольешься ты с Вселенной,
Ища ее, разбрызганную пену,
Идя от плена к плену,
Туда, к потусторонней и надменной,
Толкающей к измене
Тебя, тебя, наш паладин любимый,
Сын солнца и луны, неопалимый. –
Я ей сказал: взгляни на челн истомный:
Весь из нарциссов, анемон сплетений –
Меня юнит он песней колыбельной,
А я, бессмертный, юный, опаленный,
Там в синеве изгнанья, час свой темный
Лишь вижу, одинокий; безвесельный,
Под звон волны, подводный и свирельный...
Зачем к тебе пришел я в утро мая,
Не знаю сам, разбрызганный волною,
Морскою и речною,
По ликам вашим... Тишь вверху немая...
Я от тебя не скрою,
Что здесь люблю я многих. Кто же, кто же
Из вас, скажи мне, ближе всех, дороже?.. –
Я поняла, – ответила мне нежно,
Ты никого не любишь там, на море,
Когда бываешь на челне жестоком
Оставлен одиноким,
Ты тонешь весь в моем палящем взоре,
И близком и далеком;
Не страшны мне придуманные лики,
Я остаюсь с тобой, мой огнеликий...
- А. Туфанов, 1917
Слово канцона по-итальянски значит просто «песня». В народных хороводных песнях и плясках частым был такой порядок: хоровод под напев двигался на полкруга, потом под напев (того же ритма) возвращался попятным движением к исходному положению, а потом, наконец, под напев нового ритма совершал полный оборот. Эта структура – две короткие части одинакового строения и одна длинная иного строения – сохранилась и в строфе литературной канцоны.
Литературная канцона, сформировавшаяся со времен Петрарки (XIV в.), – это «полутвердая» стихотворная форма: стихотворение из 5—7 строф любого строения (обычно со сложным чередованием длинных и укороченных строк); каждая строфа состоит из «восходящей» и «нисходящей» части (по-нем. – Aufgesang и Abgesang, по-ит. – fronte и canda, «лоб» и «хвост»), причем восходящая часть, в свою очередь, делится на два «шага» (Stollen, piedi) с тождественным расположением строк и (менее обязательно) рифм. Нисходящая часть обычно длиннее восходящей. Чтобы строфа не разламывалась надвое, первая рифма нисходящей части должна повторять последнюю рифму восходящей части. В конце стихотворения иногда следует заключительная полустрофа («посылка», выводом или обращением), повторяющая форму нисходящей части.
Широкого распространения в европейской поэзии такая канцона не получила. Из русских поэтов по этим правилам строил свои канцоны, копируя Петрарку, Вяч. Иванов («Любовь и смерть»), нарушая эти правила – В. Брюсов (в сборнике «Опыты») и М. Кузмин (вступительное стихотворение к сборнику «Осенние озера»). Предлагаемое стихотворение А. Туфанова (будущего «заумника») выдерживает все традиционные правила, разве что допускает неточные рифмы (где?), нарушающие строгость формы. Схема рифмовки восходящих «шагов» и нисходящего «хвоста»: АБВ+БАВ+ВГДдГдЕЕ (маленькими буквами обозначены укороченные строки). Заметим, как автор заботится о связи между восходящей и нисходящей частью: между ними нигде не стоит точка.
Разумеется, слово «канцона» сохраняет и свое нетерминологическое значение – «песня». Поэтому не удивляйтесь, если в собрании стихов Н. Гумилева (или иного поэта) вы найдете стихотворения под таким заглавием, но не имеющие ничего общего с этим сложным строфическим построением.
БАЛЛАДА
№ 207
О дамах прошлых времен
Скажите, где, в какой стране
Прекрасная римля´нка Флора,
Архипиада... где оне,
Те сестры прелестью убора;
Где Эхо гулом разговора
Тревожащее лоно рек,
Чье сердце билось слишком скоро?
Но где же прошлогодний снег!
И Элоиза где, вдвойне
Разумная в теченье спора?
Служа ей, Абеляр вполне
Познал любовь и боль позора.
Где королева, для которой
Лишили Буридана нег
И в Сену бросили, как вора?
Но где же прошлогодний снег!
Где Бланш, лилея по весне,
Что пела нежно, как Аврора;
Алиса… о, скажите мне,
Где дамы Мэна иль Бигорра?
Где Жанна, дева без укора,
В Руане кончившая век?
О дева горнего Собора!
Но где же прошлогодний снег?
Посылка
О принц, с бегущим веком ссора
Напрасна: жалок человек;
И пусть вам не туманит взора:
«Но где же прошлогодний снег!»- Н. Гумилев, пер. из Ф. Вийона, [1913]
№ 208
Баллада Валерию Брюсову
Ты раз сказал нам, что на «сердце»
Балладу написать хитро;
Что, как у всех теперь – Пьерро,
Конечно, будет в ней – Проперций;
Что рифм на «сердце» две иль три.
Но чем трудней, тем больше перца
Для футуриста-иноверца!
Пишу балладу на пари!..
Зову народы все – венгерца,
Что в Львове расхищал добро,
И выдумавшего тавро
Живущего на юге терца,
И вас, о, римские цари,
Рабам кидавших звон сестерций!
Влеком орбитою инерции,
Пишу балладу на пари!..
В пролетах четких, быстрых терций
Поспешно бегает перо.
Я верю: не падет зеро!
Нет, не закрыться райской дверце!
Мелькают в полосе зари
Коней валькириевских берца.
Стихом насмешливым, как скерцо.
Пишу балладу на пари!..
Валерий Брюсов! посмотри:
Ты знаешь «аз», скажу тебе «рцы»!
В наш век расчетов и коммерций
Пишу балладу на пари!..- В. Шершеневич, 1915
Слово баллада имеет два значения. Во-первых, так называется лиро-эпический жанр – стихотворный рассказ о страшном или трогательном событии (английские и немецкие народные баллады, баллады Шиллера, Жуковского, Тихонова). Во-вторых, так называется твердая форма средневековой французской поэзии: три строфы на одни и те же сквозные рифмы и полустрофа-посылка. Если размер восьмисложный (в русских имитациях – 4-ст. ямб), то эти строфы – восьмистишия с рифмовкой АБАБ+БВБВ, если размер десятисложный (в русских имитациях – 5-ст. ямб), то эти строфы – десятистишия с рифмовкой АБАББ+ВВГВГ. Последняя строка во всех строфах повторяется как рефрен. Обычно строфы не столько развивают, сколько варьируют основную тему, а посылка (традиционно обращенная к «принцу» – судье поэтического состояния) делает вывод.
Первая – перевод баллады поэта-бродяги XV в. Франсуа Вийона, одного из лучших мастеров этого жанра. В этом стихотворении первая строфа перечисляет красавиц мифов и древней истории, вторая – красавиц XII—XIV вв., третья – дам недавнего прошлого (Жанна – это Жанна д'Арк). Другой перевод того же стихотворения был сделан Брюсовым (для сборника «Сны человечества»). Брюсову же принадлежит и цикл оригинальных баллад (составивший раздел в сборнике «Семь цветов радуги»). Вторая из приводимых баллад – отклик на этот эксперимент Брюсова: попытка написать балладу со сквозной рифмой (14 строк!) на слово «сердце», по общему мнению, почти не имеющему рифмующихся созвучий (экзотическая рифма – № 29). Чтобы этого достигнуть, В. Шершеневичу понадобились: Проперций – римский поэт-элегик, сестерций – мелкая римская монета, терец – казак с Терека, терция – шестидесятая доля секунды, берца – бедра, аз и рцы – название букв «А» и «Р» (и, в то же время – церковнославянские слова «я» и «говори!»); зеро (ноль) – номер в рулетке, проигрышный для подавляющего большинства играющих; австро-венгерец, оккупирующий Львов, отголосок событий первой мировой войны. Задачу на технику рифмы Шершеневич решил отлично, но задачу на технику твердой формы – неудовлетворительно: строение его балладной строфы отклоняется от общепринятого.
СЕКСТИНА И УПРОЩЕННАЯ СЕКСТИНА
№ 209
* * *
Не верю солнцу, что идет к закату,
Не верю лету, что идет на убыль,
Не верю туче, что темнит долину,
И сну не верю – обезьяне смерти –
Не верю моря лживому отливу,
Цветку не верю, что твердит: «не любит!»
Твой взор мне шепчет: «верь, он любит, любит!»
Взойдет светило вопреки закату,
Прилив шумящий – брат родной отливу,
Пойдет и осень, как весна, на убыль,
Поют поэты: «страсть – сильнее смерти!»
Опять ласкает луч мою долину.
Когда придешь ты в светлую долину,
Узнаешь там, как тот, кто ждет, полюбит.
Любви долина – не долина смерти.
Ах, нет для нас печального закату:
Где ты читал, чтоб страсть пошла на убыль?
Кто приравнять бы мог ее отливу?
Я не отдамся никогда отливу!
Я не могу предать мою долину!
Любовь заставлю не идти на убыль.
Я знаю твердо: «сердце вечно любит
И не уклонит линии к закату.
Всегда в зените – так до самой смерти!»
О друг мой милый, что страшиться смерти?
Зачем ты веришь краткому отливу?
Зачем ты смотришь горько вслед закату?
Зачем сомненье не вступать в долину?
Ведь ждет в долине, кто тебя лишь любит
И кто не знает, что такое убыль.
Тот, кто не знает, что такое убыль,
Тот не боится горечи и смерти.
Один лишь смелый мимо страха любит,
Он посмеется жалкому отливу,
Он с гор спустился в щедрую долину,
Огнем палимый, небрежет закату!
Конец закату и конец отливу,
Конец и смерти – кто вступил в долину.
Ах, тот, кто любит, не увидит убыль!- М. Кузмин, 1908/1909
№ 210
* * *
Зачем опять мне вспомнился Восток!
Зачем пустынный вспомнился песок!
Зачем опять я вспомнил караваны!
Зачем зовут неведомые страны!
Зачем я вспомнил смутный аромат
И росной розы розовый наряд!
Как слитно-многокрасочен Восток!
Как грустен нескончаемый песок!
Как движутся размерно караваны!
Как манят неизведанные страны!
Как опьяняет юный аромат
И росной розы розовый наряд!
Моей мечты подобие – Восток,
Моей тоски подобие – песок,
Моих стихов подобье – караваны,
Моих надежд – неведомые страны,
Моей любви подобье – аромат
И росной розы розовый наряд!
Вот почему мне помнится Восток,
Вот почему мне видится песок,
Вот почему я слышу караваны,
Вот почему зовут скитаться страны.
Вот почему мне снится аромат
И росной розы розовый наряд.- К. Липскеров, [1915]
Слово секстина, или сестина (от лат. «шесть»), иногда потребляется для обозначения любого шестистишия, но это неверно. Настоящее значение этого слова – твердая форма, разработанная провансальскими и потом итальянскими поэтами XII—XIII вв.: шесть строф по шесть строк с добавочной полустрофой в конце; строки во всех строфах кончаются на одни и те же шесть слов; при этом каждая строфа повторяет порядок заключительных слов предыдущей строфы в последовательности 6—1—5—2—4—3. Можно сказать, что все стихотворение написано на шесть тавтологических рифм (№ 28) в последовательности: АБВГДЕ ЕАДБГВ ВЕГАБД ДВБЕАГ ГДАВЕБ БГЕДВА. Заключительное трехстишие опять повторяет все опорные слова, по одному на полустишие. Как правило, шесть опорных слов не следует рифмовать между собой (чтобы нетавтологическая рифма не отвлекала внимание от тавтологической). Здесь М. Кузмин строго следует этому правилу, но некоторые поэты усложняли свою задачу тем, что брали для повторов слова рифмующиеся (например, А—В—Д и Б—Г—Е).
Таким образом, каждое из опорных слов должно повториться в разных контекстах семь раз, каждый раз звуча по-новому; поэтому секстина справедливо считается одной из труднейших твердых форм. Попробуйте определить, какими поворотами темы в каждой строфе достигает этого разнообразия М. Кузмин. В этом может помочь стихотворение К. Липскерова, которое мы позволили себе назвать «упрощенной секстиной»: строки кончаются на одни и те же шесть слов (правда, у Липскерова они рифмуются), в каждой строфе подводят к ним новыми поворотами, и только порядок рифмующих слов не прихотливо переменчив, а постоянен и число строф не шесть, а четыре.
СОНЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ТИПА
№ 211
Геракл на Эте
Жестокий лев зубов не изострит.
Спокойна лань среди дубрав Немей,
Из топких блат уже не свищут змеи,
И гидра травы кровью не багрит.
Но золотом в тени ветвей горит
Душистый плод. Прохладные аллеи
Уводят в тайный мрак, где – как лилеи –
Серебряные груди Гесперид.
Сверкает жемчуг, блещут хризолиты
На поясе пурпурном Ипполиты.
Сколь сладок яд елея устных роз!
И пламя жжет, и слепнет взор от света.
Назад!.. но плащ к моим костям прирос,
И рвется плоть, и вторит воплям Эта.- С. Соловьев, [1909]
№ 212
Фракия
Как час назад, горит светило спело,
И небосвод по-прежнему лучист.
В чужбине мужней плачет Филомела,
И далеко звучит печальный свист.
Прочь Вакхова дружина улетела,
Сырой песок опять омыт и чист,
И про бессудное расскажет дело
Лишь в красных пятнах виноградный лист.
Со сломанного от ударов жезла
Кровь легким паром в небеса исчезла –
Все ярче в вышине закатный спектр.
Но волны чужды пьяному пожару
И мертвую забытою кифару
Перебирает волн Гебрийских плектр.- Т. А. Яшук, [1913]
Из всех твердых форм, сложившихся в романской средневековой поэзии, наибольшую популярность получил сонет. Это – четырнадцатистишие из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов) на 4 или 5 сквозных рифм. Он возник, вероятно, как упрощенная форма канцоны (№ 206) из двух четверостишных «шагов» восходящей части и шестистишия нисходящей части. Первоначально рифмовка в нем была простая, как в «страмботто» (№ 166—168): АБАБАБАБ+ВГВГВГ; потом она стала сложнее. Так, во французской поэзии единственно «правильными» стали считаться сочетания «закрытой» (охватной) рифмовки в катренах и «открытой» в терцетах или, наоборот, «открытой» (перекрестной) в катренах и «закрытой» в терцетах, т.е. АББА+АББА+ВВГ+ДГД или АБАБ+АБАБ+ВВГ+ДДГ. Первый тип употреблялся гораздо чаще, вгорой – реже. Контаминированный тип – АББА+АББА+ВВГ+ДДГ.
Так написаны и эти два сонета. Оба они – на мифологические темы. В первом – Геракл, терзаемый отравленным плащом, кончает самосожжением на горе Эте и вспоминает свои былые подвиги: победу над немейским львом, над многоголовой болотной змеею Гидрой, добывание пояса любви у амазонки Ипполиты и золотых яблок из сада Гесперид. Во втором речь идет об убийстве певца Орфея неистовыми жрицами Вакха во Фракии на берегу реки Гебра; плектр – это бряцало, которым играли на струнах кифары (лиры), а Филомела – имя афинской царевны, выданной за фракийского царя и обращенной в соловья.
Делались попытки канонизировать и тематическое строение сонета (например, 1-й катрен – тема, 2-й – ее развитие, 1-й терцет – поворот темы, 2-й – разрешение; ср. № 163), но подавляющее большинство сонетов в эти схемы не укладывается.
СОНЕТ АНГЛИЙСКОГО ТИПА
№ 213
Товарищу
Я верила, что в мертвенной долине
У нас с тобой мечты всегда одне,
Что близких целей, отдыха на дне
Равно страшимся, верные святыне.
Товарищ мой... Врагом ты стал отныне.
Жила слепой в бездонной глубине.
Ты – сновиденьем был в солгавшем сне,
Я – призрак создала в своей гордыне.
Но ты расторг сплоченный мною круг.
Отдай слова, которым не внимал ты.
Отдай мечты. Как мне, им чуждым стал ты, –
Мой враг – моя любовь – источник мук...
Иль может быть, все это сон и ныне –
И ты не враг? И ты, как я, в пустыне?- Л. Вилькина, [1906]
Мы видели: во всех вариантах французского сонета была общая черта – терцеты начинались рифмующей парой строк, а затем уже следовали четыре строки, зарифмованные перекрестно или охватно. Когда из Франции сонет перешел в Англию, то рифмующая пара строк сместилась: теперь она не начинала, а заканчивала собой терцеты (и весь сонет), а четверостишие, встав перед нею, принимало вид третьего катрена. Вместо французского АББА+АББА+ВВ Г+ДГД или АБАБ+АБАБ+ВВ Г+ДДГ мы находим АББА+АББА+ВГГВ+ДД или АБАБ+АБАБ+ВГВГ+ДД. Потом и эта форма расшаталась еще больше, так что даже в первых двух катренах повторение рифм перестало быть обязательным: сонет превратился в четырнадцатистишие АБАБ+ВГВГ+ДЕДЕ+ЖЖ. Такие упрощенные сонеты писал Шекспир, и они обычно называются «шекспировскими» (хотя первыми ввел их в моду не Шекспир, а поэт Сарри). Резкая отбивка последнего двустишия побуждала строить его как броскую сентенцию-концовку. Читатель найдет тому много примеров в сонетах Шекспира в переводах С. Маршака.
В оригинальных сонетах русские поэты до таких вольностей обычно не доходили. Л. Вилькина сознательно ориентировалась на английские образцы (в ее цикле 30 сонетов; есть переводы из Шекспира), но сквозные рифмы в первых двух катренах она, как правило, сохраняет. Так поступает она и в этом сонете. В целом английский тип сонета в России малоупотребителен.
Первые и последние рифмы сонета Вилькиной одинаковы, но это лишь случайное совпадение.
СОНЕТ ИТАЛЬЯНСКОГО ТИПА
№ 214
Судный день
Раскроется серебряная книга,
Пылающая магия полудней,
И станет храмом брошенная рига,
Где, нищий, я дремал во мраке будней.
Священных схим озлобленный расстрига,
Я принял мир и горестный и трудный,
Но тяжкая на мне теперь верига,
Я вижу свет... то день подходит Судный.
Не смирну, не бдолах, не кость слоновью
Я приношу зовущему пророку –
Багряный сок из виноградин сердца,
И он во мне поймет единоверца,
Залитого, как он, во славу Року
Блаженно-расточаемою кровью.- Н. Гумилев, 1909
№ 215
Sonetto di risposta
Не верь, поэт, что гимнам учит книга:
Их боги ткут из золота полудней.
Мы – нива; время – жнец; потомство – рига.
Потомкам – цеп трудолюбивых будней.
Коль светлых Муз ты жрец, а не расстрига
(Пусть жизнь мрачней, година многотрудней), –
Твой умный долг – веселье, не верига.
Молва возропщет; Слава – правосудней.
Оставим, друг, задумчивость слоновью
Мыслителям, а львиный гнев – пророку:
Песнь согласим с биеньем сладким сердца!
В поэте мы найдем единоверца.
Какому б век повинен ни был року, –
И Розу напитаем нашей кровью.- Вяч. Иванов, 1909
В итальянском языке большинство слов имеет ударение на предпоследнем слоге, и поэтому в итальянском стихе обычно окончания – женские. Не будучи, таким образом, обязаны заботиться о чередовании женских и мужских рифм (как во французском языке № 184), итальянские поэты могли позволить себе более разнообразную рифмовку в терцетах – например, такую, как в этих двух сонетах: АБАБ АБАБ ВГД ДГВ. (Почему при чередовании мужских и женских рифм она была бы невозможна?) Вообще, если французского сонета характерна парная рифмовка в начале терцетов, а для английского – в конце, то для итальянского – полное отсутствие парной рифмовки в терцетах; типичное их строение – ...ВГВ+ГВГ или ВГД+ВГД (наши сонеты дают изысканный вариант именно этой последней рифмовки).
«Sonetto di risposta» значит «ответный сонет». В XIII в. у итальянских поэтов был обычай: когда один поэт обращался к другому с посланием в форме сонета, другой отвечал ему сонетом, написанным на те же рифмующие слова. В кругу Вяч. Иванова была в ходу еще более изысканная игра: поэт, написав сонет, посылал его другому с недописанными строчками, а другой, угадав по ним рифмующие слова, отвечал ему «ответным сонетом» на угаданные рифмы. Вяч. Иванов ответил таким сонетом на сонет Н. Гумилева (с деликатной незаметностью исправив неточные рифмы его второго катрена). Бдолах (в стихах Гумилева) – душистая восточная смола.
СОНЕТ С КОДОЙ, ОПРОКИНУТЫЙ СОНЕТ
№ 216
* * *
И в тихой дали, в неба глуби
Такая нежность и покой,
Как светлый кто-то белизной
Сквозь голубую мглу проступит –
И он всем полем нам полюбит,
Нам улыбнется всей рекой,
И отпускающей рукой
Нас примирит и приголубит.
Ах, это тот, кого на свет
Каким названьем ни уродуй –
Зови природой иль погодой –
Большой талант, большой поэт
Кончает осени сонет
Очаровательною кодой –
Под вечер дней, на склоне лет.- В. Меркурьева, 1918
№ 217
Огонь
Я улыбаюсь богу из лампад,
Мной сатана расцвечивает ад.
Я в очаге пляшу над углем черным,
Дыханьем воскрешаю души свеч,
Блещу в забавах, мчусь в труде упорном,
Но смертному меня не уберечь...
И закружусь стремительней Эринний...
Мир превратив в разбрызганный топаз,
С колючим смехом, красный щуря глаз,
Игриво покажу язык свой синий...
Плети венок моих несчетных линий.
Цвети, Земля, пока я не погас!
Испепелю твой лик в последний час,
Я задохнусь, – тебя задушит иней...- А. Антоновская, [1919]
На фоне канонической формы сонета особенно эффектны бывают нарочитые отступления от нее. Они многообразны: нетрадиционные размеры (ср. № 111—112; 4-ст. ямб, которым написан первый из приводимых здесь сонетов, тоже не традиционен в этой форме), нетрадиционные рифмовки (например, Бальмонт любил рифмовать катрены АББА БААБ), строки неровной длины (5- и 6-ст. ямбы в брюсовском сонете 1894 г. «Анатолий») и др. Одна из наиболее известных разновидностей – нетрадиционный объем, так называемый сонет с кодой («с хвостом»), как здесь. Кода не всегда ограничивается одной строкой и иногда занимает целое дополнительное трехстишие или даже несколько трехстиший (преимущественно в стихах комического содержания; некоторые строки в таких кодах бывают укорочены). Другая разновидность – нетрадиционный порядок, например перевернутый, или опрокинутый, сонет, начинающийся терцетами и кончающийся катренами, как в приводимом стихотворении А. Антоновской.
ВЕНОК ДЕФОРМИРОВАННЫХ СОНЕТОВ
№ 218
Бар-Кохба
- 1
И был он тяжк. И мощью выбухал,
Как сосунец Левиафана-рыбы.
В нем мудрые урчали требуха,
В нем мышцы переслаивались дыбой,
И мохногривых плеч глухие глыбы
Лоснились, как демьянова уха.
Он обитал средь скал и между древ.
Он наблюдал орлицы тяжкий вымах.
И лик его курился в рыжих дымах
Бараньего руновища кудрей.
Но на челе, как волны, скорбь. И он
Ярится ядом, точно скорпион,
И ждет и ждет. И вся окрестность стынет:
Ему покорны демоны пустыни.
- 2
Ему покорны демоны пустыни,
Он Асмодея повергал во прах,
И львы в ущельях, пардусы в горах
На зов его приходят без гордыни.
Но орган речи, точно горечь хины,
Но ложе – оперение полыни,
Но память вся в литаврах и громах
Под кондоров благословящий мах.
Он ждет, считая символы на елях.
Он долго ждет, обетованный мелех,
С остроугольной стрельчатостью лба
Пускай фанатика, но не раба.
А там внизу стенанье и унынье.
Но гнут народ его перед латынью.
- 3
Но гнут его народ перед латынью,
Прижал пятой железнобронный Рим.
Осыпавшийся Иерусалим
Декретали?ей кесаря отныне
Языческой отдаст Капитолине
Свой древний храм, и жертвенный свой дым
И огнь, тлеющий в сосудах тайных скрыни...
Чего же выжидает Элойгим?
Пророков опроказили темницы;
Уже царевичи средь яств и лалл
За кесаря подъемлют свой фиал;
Тетрархи суд вершат приятнолицый,
А их колено под бичом томится,
Надев ярем господственных орал.
- 4
Надев ярмо господственных орал,
Ушел в рабы Бар-Кохба за сестерций.
И полон желчи кубок его сердца,
И в горле шар катался. Не пора ль?
Жевали мельницы, везли стога,
Гончарни брызгали горячей дверцей,
И всюду Рим в эпикурейской взверти
Бичом гиппопотамовым стегал.
Но вынес всё. Дремучий и хоробрый.
Покорно принял выстеги на ребра,
Дабы с народом мучилась душа.
И вот однажды в радости звериной,
Хлебнув заразный воздух мятежа,
Он заревел народу из твердыни.
- 5
И он воззвал к народу из твердыни
И так сказал народу, говоря:
«Йгуди! Бдите: чермняя заря
Вещает битвы в хлябях и долине.
Неопалимой смоквой возгоря
(Бо правден сый – не оскверню святыни),
Аз поведу на сонмы свиньих сал,
Да персть могильную сложить на гойев.
Слетайтеся ж, орлы летучих воев,
Шма Исроэль! Последний час настал.
Да сбудется реченное толико,
Глаголющее, яко изо скал
Изыдет вождь, иже спасет языки.
Буди же пенье в перьях опахал.
- 6
Буди же пенье в перьях опахал!
Глаголю аз: да ниспадет завеса!
Внемлите мне: не бог, не вождь, не кесарь
Спасут вас, иже пас, иже пахал.
Сей огнь мятежей и революций,
Имеющие уши – в вашей руце!»
И час настал. И в оный час деревни,
И в оный час муж, дед его и мал
Его, и брат его, и внук, и дева,
Мечи точа, вострили о деревья
Для римлян и для тех, кто за портал
И родину и хижину предал,
Кто, оробев, упрятал шкуру сына.
Останови дыхание хамсина!..
- 7
Останови дыхание хамсина!
Оно зловонно, тяжко и черно,
Как облако в болотный вечер, – но
Непереоборима его сила.
Над черной синагогой, подле ила,
Она сгрудила дымное руно
И в дыме образ Каина носила,
Которого глупцы звали луной.
Тогда-то к ней Бар-Кохба прискакал
В рудой броне, в шеломе конских перьев,
И глянул, и – обсидианный херрев
Исторг из гнезд, оправленных в коралл,
И кликнул им: «Гей-дод! На изуверов!» –
И римский гнет испепеленный пал.
- 8
И римский гнет испепеленный пал.
Но сто недель над пухом и над грабью
Угрюмый Каин, месяца оскал,
Глазницами пустел из-за песка.
Среди разгрома одноглазый рабби
Пугалищем врывался в самый вар,
Завинченный в червонный самовар,
Залитый в шпоры и хвостатый грабень;
И в пах уставив тупоту копья,
С раздыба взнизывал тела и лица,
Пока в железе мясо не вздымится,
И был тогда Бар-Кохба бойней пьян.
Кипел, кипел перепоенный кратер.
Тогда воззрел священный император.
- 9
Тогда воззрел священный император
На смерч, коптящий блеск его корон,
И речь конскрипта потрясла театр:
«Романи, ове! Нам грозит Сион.
Конями видел мчать их под Юлатой...
Довольно ж контрадикции дебат и.
Припомним: маккабийцы, Гедеон,
Гиркан, Яннай, Аристобул, Горьон
И прочих торсы историйных статуй.
Их наш под взять железный должно статус».
И цезарь Элий-Публий-Адриан,
Сатисфакци?ей удовлетворенный,
Махнул рукой: «Пошлите легионы
На Иудеи бесноватый стан».
- 10
На Иудеи бесноватый стан,
Грузящиеся в Остии на рейде,
Шли римляне, лоснящиеся медью,
Этруски, галлы, полчища алан,
Карийцы, норики, бойцы из Седи,
И кимвры в шкурах барсов и медведей,
И толпы басков, скифов и корфян,
И горсти майоликовых парфян.
И претор Юлий, прозванный «Север»,
Главнокомандующий этих полчищ,
Глядел на варваров, на морды волчьи,
На боевые турмы, на резерв
И молвил: «Нас – таланты, их – караты».
И зазвенели глянцевые латы.
- 11
И зазвенели глянцевые латы,
Иша залить планету в алый шар.
(А в Иудее, в крепости Вефар,
Жила в лачуге девушка когда-то –
Люцилия. Язык кислей граната,
Из мяса неба персей полушар.
К ней знаменитый прилетел богáтырь,
И ворковал его орлиный карр,
Освободив от шлемоузда сжатый
Отек на щеках, вздуто-лиловатый.
Возлюбленная, как сосна, легка.
Возлюбленный – как барс ей и как брат ей.)
А орды шли, как саранча в пожар.
Их тьмы и тьмы. С востока до заката.
- 12
Их тьмы и тьмы. С востока до заката
Светильники шеломов и обоз.
Но катапульты зачинают бой
Зажженной паклей и смоленой ватой.
В занозах стрел, словно кусты, пехота
В щитах сползала бронзовым жуком.
Ее ошпорил плавающий гром
Верблюжьей кавалерии. В ворота!
Слоны, ферзи и пешки всех команд.
Железо пело в их пиррихьем танце,
Растрепливаясь искрами о панцирь.
Когда же стрелы с перьями в багрянце
Влетели в амбразуры и дома –
Над крепостью побагровел туман.
- 13
Над крепостью побагровел туман.
Смятенье, крик: «Где рабби? Где Бар-Кохба?
Единый он нанес разящий грох бы!»
А вождь играл с подругой, без ума
В объятьях обольстительного счастья,
Как рыжий лев среди бугров и чащи.
И вдруг копьем пальнуло в ухо «рабби»...
Хватился, разодрал пузырь окна:
Неслося – галлы, кельты и арабы
И ржание заветного коня.
В единый миг – броню на рамена,
Но женщина не отдает ремня.
Он оглянулся: губы и агаты...
И он погиб, огромный и косматый.
- 14
И он погиб, огромный и косматый.
Пронзенный тьмой пернатого ножа,
Но в судорогах смертного охвата
Ладонью грудь подруги обнажал.
А к вечеру квадрига в римском флаге
Люцилию умчала в шумный лагерь
К палатке, где под шелком купола,
И претор Юлий в тоге над кольчугой
Среди солдат приветствовал супругу
За идеально выполненный план.
Матрона вышла ко всему глуха...
Любовник снился, мускус аромата
И красный мех его груди лохматой –
И был он тяжк и мощью выбухал.
- 15
И был он тяжк и мощью выбухал,
Ему покорны демоны пустыни,
Но гнут его народ перед латынью,
Надев ярем господственных орал.
И он воззвал к народу из твердыни:
«Буди же пенье в перьях опахал,
Останови дыхание хамсина!»
И римский гнет испепеленный пал.
Тогда воззрел священный император
На Иудеи бесноватый стан,
И зазвенели глянцевые латы,
Их тьмы и тьмы. С востока до заката.
Над крепостью побагровел туман,
И он погиб, огромный и косматый.- И. Сельвинский, 1920
Венок сонетов строится по тем же правилам, что и венок семистиший (№ 197): последняя строка каждого стихотворения повторяется в первой строке следующего, а потом из этих строк складывается последнее стихотворение – магистрал. Обычно венок сонетов бывает малосодержателен: первые 14 сонетов лишь многословно распространяют то, что концентрированно содержалось в магистрале. Борясь с этим недостатком, молодой И. Сельвинский стал делать свои венки не лирическими, а эпическими по содержанию; а борясь с однообразием сонетной формы, стал пользоваться сонетами нетрадиционной формы – в предлагаемом венке ни один сонет не повторяет другого по рифмовке, все они по-разному разбиты на четверо-, трех- и двустишия. Поэт старается лишь следить, чтобы каждый сонет, «как настоящий», был написан на 5 рифм (9 сонетов из 15, а 11-й сонет – даже на 2 рифмы), самое большее – на 6 рифм, а также за тем, чтобы сонеты преимущественно начинались традиционным катреном с охватной рифмовкой (тоже 9 сонетов из 15). Составьте сами схему рифмовки каждого сонета и найдите 7 случаев, где в этом венке нарушается правило альтернанса (№ 184), и 2 случая, где повторение строки на стыке сонетов неточное.
Построенные так эпические венки, в отличие от традиционных лирических, Сельвинский называл «коронами сонетов», но общеупотребительным термином это не стало.
Восстание иудеев против римского императора Адриана под водительством Бар-Кохбы («Сына звезды») в 131—135 гг. в ответ на попытку поставить на месте разрушенного Иерусалима город Элию Капитолину – событие историческое, но весь ход событий и подробности сюжета целиком вымышлены. Левиафан-рыба – из книги Иова; Асмодей – дьявол; мелех – (др.-евр.) царь; Элойгим – одно из имен бога; гой – иноверец; обсидианный херрев – каменный меч; «Гей-дод!» – боевой крик; хамсин – жаркий ветер из пустыни; маккабийцы (обычно – Маккавеи) и пр. – деятели прежних войн еврейского народа; «Шма Исроэль» – «слушай, Израиль»; «Буди (-будь) же пенье в перьях опахал» – «полет стрел» (примечание автора); пардусы – барсы; скинии – палатки, служившие вместо храма; лалл – рубин (?); фиал – сосуд; тетрархи – «четверовластники», правившие разделенной Палестиной (анахронизм); орало – плуг; сестерций – мелкая римская монета; сонмы свиньих сал – римляне, употреблявшие в пищу свинину; вои – воины (архаизм); рудой – красно-рыжий; Остия – гавань Рима; конскрипт – сенатор; йгуди – иудеи; романи – римляне; имя Севéр означает «суровый»; турмы – конские отряды (нарочитый контраст с современным словом «резерв»); талант – вес около 26 кг; пирриха – греческий боевой танец; квадрига – колесница («флаг» при ней – анахронизм). Юлата, Седи и Вефар – места вымышленные (как и Горьон, народ корфяне и обращение «ове», – может быть, опечатка вместо «аве» – «привет!»?). Речь Бар-Кохбы стилизована под старославянский язык [со многими неправильностями; чермный – красный, иже – который, бо правден сый (вместо «есмь») – «ибо я праведен»; неопалимая смоква – видимо, контаминация Неопалимой купины из Ветхого завета и испепеленной за бесплодие смоковницы – из Нового]. Конструкция «сказал... говоря» воспроизводит еврейскую, конструкции «Конями видел мчать их», «контрадикции (т.е. прений) дебат и», «их наш под взять...» воспроизводят латинские. Сельвинский любил такие стилистические средства колорита места и времени. Этот колорит здесь вызывающе сочетается с «демьяновой ухой», русизмами «хоробрый» и «богáтырь» и сравнением лат (анахронизм!) с самоваром.
Обратите внимание, что слово «огнь» у Сельвинского произносится в два слога (отчего один стих – какой? – насчитывает не 5, а 6 стоп ямба), а слово «театр» – в три слога. Шесть раз Сельвинский допускает перебой ритма – сдвиг ударения в двусложном слове (ярче всего в 7-м сонете, менее ярко – в 12-м и 4-м, еще менее – в 6-м).
Для повторения пройденного попробуйте на материале этого венка сонетов составить такой же список ритмических форм 5-ст. ямба, какой мы составляли для 4-ст. ямба и хорея. Таких форм должно оказаться 14, из которых 5 употреблены лишь по одному разу (например, редкая двуударная форма в 3-м сонете). Самая частая форма употреблена 70 раз – какая? Найдите в 1-м и 7-м сонетах особенно «богатые» рифмы. Выделите точные и неточные рифмы (отдельно – женские, отдельно – мужские) и постарайтесь эти неточные расклассифицировать, хотя бы частично. Основные виды неточности – это усечение согласного («выбухал-требуха», «стынет-пустыни») и замена согласного или группы их («древ-кудрей», душа-мятежа», «дверцей-взверти», «статуй-статус»); они могут комбинироваться.
Неточные рифмы были введены в употребление в начале XX в. для того, чтобы обогатить возможности рифмовки в русском стихе, и это дело они сделали. Но у всякого достижения есть обратная сторона: из неточных рифм труднее выстраивать длинные рифмические цепи, чем из точных. Например, в начале 8-го сонета «пал» убедительно рифмуется с «оскал», а «оскал» – с «песка», но рифма между «пал» и «песка» уже не ощущается.
VIII. СТИХ И СМЫСЛ
(СЕМАНТИКА 3-СТ. ХОРЕЯ)
Есть «детский вопрос», который когда-нибудь приходил в голову каждому: почему поэт, начиная стихотворение, берет для него именно такой-то размер, а не иной? Всякому знакомо чувство, что такая-то стихотворная форма «подходит» или «не подходит» к такому-то содержанию. Например, народный стих, которым написаны «Буковинские песни» С. Федорченко (№ 147), «подходит» им: вообразим эти же слова переписанными астрофическим 4-ст. ямбом романтических поэм (№ 183), и мы почувствуем, насколько обеднеет выразительность. А попробуем представить себе публицистические агитационные стихи в форме рондо или вилланели (№ 191—194) и всякий согласится, что это, скорее всего, будет выглядеть смешно или нелепо. Но почему?
Сперва хочется предположить, что между формой и темой (и настроением) есть какая-то органическая связь. Так, Ломоносов считал, что оды свойственнее писать ямбами, потому что восходящий ритм ямба (движение голоса от безударного слога к ударному) соответствует возвышенному содержанию од. Но подумаем о том, что содержание стихов разнообразно до бесконечности – в каждом стихотворении новое! – а число стихотворных форм хоть и велико, но ограничено. Сонетов в русской поэзии написано многие тысячи, а в мировой – миллионы. Неужели их продиктовали поэтам тысячи и миллионы одинаковых мыслей и чувств?
На самом деле связь между формой и темой действительно есть, но связь эта – не органическая, а историческая. Когда поэт приступает к стихам философским или к стихам песенно-лирическим, он знает, что стихи такого содержания писались и до него и слушатели будут воспринимать его новые стихи на фоне старых. Чтобы облегчить или затруднить такое восприятие, он и выбирает свой размер. Например, он помнит, что в сонетах издавна выражаются мысли и чувства общечеловеческого значения и почти никогда – публицистически-злободневные. Поэтому стихи публицистические он не будет писать в форме сонета (а если будет, то понимая, что это покажется дерзким и вызывающим), стихи философские – напишет, и с большой охотой.
Конечно, философские стихи писались не только в форме сонета, поэтому писатель всегда может делать выбор между несколько традиционными формами. Каждая тема, каждое настроение находили выражение в разных стихотворных размерах, и каждый стихотворный размер применялся в прошлом для разных тем. Для разных, но не в равной мере: какие-то темы предпочитались, какие-то избегались. Для некоторых форм это очевидно: стих «Буковинских песен» всегда будет вызывать ассоциации с русским и славянским фольклором, гексаметр – с античностью, александрийский стих – с французским и русским классицизмом. Об исторических ассоциациях «шестистиший Ронсара» и «восьмистиший Гюго» (№ 162—165) мы уже говорили. Точно такие же, хотя и менее заметные семантические (смысловые) тяготения будут и у других размеров и строф – кроме разве что самых массово-употребительных, вроде четверостиший 4-ст. ямба.
Попробуем убедиться в этом на примере стиха не очень частого, но и не очень редкого – четверостиший 3-ст. хорея с окончаниями ЖМЖМ. В этом разделе собрано более 70 стихотворений, написанных этой разновидностью размера в 1890—1925 гг. Число их можно было бы и увеличить, но вряд ли намного; во всяком случае, смысловую картину это не изменило бы.
ВСТУПЛЕНИЕ
№ 219
Из Гёте
Над грядой зубчатой
Тих покой небес.
Тишиной объятый
Дремлет темный лес | | Птицы замолчали.
Спрятались в кусты...
– Скоро все печали,
Верь, забудешь ты.- Чролли, [1915]
|
№ 220
* * *
| Человек, яко трава... |
Осень взоры клонит,
Вечер свеж и мглист.
Ветер гонит, гонит
Одинокий лист. | | Так и ты, забвенный
Лист в ночных полях,
Прокружишь, мгновенный,
И уйдешь во прах.- С. Кречетов, [1910]
|
№ 221
* * *
В тишине глубокой
Все в деревне спят.
На небе высоко
Звездочки горят; | | Но одна упала
И исчезла вдруг.
Так тебя не стало,
Мой сердечный друг.- С. Дрожжин, 1907
|
№ 222
* * *
Глушь родного леса,
Желтые листы.
Яркая завеса
Поздней красоты. | | Замерли далече
Поздние слова,
Отзвучали речи –
Память все жива.- А. Блок, 1901
|
№ 223
* * *
Солнечные блики
Испещряют сад.
Розовой гвоздики
Вьется аромат. | | Шумные стрекозы
Пляшут над травой…
...О, родные грезы.
О, души покой.- Вл. Палей, 1915
|
Первое стихотворение нашей подборки – это переложение «Ночной песни странника» Гёте: той самой, в подражание которой Лермонтов в 1840 г. написал знаменитое восьмистишие:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
С этого лермонтовского стихотворения началась, можно сказать, история 3-ст. хорея в русской поэзии; более ранние образцы его, за редкими исключениями, забылись. Любопытно, что немецкий оригинал написан вовсе не 3-ст. хореем, а неравноиктным (вольным) дольником; 3-ст. хореем у Гёте звучит лишь первая строка – она и подсказала Лермонтову (а потом Чролли) выбор русского размера.
Содержание стихотворения Гёте и Лермонтова – 6 строк описания успокоенной природы и 2 строки – обещание успокаивающей смерти. Природа и смерть так и останутся в числе излюбленных тем этого размера. Эти две темы присутствуют во всех пяти приводимых восьмистишиях. В «природе» у С. Кречетова нет «отдыха», у Вл. Палея нет «ночи», и все-таки у одного в концовке – «покой», а у другого – «прах». Точно так же и композиция в трех из пяти стихотворений сохраняет лермонтовские пропорции – 6+2 строки (ср. также далее № 229).
ПУТЬ
№ 224
* * *
Посох мой цветущий,
Друг печальных дней,
Вдаль на свет ведущий
Верных звезд верней! | | Ты омочен в росах,
Ты привык к труду.
Мой цветущий посох!
Я с тобой иду.- С. Городецкий, [1912]
|
№ 225
* * *
Заломивши лихо
Шапку набекрень,
Залился ты взором
В ясный Божий день.
И, тая под оком
Накипевший хмель,
Слышишь ты в далеком
Тихую свирель.
Мимоходом думу
Дерзкую родишь; | | Тут же так, что небу
Жарко, начудишь.
И на все ты смотришь
Мельком, хоть в упор:
Дальше бродит, ищет
Захмелевший взор.
И, внемля свирели
Внятной и прямой.
Беззаветно к цели
Ты идешь немой.- И. Коневской, 1897
|
№ 226
* * *
Мерно вьет дорога
Одинокий путь.
Я в руках у Бога,
Сладко дышит грудь.
Гордо дремлют буки,
Чаща без границ.
Все согласны звуки
С голосами птиц. | | Манит тихим зовом
Зашумевший ключ.
Ветки свисли кровом
От пролетных туч.
Близкий, бесконечный,
Вольный лес вокруг,
И случайный встречный –
Как желанный друг.- В. Брюсов, 1899
|
№ 227
Ор. 66
Полночью глубокой
Затуманен путь
В простоте далекой
Негде отдохнуть
Ветер ветер злобно
Рвет мой старый плащ
Песенкой загробной
Из-за лысых чащ
Под неверным взглядом
Лунной вышины
Быстрых туч отрядом
Рвы затенены | |
Я старик бездомный
Всеми позабыт
Прошлых лет огромный
Груз на мне лежит
Я привык к тяготам
К затхлой темноте
К плещущим заботам
К путаной версте
Нет вокруг отрады
Все полно угроз
Туч ночных громады
Сиплый паровоз.- Д. Бурлюк, [1913]
|
№ 228
* * *
Гладкая дорога.
Полная луна.
С моего порога
Моря даль видна. ...
Беглый, бесконечный
Вьется путь змеей.
Путь на небе Млечный
Освещает мой.
Путь мой молчаливый.
Не присяду я.
Пусть бегут извивы,
Как и жизнь моя.
Ничего не свято,
Мир – момент, мечта… | | Пусть бегут куда-то
Странные года.
Вижу повороты
В пройденном своем,
Тени и высоты
И далекий дом...
Пройденные мысли,
Бездны прошлых дней.
Годы, что нависли,
Словно мрак ветвей.
Вижу много-много,
Но душа нежна.
Впереди – дорога,
Полная луна.- А. Лозина-Лозинский, 1912
|
Стихотворение Гёте, послужившее образцом для лермонтовских «Горных вершин», было озаглавлено «Ночная песня странника». Тема пути не была в нем названа (а только ее конечная цель – тема отдыха), однако у всех читателей она была в сознании. Рифмы «путь – грудь», «путь – отдохнуть» наметились еще у поэтов XIX в. – Плещеева и др. Путь этот совершается, как у Гёте и Лермонтова, на фоне природы (обычно – южной): по-лермонтовски тихой – у Брюсова, контрастно-бурной – у Бурлюка. (Обратите внимание на отсутствие знаков препинания у Бурлюка: это один из приемов, которыми футуристы шокировали читателей.) Путь этот одновременно и дорожный и жизненный (у Лозина-Лозинского к этому добавляется Млечный путь): здесь влияние «Горных вершин» дополняется влиянием другого лермонтовского стихотворения – «Выхожу один я на дорогу...». В стихотворении Коневского внимание смещается с образа пути на образ идущего – удалого русского молодца. Эта семантическая окраска тоже была подготовлена в XIX в. и еще встретится нам.
Строки «Гладкая дорога. / Полная луна...» у Лозина-Лозинского (а отчасти и «лунная вышина» у Бурлюка) напоминают хрестоматийное восьмистишие Фета, но о нем – чуть дальше.
ПРИРОДА
№ 229
Родина
Тихий шум дубравы,
Песня соловья,
Робкое журчанье
Горного ручья; | | Темный лес дремучий,
Пестрые луга...
Родина, о как ты
Сердцу дорога!- М. Леонов, 1898
|
№ 230
* * *
Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.
Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей. | | По лугу со скрипом
Тянется обоз –
Суховатой липой
Пахнет от колес.
Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый.
Край ты мой родной!- С. Есенин, 1914
|
№ 231
* * *
Дымом половодье
Зализало ил.
Желтые поводья
Месяц уронил.
Еду на баркасе,
Тычусь в берега.
Церквами у прясел
Рыжие стога. | | Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.
Роща синим мраком
Кроет голытьбу...
Помолюсь украдкой
За твою судьбу.- С. Есенин, [1916]
|
№ 232
Омут
Затомили очи
Тяжкой тишины.
Топь земную точит
Белый клык луны.
Ничего не будет –
Тени напоказ.
Кто стонал о чуде,
Не смыкая глаз, – | | Только тонет в глуби
Замерцавших вод,
Мрак со звоном рубит,
В искрах изойдет...
Хорошо и страшно
Кончится игра –
Засмеется влажно
Темная сестра...- Д. Майзельс, [1918]
|
№ 233
Вечерний жук
На лиловом небе
Желтая луна.
Путается в хлебе
Мрачная струна:
Шорох жесткокрылый –
И дремотный жук
Потянул унылый,
Но спокойный звук. | | Я на миг забылся,
Оглянулся – свет
Лунный воцарился,
Вечера уж нет:
Лишь луна да небо,
Да белее льна –
Зреющего хлеба
Мертвая страна.- И. Бунин, 1916
|
№ 234
* * *
Зорька догорает,
Дремлет старый сад,
Пламенем пожара
Рдеется закат.
Молкнет птичий щебет,
Шорох трав затих,
Ночь идет незримо
В свите снов своих. <...> | | Снится людям счастье,
Радость светит им
На полях печали
Солнцем золотым. <...>
Сердце! Что ж тебе тот
И не снится свет?
Или нам с тобою
Угомону нет?!- Ап. Коринфский, 1912
|
№ 235
* * *
Миновало лето.
Солнце из-за туч
С ласковым приветом
Не бросает луч;
Листья облетели
Средь осенних вьюг,
Птички улетели
На далекий юг; | | На дворе и в поле
И в глуши лесов
Не слыхать их боле
Звонких голосов.
Скучно, непривольно
Тянутся деньки,
И щемит невольно
Сердце от тоски.- С. Дрожжин, 1899
|
№ 236
* * *
Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвел.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст и гол. | | Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.
Женственно глядишься
В воду в полусне –
И засеребришься
Прежде всех к весне.- И. Бунин, 1905
|
№ 237
* * *
С теплою весною
Лето уж прошло,
Замерло родное
Милое село.
Небеса покрыла
Сумрачная мгла,
И глядит уныло
Солнце без тепла. | | С поля хлеб снопами
Свожен на гумно,
Выбито цепами
Каждое зерно.
Белый снег кружится
И, как легкий пух,
Медленно ложится
На увядший луг.- С. Дрожжин, 1908
|
№ 238
* * *
Тянется безмерно
Луговин тоска.
Блещет снег неверно,
Как пласты песка.
Небеса без света,
Тверды, словно медь.
Месяц глянул где-то,
Вновь чтоб умереть.
Зыблется, как тучи,
Дальний, серый бор,
Там, где пар летучий
Кроет кругозор. | | Небеса без света,
Тверды, словно медь.
Месяц глянул где-то,
Вновь чтоб умереть.
Ворон, с хриплым криком,
Старый волк худой,
Вам в просторе диком
Хорошо зимой!
Тянется безмерно
Луговин тоска.
Блещет снег неверно,
Как пласты песка.- В. Брюсов, пер. из П. Верлена, 1911
|
№ 239
* * *
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой. | | И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.- С. Есенин, [1913]
|
№ 240
* * *
Ночь и даль седая, –
В инее леса.
Звездами мерцая,
Светят небеса.
Звездный свет белеет,
И земля окрест
Стынет-цепенеет
В млечном свете звезд.
Тишина пустыни...
Четко за горой | | На реке в долине
Треснет лед порой...
Метеор зажжется,
Озаряя снег...
Шорох пронесется –
Зверя легкий бег...
И опять молчанье...
В бледной мгле равнин,
Затаив дыханье,
Я стою один.- И. Бунин, 1896
|
Содержанием стихотворения Гёте и Лермонтова, как сказано, были природа и смерть. Обе темы очень традиционны в романтической лирике и легко могут отделиться друг от друга. Решающий шаг к выделению «природы» в отдельную тему сделал Фет в восьмистишии 1842 г., где он заменил лермонтовский южный пейзаж северным, снежным: «Чудная картина, / Как ты мне родна: / Белая равнина, / Полная луна, / / Свет небес высоких / И блестящий снег, / И саней далеких / Одинокий бег». Это «как ты мне родна» находит прямой отголосок в концовках у Леонова и Есенина (№ 229, 230), а «свет небес» и «одинокий бег» – в стихотворении Бунина (№ 240).
Основные элементы фетовского пейзажа – снег, ночь, луна. Среди наших одиннадцати стихотворений в четырех присутствует «луна» (или «месяц») и в одном – «звезды». Четыре стихотворения изображают ночь, два или три – сумерки, «солнечное» стихотворение только одно («Белая береза...» Есенина; в нем влияние «Чудной картины...» дополняется влиянием другого фетовского стихотворения: «Печальная береза / У моего окна, / И прихотью мороза / Разубрана она...»). «Весенним» и «солнечным» можно считать еще стихотворение Есенина «Пасхальный благовест» (см. № 292). Это преобладание мрачности в пейзаже – несомненное наследие той темы смерти, которая присутствовала в «Горных вершинах».
Любопытно, что среди русских пейзажей оказывается и французский пейзаж (в стихотворении № 238, переведенном из Вердена), который отлично вписывается в общий ряд. Гораздо неожиданнее «горный ручей» как примета русского пейзажа у Леонова, – несомненно, пришедший из «Горных вершин». Оттуда же (но не от Лермонтова, а из немецкого подлинника) – «птичий щебет» и «шорох трав» у Ал. Коринфского.
БЫТ
№ 241
Шарманщик
В дальнем закоулке
Дед стоит седой
И шарманку вертит
Дряхлою рукой.
По снегу да босый
Еле бродит дед –
На его тарелке
Ни копейки нет.
Мимо идут люди.
Слушать не хотят | | Только псы лихие
Деда теребят.
Уж давно о счастье
Дед не ворожит,
Старую шарманку
Знай себе крутит –
Эй, старик! Не легче ль
Вместе нам терпеть.
Ты верти шарманку,
А я буду петь...- И. Анненский, пер. из В. Мюллера (год неизв.)
|
№ 242
* * *
Крестится избенка
В скудные поля,
Скучная сторонка –
Родина моя.
По весне туманно
Зеленеет новь...
Здесь узнал я странно
Странную любовь.
Все-то кто-то кличет,
Милый голосок, | | Под ноги мне тычет
Камни да песок.
Вот кукушка в зори
Вышла куковать,
Как случилось горе –
Не могу понять.
Крестится избенка
В дальние поля,
Скучная сторонка –
Родина моя.- Ю. Анисимов, [1913]
|
№ 243
Ветхая избушка
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит,
Бабушка-старушка
Из окна глядит.
Внукам-шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Санок быстрый бег.
Бегают, смеются,
Лепят снежный дом, | | Звонко раздаются
Голоса кругом.
В снежном доме будет
Резвая игра...
Пальчики застудят –
По домам пора!
Завтра выпьют чаю,
Глянут из окна –
Ан, уж дом растаял,
На дворе – весна!- А. Блок, 1906
|
№ 244
Пахарь
Встану я пораньше
С утренней зарей,
Распластаю землю
Матушкой сохой.
Брошу в землю зерна,
И те дни придут,
Землю смочит дождик,
Семена взойдут.
Да, пора и взяться
Мне за труд родной... | |
Будет, отдохнул я
Долгою зимой.
Хлеб уж весь подъелся,
Пусты закрома,
Корму нет скотине –
Все взяла зима.
Вся теперь надежда
На труды и пот,
А за них Господь мне
Урожай пошлет.- Ф. Шкулев, 1902
|
№ 245
Бабушкино горе
Из родной деревни
Часто в города
Гонит на работу
Горькая нужда.
Так, не кончив в школе
Никаких наук,
От нужды уехал
Мой родимый внук.
Жив ли он, сердечный?
Или где-нибудь
Бедствует, в работе
Надрывая грудь?
| | Может, где плетется
Медленно селом.
По большой дороге
Просит под окном –
Просит Христа ради.
Или, может быть.
Бродит, где не зная
Голову склонить?
Думает старушка,
Бедная, в тоске,
И слеза катится
По ее щеке.- С. Дрожжин, [1898]
|
№ 246
* * *
Чуть в избе холодной
Теплился ночник,
На печи безродный
Умирал старик.
Перед ним ни друга,
Ни сестры родной, | | Только, слышно, вьюга
Билась за стеной.
«Скоро ли до света?» –
Думает бедняк;
Но изба одета
Вся в могильный мрак.- С. Дрожжин, 1907
|
№ 247
* * *
Болесть да засуха,
На скотину мор.
Горбясь, шьет старуха
Мертвецу убор.
Холст ледащ на ощупь,
Слепы нить, игла...
Как медвежья поступь.
Темень тяжела.
С печи смотрят годы
С карлицей-судьбой. | | Водят хороводы
Тучи над избой.
Мертвый дух несносен,
Маята и чад.
Помялища сосен
В небеса стучат.
Глухо Божье ухо,
Свод надомный толст.
Шьет, кляня, старуха
Поминальный холст.- Н. Клюев, [1913]
|
№ 248
* * *
Месяц – рог олений,
Тучка – лисий хвост.
Полон привидений
Т&##225;ежный погост.
В заревом окладе
Спит Архангел Дня.
В Божьем вертограде
Не забудь меня.
Там святой Никита,
Лазарь – нищим брат,
Кирик и Улита
Страсти утолят. | | В белом балахонце
Скотий врач – Медост…
Месяц, как оконце,
Брезжит на погост.
Темь соткала куколь
Елям и бугру.
Молвит дед: не внука ль
Выходил в бору?
Я в ответ: теперя
На пушнину пост:
И меня, как зверя,
Исцелил Медост.- Н. Клюев, [1913]
|
№ 249
Зимняя потеха
Мех на шапке рыжий,
Солнце – волоса.
Стану я на лыжи,
Убегу в леса.
Там у Белоснежки
Дикая краса, | | Серебромережки,
Свистоголоса.
Вьюгопоцелуи
И Катайгора,
Ледяные струи,
Холодожара!- С. Городецкий, [1912]
|
№ 250
Детская площадка
В ярком летнем свете,
В сквере, в цветнике
Маленькие дети
Возятся в песке:
Гречники готовят,
Катят колесо,
Неумело ловят
Палочкой серсо; <…>
Все, во всем – беспечны,
И, в пылу игры,
Все – добросердечны...
Ах! лишь до поры!
Сколько лет им, спросим.
Редкий даст ответ:
Тем – лет пять, тем – восемь,
Старше в круге нет.
Но, как знать, быть может,
Здесь, в кругу детей, – | | Тот, кто потревожит
Мглу грядущих дней, –
Будущий воитель,
Будущий мудрец,
Прав благовеститель,
Тайновед сердец;
Иль преступник некий,
Имя чье потом
Будет жить вовеки,
Облито стыдом... <…>
И, смеясь затеям,
Вот несется вскачь
С будущим злодеем
Будущий палач!
Маленькие дети!
В этот летний час
Вся судьба столетий
Зиждется на вас!- В. Брюсов, 1918
|
В том же 1842 г., когда Фет напечатал «Чудную картину...», Огарев напечатал стихотворение «Изба»: «Небо в час дозора / Обходя, луна / Смотрит сквозь узора / Мерзлого окна...» – и далее о том, как спит отец, улеглась мать, засыпают дети и лишь борется с дремотой молодая дочь. Видно, каким образом новая тема, бытовая, связана со старой, идущей от «Горных вершин»: через ночь (уже с луной, как у Фета) и через сон. Стихотворение Огарева совпало с интересом к быту, растущим в русской литературе в середине XIX в. Поэтому оно вызвало волну подражаний – сперва у Никитина, потом у поэтов-самоучек – И. Сурикова и других, вплоть до представленного здесь С. Дрожжина.
В стихах нашего периода традиция, идущая от тех лет, чувствуется в двух направлениях. Во-первых, деревенский решительно преобладает в них над городским – в нашей подборке на городском фоне развертываются только два стихотворения (к ним можно еще прибавить блоковское «На чердаке» – см.№ 271). Во-вторых, в них преобладает мрачное настроение, вызванное старостью, скудостью, голодом, горем, смертью. Даже творение кончается исцелением, то это исцеление достигается молитвами покойника или покойницы (№ 248 – с именами нескольких святых-покровителей; вертоград – сад, куколь – капюшон, помялища в предыдущем стихотворении – от слова «помело»; Н. Клюев любил уснащать свои стихи такими не сразу понятными словами).
Светлым пятном на этом фоне выделяются стихи о детях. Они стали заметны еще во второй половине XIX в. как тема «воспоминания о деревенском детстве»; самым знаменитым, пожалуй, было суриковское «Вот моя деревня, / Вот мой дом родной, / Вот качусь я в санках / По горе крутой...» и далее – о сказке про жар-птицу. Когда Блоку было заказано стихотворение для детского журнала, он взял за образец именно Сурикова (№ 243). Брюсов перенес сцену детских игр в город (№ 250). Городецкий ввел в свои стихи сказочные мотивы (№ 249), также следуя Сурикову. Сказочные мотивы могут разрастаться – «Самоцветные камни» Ю.А.Анисимова, «Сказка» С. Городецкого (они не вошли в книгу только потому, что слишком длинны). В них повеселевший было 3-ст. хорей опять становится мрачным: сказка Городецкого – про косу, взятую у Смерти («Скрылась человечья / Старая краса. / Только у заплечья / Высится коса...»). Ср. печальный сказочный мотив у Блока – № 273.
Мы видим, как постепенно, шаг за шагом, но не теряя связи, может отступать тематика 3-ст. хорея от первоначальной, заданной Лермонтовым: от природы к быту, от быта к детству, от детства к сказке.
ТОСКА
№ 251
* * *
В этой жизни смутной
Нас повсюду ждет
За восторг минутный –
Долгой скорби гнет.
Радость совершенства
Смешана с тоской. | |
Есть одно блаженство –
Мертвенный покой.
Жажду наслажденья
В сердце победи,
Усыпи волненья,
Ничего не жди.- К. Бальмонт, 1895
|
№ 252
* * *
Дождь неугомонный
Шумно в стекла бьет,
Точно враг бессонный.
Воя, слезы льет.
Ветер, как бродяга,
Стонет под окном,
И шуршит бумага
Под моим пером. | |
Как всегда, случаен
Вот и этот день,
Кое-как промаян
И отброшен в тень.
Но не надо злости
Вкладывать в игру,
Как ложатся кости,
Так их и беру.- Ф. Сологуб, 1894
|
№ 253
* * *
Капли дождевые
Об окно стучат,
Призраки ночные
Что-то говорят.
Ночь и день все хлещет
Мелкий дробный дождь…
Нет, не затрепещет
Прожитая мощь...
Правда, песни спеты?
Капли мутны, злы... | |
Черные портреты,
Дальние углы…
Капли барабанят,
Надрывают грудь...
Сердце не устанет
Вспоминать свой путь... <...>
Правда так убога,
Правда так скупа...
Дней, как капель, много...
Ночь, как крот, слепа...- А. Лозина-Лозинский, 1912
|
№ 254
* * *
Мир закутан плотно
В сизый саван свой,
В тонкие полотна
Влаги дождевой.
В тайниках сознанья
Травки проросли.
Сладко пить дыханье
Дождевой земли. | |
С грустью принимаю
Тягу древних змей:
Медленную Майю
Торопливых дней.
Затерявшись где-то,
Робко верим мы
В непрозрачность света
И прозрачность тьмы.- М. Волошин, 1905
|
№ 255
* * *
В сумраке и скуке
Тает день за днем.
Мы одни – в разлуке.
Мы одни – вдвоем.
Радость иль утрата –
Но уста молчат. | |
Прячет брат от брата
Свой заветный клад, –
Тайной сокровенной
От нечистых рук
Кроет мир священный
И блаженств и мук.- М. Лохвицкая, 1900/1902
|
№ 256
* * *
<...>
Глухо, одиноко
Осенью в саду.
День, усни глубоко,
Не томись в бреду.
Глухо, одиноко
В думах у меня,
Боль, усни глубоко
До другого дня.
Ты меня забыла.
Как тебя забыть? | |
Ты тоской убила.
Как тоску убить?
Ты влекла, хотела.
Телом тело жгла,
Ты смеялась, пела
И – ушла.
День вставал с Востока
В солнечном бреду.
Глухо, одиноко
Осенью в саду. - Я. Годин, [1913]
|
№ 257
* * *
Ты ушла, но поздно:
Нам не разлюбить.
Будем вечно розно,
Будем вместе жить. | |
Как же мне, и зная,
Что не буду твой,
Сделать, чтоб родная
Не была родной?- Д. Мережковский, [1914]
|
№ 258
* * *
Ты ль меня забыла
И не вспомнишь вновь?
Но тому, что было,
Имя не любовь... <...>
Сердце не забьется,
Чутко замерев,
В речи не прольется
Трепетный напев,
И, ко лжи готовы
Милой не спроста, | |
Не сплетутся зовы,
Руки и уста. <...>
Миг неповторимый,
Тающий вдали.
Иль, не видя, мимо
Счастия прошли?
Иль светлей и краше
Счастью не бывать,
И на свадьбе нашей
Божья благодать?- С. Рафалович, [1916]
|
№ 259
* * *
Нет душе покою,
Глянул день в глаза,
И опять я строю
Шаткие леса.
Снова сердцу надо
Веровать в чертеж,
И мечтам – услада
Новых планов ложь.
Снится, снится зданье,
Купол золотой,
Бракосочетанье,
Ночь с тобой, с тобой. | |
Мы во мраке двое...
Двери тишь хранят...
Зыблются обои...
Душит аромат...
– Тщетно, дерзкий! тщетно!
Не воздвигнешь вновь
Купол огнецветный,
Новую любовь!
Будешь вновь обманут,
Разберешь леса,
И руины глянут
Прямо в небеса.- В. Брюсов, 1901
|
Тоска – эмоциональный знаменатель подавляющего большинства просмотренных нами стихотворений. Это настроение задано общим образцом – «Горными вершинами» Гёте – Лермонтова. Его концовке «Подожди немного – / Отдохнешь и ты» как бы откликаются строки Бальмонта: «...Есть одно блаженство – / Мертвенный покой» (№ 251), а им – брюсовское: «Нет душе покою, / Глянул день в глаза...» (№ 259). Неудивительно, что является целый ряд стихов, в которых настроение тоски выступает на первый план, а декорации природы или быта исчезают или становятся малозаметны.
В бытовых стихах часто изображался старик или старуха в избе, тоскующие под звуки ночной вьюги (№ 245—247). Достаточно поэту поставить себя в положение такого героя и повести изложение от первого лица, как получится именно такое стихотворение о тоске (№ 252—255). В качестве «пейзажного» фона здесь с удивительным единообразием предпочитается дождь. Характерным образом вновь всплывает тема пути (жизненного) и рифма «грудь – путь» (№ 253, ср. № 226 и 228). Майя в стихотворении Волошина – индийское философское понятие для обозначения кажущегося, мнимого, преходящего.
Когда чувство тоски требует более конкретной мотивировки, то естественно возникает самая традиционная поэтическая тема – несчастная любовь. В 3-ст. хорее XIX в. она – редкость; поэты нашего времени осваивают ее впервые. Это сказывается на интонационном строении стихотворений: в стихах традиционного стиля (таково большинство стихотворений, вошедших в раздел «Природа» и «Быт») почти все четверостишия раскалывались пополам на две коротенькие фразы, здесь все чаще фраза становится сложней и охватывает все четыре стиха. (Проверьте!).
ЛЮБОВЬ
№ 260
* * *
Станет на пороге:
Как пройти легко?
Конус синагоги
Очень высоко.
В домике еловом
Елкий клей в стене.
Сад заплыл лиловым
В западном окне. | |
Так тепло и сыро,
И бассейн нагрет;
Больше солнца вырос
Первый солнцецвет.
Словно из неволи,
Трудно мне уйти.
Елками до поля
Сужены пути.- К. Арсенева, [1916]
|
№ 261
* * *
Говор мой змеиный
Твой ли сон унес?
За водой долинной
Две ложбинки роз.
Жизнь пестрится скупо,
И душа темна…
Кто навесил купол
Выше, чем сосна?
Ты так удивленно
Веришь ласке слов… | |
Не люблю я звона
Трех колоколов.
Взор облещет юркий
Все твое лицо,
Из чешуйной шкурки
У меня кольцо...
Золотом светильным
Облестят сосну,
Но к святым и сильным
Глаз не поверну.- К. Арсенева, [1916]
|
№ 262
Два голоса
| П е р в ы й. | – Где ты? где ты, милый?
Наклонись ко мне.
Призрак темнокрылый
Мне грозил во сне.
Я была безвольна
В сумраке без дня...
Сердце билось больно... |
| Д р у г о й. | – Кто зовет меня? |
| П е р в ы й. | – Ты зачем далеко?
Темный воздух пуст.
Губы одиноко
Ищут милых уст.
Почему на ложе
Нет тебя со мной?
Где ты? кто ты? кто же? |
| Д р у г о й. | – В склепе я – с тобой. |
| П е р в ы й. | – Саваном одеты
Руки, плечи – прочь!
Милый, светлый, где ты?
Нас венчает ночь.
Жажду повторять я
Милые слова.
Где ж твои объятья? |
|
| Д р у г о й. | – Разве ты жива? |
| П е р в ы й. |
– И сквозь тьму немую
Вижу – близко ты.
Наклонясь, целую
Милые черты.
Иль во тьме забыл ты
Про любовь свою?
Любишь, как любил ты? |
| Д р у г о й. | – Понял. Мы – в раю.- В. Брюсов, 1905
|
№ 263
Голос
В смутный час вечерен
Вспомни голос мой.
Если ты мне верен,
Я всегда с тобой.
Нужно жаждать жажды,
Нужно вдаль идти. | | Я дышу однажды
На твоем пути.
Скуден свет унылый,
Труден подвиг дня.
Позови, мой милый,
Позови меня.- М. Лозинский, 1909
|
№ 264
* * *
Белый цвет магнолий
Смотрит, как глаза.
Страшно жить на воле:
Чуется гроза.
Волны, словно стекла,
Отражают блеск. | | Чу! в траве поблеклой
Ящерицы треск.
Вкруг смотрю смущенно,
Взор в листву проник:
Там к цветку склоненный
Юный женский лик.- В. Брюсов, 1899
|
№ 265
* * *
Слышу голос милой,
Вижу милый лик.
Не моей ли силой
Милый лик возник?
Разве есть иное?
В тишине долин | | Мы с тобой не двое –
Я с тобой один.
Мне ль цветком измятым
К нежной груди льнуть?
Сладким ароматом
Мне, как прежде, будь.- Ф. Сологуб, 1900
|
№ 266
Из цикла «Чудесное посещение»
Пробудясь в пустыне,
Вспомни дальний брег,
Тот, ах, тот, где Ныне
Значило: Навек!
Там, меж гулких впадин,
Хладен и гремуч,
Так, ах, так отраден
Вожделенный ключ!
Солнца луч нежгучий
Нежит круглый год – | | Средь листвы плакучей
Благодатный плод.
И всегда блаженны,
Руки вкруг воздев,
Гимн поют священный
Сонмы светлых дев.
Там, ах, там впервые
Деву встретил друг!
Звал меня – Софией
Светлый сонм подруг.- А. Кочетков, 1920/1922
|
Когда-то в XVIII в. любовь была обычной темой в 3-ст. хорее: этим размером писались легкие любовные песенки. Именно таков самый ранний образец русского 3-ст. хорея – комично звучащее четверостишие В. Тредиаковского: «Худо тому жити, / Кто хулит любовь: / Век ему тужити, / Утирая бровь» (под «бровью» здесь подразумевается лоб). Можно вспомнить также «Всех цветочков боле / Розу я любил...» И. Дмитриева, «Розы расцветают, / Сердце, отдохни...» В. Жуковского и др. Это – благодарный материал для стилизаций. Вот два примера тому из нашего периода. Образцом для Сологуба были французские песенки XVIII в., для Бунина – русские литературные «песни» в духе Кольцова. (Поищите в тексте Бунина искусно скрытые внутренние рифмы.) Заметим, что зачин Бунина в свою очередь послужил образцом для зачина известной песни М. Исаковского «Ой, цветет калина / В поле у ручья...» – сознательно это было сделано или бессознательно, мы не знаем.
№ 267
* * *
Солнце в тучу село –
Завтра будет дождь,
Но пойду я смело
Под навесы рощ.
Стану для забавы
У седой ольхи, | | Где посуше травы
И помягче мхи.
Хорошо, что дождик
Вымочит весь луг –
Раньше или позже
К роще выйдет друг.- Ф. Сологуб, 1921
|
№ 268
Песня
Зацвела на воле
В поле бирюза.
Да не смотрят в душу
Милые глаза.
Помню, помню нежный
Безмятежный лен. | | Да далеко где-то
Зацветает он.
Помню, помню чистый
И лучистый взгляд.
Да поднять ресницы
Люди не велят.- И. Бунин, 1909
|
В XIX в. песенки такого рода выходят из употребления, а вместе с ними – и тема любви в 3-ст. хорее. Возрождается она, как сказано, лишь у поэтов нашего времени, но с совсем иными подходами. Один из этих подходов мы видели (№ 256—259): несчастная любовь служит мотивировкой тоске. К таким стихам о несчастной любви примыкают и два стихотворения К. Арсеневой (№ 260—261), хотя тема тоски в них прямо не выражена. Другой подход в остальных стихах нашего раздела – через тему смерти, заданную русскому 3-ст. хорею еще «Горными вершинами». В стихотворении «Два голоса» мертвец слабо откликается на призыв живой (или умирающей?) возлюбленной, в стихотворении «Чудесное посещение» мертвая возлюбленная обращается к живому жениху (имя София напоминает одновременно и о православной божественной Мудрости, и о немецком романтизме). В стихотворениях № 263—265 как бы по колдовству возникает голос и лик нездешней возлюбленной, несмотря на то что стихотворения эти написаны разными поэтами и в разные годы. Во всяком случае полное отсутствие темы счастливой любви бросается в глаза.
СМЕРТЬ
№ 269
* * *
Много было весен –
И опять весна.
Бедный мир несносен,
И весна бедна.
Что она мне скажет
На мои мечты? | | Ту же смерть покажет,
Те же все цветы,
Что и прежде были
У больной земли,
Небесам кадили,
Никли да цвели.- Ф. Сологуб, 1899
|
№ 270
* * *
Мы, сплотясь с тобою
Против бурь и битв,
Шли на бой с судьбою
С пламенем молитв.
Но в душе не стало
Прежнего огня.
Друг мой, я устала,
Поддержи меня! | | Я искала счастья
В мимолетных снах...
Брось мне свет участья,
Прогони мой страх, –
Сердцу мир даруя
Сказкой о весне.
И когда умру я,
Помолись о мне.- М. Лохвицкая, 1896/1898
|
№ 271
На чердаке
Что на свете выше
Светлых чердаков?
Вижу трубы, крыши
Дальних кабаков.
Путь туда заказан,
И на что – теперь?
Вот – я с ней лишь связан…
Вот – закрыта дверь...
А она не слышит –
Слышит – не глядит,
Тихая – не дышит,
Белая – молчит...
Уж не просит кушать...
Ветер свищет в щель.
Как мне любо слушать
Вьюжную свирель!
Ветер, снежный север,
Давний друг ты мне!
Подари ты веер
Молодой жене! | | Подари ей платье
Белое, как ты!
Нанеси в кровать ей
Снежные цветы!
Ты дарил мне горе,
Тучи да снега...
Подари ей зори,
Бусы, жемчуга!
Чтоб была нарядна
И, как снег, бела!
Чтоб глядел я жадно
Из того угла!..
Слаще пой ты, вьюга,
В снежную трубу.
Чтоб спала подруга
В ледяном гробу!
Чтоб она не встала,
Не скрипи, доска...
Чтоб не испугала
Милого дружка!- А. Блок, 1906
|
№ 272
Утешение
Кто лежит в могиле
Слышит дивный звон,
Самых белых лилий
Чует запах он.
Кто лежит в могиле –
Видит вечный свет,
Серафимских крылий
Переливный снег. | | Да, ты умираешь,
Руки холодны,
И сама не знаешь
Неземной весны.
Но идешь ты к раю
По моей мольбе.
Это так, я знаю,
Я клянусь тебе.- Н. Гумилев, [1918]
|
№ 273
* * *
Я живу в пустыне.
Нынче, как вчера.
Василек мой синий,
Я твоя сестра.
Низкие поклоны
Мне кладут цветы.
На меже зеленой
Князь мой, милый, ты. | | Милый мой, не скрою.
Что твоя, твоя...
Не дает покою
Думушка моя.
Друг мой, князь мой милый
Пал в чужом краю.
Над его могилой
Песни я пою.- А. Блок, 1903
|
№ 274
* * *
Просыпаюсь рано,
Чуть забрезжил свет.
Тёмно от тумана –
Спать мне или нет?
Нет, вернусь упрямо
В колыбель мою –
Спой мне, спой мне, мама:
Баюшки-баю!
Молодость мелькнула,
Радость отнята,
Но меня вернула
В колыбель мечта.
Не придет родная –
Что ж, я сам спою,
Горе усыпляя:
Баюшки-баю!
Сердце истомилось.
Как отрадно спать!
Горькое забылось,
Я – дитя опять, | | Собираю что-то
В голубом краю,
И поет мне кто-то:
Баюшки-баю!
Бездыханно, ясно
В голубом краю.
Грезам я бесстрастно
Силы отдаю.
Кто-то безмятежный
Душу пьет мою.
Шепчет кто-то нежный:
Баюшки-баю!
Наступает томный
Пробужденья час.
День грозится темный,
Милый сон погас,
Начала забота
Воркотню свою,
Но мне шепчет кто-то:
Баюшки-баю!- Ф. Сологуб, 1896
|
Тема смерти содержалась уже в исходном стихотворении нашего размера – в «Горных вершинах». Потом она возникала во многих уже рассмотренных стихотворениях (№ 220—222, 227, 231—233, 245—248, 251, 262—266). В этот раздел выделены только те стихотворения, в которых тема смерти представлена наиболее сосредоточенно. Конечно, и они перекликаются с уже знакомыми нам темами – любви (№ 270, 272), быта (№ 271; хоть Блок и очень не похож на Дрожжина, но вьюга за стеной пришла к нему из 3-ст. хореев Дрожжина и других поэтов быта), сказки (№ 273); детства (№ 274). Концовки «...Помолись о мне» и «...По моей мольбе» перекликаются с концовкой № 231 – «...Помолюсь украдкой / За твою судьбу» – и серединой № 248 – «...Не забудь меня». А последнее стихотворение Сологуба прямо построено по образцу стихотворения Фета «Сердце – ты малютка! / Угомон возьми... / ...Перестанешь биться – / И навек в раю, – / Только будет сниться: / Баюшки-баю!» – тоже 3-ст. хореем, тоже о смерти, тоже через образы детства и колыбельного сна. Найдите это стихотворение у Фета и попробуйте определить разницу в разработке одинаковой темы Фетом и Сологубом.
БУНТ
№ 275
* * *
Оскверняешь ложью
Ты простор полей.
Называешь Божью
Землю ты своей. | | Даже гор уступы
Осквернил хулой.
О, какой ты глупый!
О, какой ты злой!- Ф. Сологуб, 1890
|
№ 276
Над полями Альзаса
Ангел непогоды
Пролил огнь и гром,
Напоил народы
Яростным вином.
Средь земных безлюдий
Тишина гудит | | Грохотом орудий,
Топотом копыт.
Преклоняя ухо
В глубь души, внемли,
Как вскипает глухо
Желчь и кровь земли.- М. Волошин, 1914
|
№ 277
Поле боя
Мертвые зарыты;
Вспахана земля;
Травами покрыты
Жирные поля; | |
Кое-где лопатой
Вкопаны луга,
Да торчит измятый
кончик сапога.- Б. Лапин, 1925
|
№ 278
Полно
Полно! Не впервые
Испытанья Рок
Подает России:
Беды все – на срок.
Мы татарской воле
Приносили дань:
Куликово поле
Положило грань.
Нас гнели поляки,
Властвуя Москвой;
Но зажег во мраке
Минин факел свой. | | Орды Бонапарта
Нам ковали ков;
Но со снегом марта
Стаял след врагов.
Для великих далей
Вырастает Русь;
Что мы исчерпали
Их, – я не боюсь!
Знаю: ждет нас много
Новых светлых дней:
Чем трудней дорога,
Тем привал милей.- В. Брюсов, июнь 1917
|
№ 279
* * *
Загуди сильнее,
Красный, вольный звон!
Злого чародея
Взяли мы в полон!
Вековые раны
Вылечит народ,
Будет сердце пьяно
Радостью свобод... | |
Буйно-огневая
Посреди песков
Бьет вода живая
Новых родников.
Песенные гулы,
Красный звон шальной.
– Веселись, Микула,
Царь земли родной!- А. Ширяевец, 1917
|
№ 280
Отчарь
| (Из поэмы) |
Тучи – как озера,
Месяц – рыжий гусь.
Пляшет перед взором
Буйственная Русь.
Дрогнул лес зеленый,
Закипел родник.
Здравствуй, обновленный
Отчарь мой, мужик!
Голубые воды –
Твой покой и свет, | | Гибельной свободы
В этом мире нет.
Пой, зови и требуй
Скрытые брега;
Не сорвется с неба
Звездная дуга!
Не обронит вечер
Красного ведра;
Мóгутные плечи –
Что гранит-гора. <...>- С. Есенин. 1917
|
№ 281
На воле
Волен ветер в поле,
Сам себе закон;
А на вольной воле
Я – в себе волён.
В сердце ль накипело,
Час ли бьет тоске, –
В путь-дорогу смело
Выйдешь налегке;
Позади покинешь
Бремя дум лихих, – | | Взглядом не окинешь,
Сколько было их.
Мне – чего жалеть ли,
Гонит не вражда, –
Вырвался из петли
И – прощай, нужда!
Ни угла, ни дома,
Ничего-то нет,
Бобылю – хорома
Бел-широкий свет!.. <...>- Ап. Коринфский, [1909]
|
№ 282
Волна
Вечер.Стенька Разин,
Верный атаман,
На веселый праздник
Гонит караван.
С моря волны-сестры.
Как снега, белы.
Отточились остро
Отмелей углы.
К городу пристали
Лодки и челны –
У царя в опале
Гордые сыны. | | Чарка атамана
В поднятой руке.
Весело и пьяно
Стало на реке.
– На Руси ли мало
– Доброго вина?
– Много! – отвечала
Синяя волна.
И упала с кручи,
И ушла к лугам,
И струной певуче
Прозвенела там.- П. Орешин, 1914
|
№ 283
* * *
Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Слышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке.
Входит кто-то сильный
В сером армяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил. | | И багор закинул,
Грудью надавил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
Вот они далеко,
Весело плывут.
Только нас с тобою,
Верно, не возьмут!- А. Блок, 1904
|
№ 284
* * *
Прежнее истлело,
Новое живет.
Там, где плыло тело,
Лодка поплывет.
Кто-то слезы ронит.
Пусть тоскует, пусть!
Никого не тронет
Старческая грусть.
Снесена ограда,
И разрушен дом, –
Никому не надо
Вспоминать о том. | | Плохо ль новоселье
Мертвому в гробу?
Хочется веселья
Каждому рабу.
Цепкую кручину
Прогони в кабак,
Надевай личину,
Надевай колпак.
Бубенцами звякай.
Бубном грохочи,
Шут, перед зевакой
Громче хохочи.- Ф. Сологуб, 1923
|
У И.С.Никитина, «классика» 3-ст. хорея (в темах природы и быта), есть известное стихотворение про вольного бобыля: «Дай взгляну веселей: / Дума не подмога. / Для меня ль, бобыля, / Всюду не дорога!..» Оно написано не 3-ст. хореем, а строчным логаэдом (как № 127), но в этом логаэде четные строки представляют собой 3-ст. хорей (а нечетные?); через это сходство тема воли могла связаться ассоциациями и со сплошным 3-ст. хореем. По-видимому, именно поэтому Ал. Коринфский написал свое стихотворение на точно ту же тему 3-ст. хореем (№ 281; ср. у Коневского – № 225), а затем это подхватили «крестьянские поэты» Орешин, Ширяевец и Есенин. Так совершилась неожиданная, казалось бы, перемена эмоционального знака: рядом со стихами о народе угнетенном и бедствующем (тема быта) явились стихи о народе вольном и сильном (тема бунта).
Стихотворение Коринфского написано по следам революции 1905г., стихотворение Орешина – на волне предвоенного революционного подъема, стихотворения Ширяевца и Есенина приветствуют февраль 1917 г. Революция в России была последствием войны; тема войны входит в 3-ст. хорей в стихах Волошина и Лапина. В ней знакомая 3-ст. хорею тема смерти расширяется от личных до общих масштабов. (Альзас в стихотворении Волошина – французское название Эльзаса, прирейнской области, где шли сражения первой мировой войны.) Любопытно, что в конце стихотворения Брюсова 1917 г. возникает в метафоре одна из самых традиционных тем 3-ст. хорея – путь, «дорога» и «привал». Несомненной аллегорией революции является стихотворение Блока с его концовкой о собственной судьбе. Поздним откликом на стихотворение Блока (через образ лодки) может быть воспринято и стихотворение Сологуба (№ 284, тоже с концовкой о себе), хотя это и не так: в нем говорится о смерти жены поэта, утонувшей полутора годами ранее.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 285
Гимн
Вновь закат оденет
Небо в багрянец.
Горе, кто обменит
На венок – венец.
Мраком мир не связан,
После ночи – свет.
Кто миропомазан,
Доли лучшей нет. | | Утренние зори –
Блеск небесных крыл.
В этом вечном хоре
Бог вас возвестил.
Времени не будет,
Ночи и зари...
Горе, кто забудет,
Что они – цари!- В. Брюсов. 1902
|
№ 286
Мой щит
| In hoc signo vinces. |
Витязь Тайной Дали,
Стоек я в бою –
Древний щит из стали
Кроет грудь мою...
В поясе средины
Выкован на нем
Строгий лик орлиный,
Дышащий огнем...
И над ним чеканно –
Мой старинный герб – | | Свиты вязью странной
Лилия и Серп.
И вкруг них, вдоль края,
Как венец литой,
Тянутся, сверкая
Огненной чертой –
Ярче, чем средь мрака,
Ожерелье звезд,
Три великих знака –
Молот, Посох, Крест.- Ю. Балтрушайтис, [1912]
|
№ 287
Песнь крови
– Тихо льется в чашу
Жертвенная кровь.
Звёзды славят нашу
Кроткую любовь.
В жертвенной могиле,
Где Иной почил,
Мы соединили
Токи алых сил.
Нож священно острый
В быстром круге рук.
Вы не бойтесь, сестры,
Острых быстрых мук.
И не бойтесь, братья,
В чашу кровь струя,
Разрушать заклятья
Злого бытия.
– Отрок непорочный,
Между вами – Я. | |
В чаше полуночной
Это кровь – Моя.
Кто ж боится боли,
В чашу кровь струя?
Тайной вечной воли
Эта боль – Моя.
– Сердце не трепещет.
Неразрывен круг.
Вкруг безмерность блещет
Лучезарных дуг.
– Обольщенья тела –
Легкий сон ночной.
Нет нигде предела
Меж Тобой и Мной.
Вас, как мир, Я движу.
Только плоть Мою
В хороводе вижу.
Кровь Мою Я пью.- Ф. Сологуб, 1907
|
№ 288
Видение вечера
Зыбля дым свой сизый
В поле, в тайный срок,
В пламенные ризы
Вечер даль облек...
В час их кроткой славы,
Искрясь, ввысь простер
Огненные главы
Огненный собор...
Во врата святые
Шествуют толпой
Митры золотые
К службе мировой... | | И в святыне горней
Светится потир –
И поник соборне
Вещий звездный клир...
И воскресла в Боге,
Лаской звезд дыша,
На земном пороге
Смертная душа...
Пламя разрешило
Плен ее в пыли –
Вскинуло кадило
К небу дым земли!- Ю. Балтрушайтис, 1913
|
№ 289
На кресте
Лестница златая
Прянула с небес.
Вижу, умирая,
Райских кринов лес.
В кущах духов клиры, –
Светел лик, крыло... | | Хмель вина и мирры
Ветром донесло.
Лоскуты рубахи
Треплются у ног...
Камни шепчут в страхе:
Да воскреснет Бог.- Н. Клюев, [1913]
|
№ 290
* * *
Тучи с ожереба
Ржут, как сто кобыл.
Плещет надо мною
Пламя красных крыл.
Небо словно вымя,
Звезды как сосцы.
Пухнет Божье имя
В животе овцы.
Верю: завтра рано,
Чуть забрезжит свет,
Новый под туманом
Вспыхнет Назарет.
Новое восславят
Рождество поля, | | И, как пес, пролает
За горой заря.
Только знаю: будет
Страшный вопль и крик,
Отрекутся люди
Славить новый лик.
Скрежетом булата
Вздыбят пасть земли…
И со щек заката
Спрыгнут скулы-дни.
Побегут, как лани,
В степь иных сторон,
Где вздымает длани
Новый Симеон.- С. Есенин, 1916
|
№ 291
Инония
| (Из поэмы) |
<…>
Слава в вышних Богу
И на земле мир!
Месяц синим рогом
Тучи проводил.
Кто-то вывел гуся
Из яйца звезды –
Светлого Исуса
Проклевать следы.
Кто-то с новой верой,
Без креста и мук, | |
Натянул на небе
Радугу, как лук.
Радуйся, Сионе,
Проливай свой свет!
Новый в небосклоне
Вызрел Назарет.
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера – в силе.
Наша правда – в нас! - С. Есенин, 1918
|
Смерть, итоговая тема русского 3-ст. хорея, для поэтов начала ХX в. была не только тихим бессилием или горьким отчаянием – она была также священнодействием, приобщением к другому миру и воскресением в Боге. Сам поэт уподобляется Христу, своей смертью открывающему людям «после ночи – свет». Таким образом, тема возрождения – это тоже как бы перемена эмоционального знака в теме смерти.
Отсюда торжественная интонация царственного «Гимна» Брюсова (миропомазание – обряд посвящения на царство). Отсюда религиозные образы в (традиционной для 3-ст. хорея) картине вечера у Балтрушайтиса. Отсюда же аллегоризм его стихотворения «Мой щит» [эпиграф его означает «Этим знаком победишь» («Сим победиши») – с такими словами римскому императору Константину в видении был показан крест с монограммой Христа]: Лилия и Серп означают молитву и труд, Молот, Посох, Крест – труд, путь, смерть и воскресение; «Лилия и Серп» назывался последний сборник стихов Балтрушайтиса. Особое положение занимает «Песнь крови» из мистерии Ф. Сологуба «Литургия Мне»: это диалог между хором и отроком, который приносит себя в жертву и причащает хор своею кровью в чаше; но так как, по Сологубу, мир есть лишь порождение творческой воли и фантазии человека, то отрок этим совершает жертву самому себе и сам причащается своею кровью.
Тема Христова воскресения прямо возникает в 3-ст. хорее у молодого Есенина в стихотворении 1914 г.:
№ 292
Пасхальный благовест
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам. | | Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.- С. Есенин, [1914]
|
Здесь поэт еще не отождествляет себя с Христом. Но это делает в своем стихотворении Клюев (крины – лилии; клиры – хоры; мирра – благовонное масло). А его взволнованную интонацию подхватывает Есенин в стихах революционных лет об обновлении мира, «новом Назарете» (Назарет – город, откуда Христос вышел на служение; Симеон Богоприимец – старец, возвестивший о судьбе новорожденного Христа). Обновленный мир для Есенина – прежде всего крестьянский мир; отсюда образы рожающих кобыл и овцы, вылупляющегося звездного гуся, бодающегося месяца.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 293
Хорей
Хрупкой прялки трепет,
Как отрадно прясть!
Робко-резвый лепет
Кроет ритма власть.
Рук незримых пряжа
Размеряет путь;
Разве радость та же?
Разве ноет грудь? | | Разве двери рая
Не раскрылись вновь?
Разве не играя
Разгорелась кровь?
Розы крови, рея,
Дали красный нимб…
Ровный бег хорея
Подарил Олимп.- Черубина де Габриак, 1915
|
Е. Васильева (Черубина де Габриак) была приверженкой антропософии – мистической науки о божественном единении человека с мирозданием. Одно из средств к достижению этого единения – ощущение общего ритма; занятия этой «эвритмией» были непременной частью упражнений в антропософском обществе. Для занятий и написала она стихотворение «Хорей», а также два аналогичных – «Дактиль» и «Амфибрахий».
Интересно, что в качестве образца хорея она выбрала именно 3-ст. хорей, а не гораздо более распространенный 4-ст. хорей, например. Может быть, это оттого, что в более коротком стихе более прост ритм и более однообразны сочетания слов. В самом деле, около трети всех строк 3-ст. хорея полноударны, состоят из трех слов, а около двух третей содержат пропуск ударения, состоят из двух слов. Так как более слабые синтаксические связи обычно приходятся между стихами, а более сильные – внутри стиха (№ 21), большинство двусловных стихов образуются четырьмя самыми прочными синтаксическими конструкциями:
1) определение и определяемое: «полная луна», «желтая луна», «белая луна», «резвая волна», «поздние слова» и пр.;
2) глагол и дополнение: «размеряет путь», «надрывает грудь», «озаряя снег», «кроет голытьбу», «к всенощной зовет» и пр.;
3) глагол и обстоятельство: «медленно ложится», «звонко раздаются», «неумело ловят», «и щемит невольно», «стану для забавы» и пр.;
4) подлежащее и сказуемое: «метеор зажжется», «шорох пронесется», «теплился ночник», «умирал старик», «разгорелась кровь» и пр.
Такие синтаксически схожие словосочетания в ритмически схожих стихах называются ритмико-синтаксическими клише. Попробуйте выделить эти четыре ритмико-синтаксических клише во всех двусловных строках этого раздела и присмотритесь, какие еще ритмико-синтаксические клише можно в таких строках найти.
Обратите внимание, как редки в 3-ст. хорее анжамбманы (№ 21), особенно в середине строфы, потому что четверостишие 3-ст. хорея стремится распасться на два замкнутых двустишия. Наиболее заметные анжамбманы в стихотворениях: «Что мы исчерпали / Их, – я не боюсь» (№ 278), «Оглянулся – свет / Лунный воцарился» (№ 233), «Тут же так, что небу / Жарко, начудишь» (№ 225); где еще?
Мы просмотрели 75 стихотворений, написанных 3-ст. хореем и сгруппированных тематически. (Может быть, вы предпочли бы сгруппировать их иначе? Попробуйте.) Каждую из этих определяющих тем можно назвать семантической (т.е. смысловой) окраской этого размера, а совокупность этих окрасок – семантическим ореолом этого размера. Не все ученые признают эти понятия: некоторые считают, что семантическая традиция между стихотворениями неощутима и каждое стихотворение пишется так, как если бы оно использовало данный стихотворный размер впервые. Решите сами, достаточно ли убедительно для вас предлагаемая подборка текстов доказывает, что семантическая традиция все же существует.
У стихотворений, написанных 3-ст. хореем, за редкими исключениями (№ 267, 268), один семантический исток: переложение Лермонтова из Гёте «Горные вершины / Спят во тьме ночной...». В других стихотворных размерах у начала семантических традиций стоят два или три таких же известных и всем памятных стихотворения; их перекрещивающиеся влияния дают более сложную картину. Может показаться, что в конечном счете все размеры одинаково открыты для всех тем. Это не совсем так: мы видим, что в почти исчерпывающем своде 3-ст. хорея начала века отсутствуют гражданская лирика (исключение – № 278), счастливая любовь, юмористическая поэзия. Но еще важнее, что даже наличествующие темы по-разному окрашиваются соседними. Тема несчастной любви возможна едва ли не во всех размерах. Но в 3-ст. хорее сквозь нее будут просвечивать путь, природа, тоска, смерть и т.д., а в 3-ст. амфибрахии, например, в ней будут отзвуки балладной романтики, воспоминаний, видений, сна, интонации раздольной песни и т.д.
Соотношение между формой и содержанием стиха – сложный предмет, и наука только начинает подступать к его исследованию. Для тех, кого заинтересовала эта книга, здесь – широкое поле для приложения приобретенных знаний.
НЕ-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ АВТОРАХ
В этой книге представлены стихи 95 поэтов. Имена некоторых из них общеизвестны. Но подавляющее большинство авторов мало кому знакомы – порой даже среди специалистов. Многие читатели услышат о них впервые. Это пособие – по т е о р и и л и т е р а т у р ы , а не по истории литературы. Дать здесь биобиблиографические справки обо всех писателях, чьи стихи приводятся, нет никакой возможности. Сведения о книгах, выпущенных ими, достаточно полно сообщаются в справочнике: Тарасенков А.К. Русские поэты XX века: 1900—1955, М., 1966; библиография, сведения о жизни хотя бы наиболее заметных из них – в издании: Краткая литературная энциклопедия. М., 1962—1978. Т. 1—9. Достаточно полно охвачена жизнь и деятельность наших авторов, даже малоизвестных, в труде, лишь недавно начавшем выходить: Русские писатели: 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. К этим изданиям мы отсылаем читателей для более углубленного знакомства с литературой эпохи.
Здесь же мы стремились только к одному: чтобы все эти многочисленные имена не остались для читателей безликими, чтобы каждый автор по возможности выделялся какой-нибудь чертой творчества, поведения, характера. Время, когда писались эти стихи, было переломное, жизнь – трудная, облики – пестрые; дать хотя бы беглое представление об этом литературном многообразии – цель заметок. Они намеренно коротки, и в них нарочито одинаковое место отведено и большим и малым поэтам. Понятно, что для таких характеристик приходилось пользоваться языком не литературоведа, а критика, со всем его несовершенством; при всем том от чисто субъективных суждений автор старался воздерживаться. Лишь писатели, которые не нуждались в рекомендации, – Блок, Брюсов, Гумилев, Мандельштам, Цветаева – характеризовались с точки зрения того, что внесли они собственно в русское стихосложение и чем выделялись на поэтическом фоне эпохи.
За помощь при составлении этих заметок автор искренне благодарит С.И.Гиндина, О.Б.Кушлину, Т.Л.Никольскую, А.Е.Парниса, Р.Д.Тименчика и редакцию биографического словаря «Русские писатели».
АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1892—1972, Ницца) принадлежал к младшему поколению акмеистов, эмигрировал, в 1923 г., писал стихи, полные ощутимых литературных реминисценций, позднее – все более тонкой простоты и ностальгической тоски; бытовая поэма «Вологодский ангел» в его творчестве – исключение. Талантливый критик. – № 141.
АЛЬВИНГ (наст. фам. – Смирнов) Арсений Алексеевич (1885—1942) – целенаправленный и удачливый подражатель Ин. Анненского в его поэтике тоски, бессонниц и иносказаний, в красивых словах пополам с прозаизмами; возглавлял его поклонников в кружках «Жатва» (1910—1916) и «Кифара» (1923—1924). Писал стихи до конца 1920-х годов, но почти не печатался. – № 15.
АНИСИМОВ Юлиан Павлович (1886—1940) – переводчик и подражатель Р.М.Рильке в духе славянофильской грустной религиозности. «Очарование любительства», при котором трудно быть «творчески сильной личностью», вспоминал Б. Пастернак, начинавший путь в одной с ним младосимволистской группе. – № 242.
АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович (1856—1909) – «русский Малларме», экспериментировал не столько со стихом, сколько со стилем; его опыты были не менее смелы (хоть и менее заметны), чем у молодого В. Брюсова. Но в его систему стиля входит и интонация (например, напряженно-томная), а на нее, в свою очередь, опирается игра ритма 6-ст. ямба. – № 91, 241.
АНТОНОВСКАЯ Анна Арнольдовна (1886—1967) – автор 10-томного исторического романа «Великий моурави» (Сталинская премия 1942 г.), начинала литературную деятельность в Тифлисе в 1918—1922 гг. как хозяйка салона, издательница журнала «Аре» (вместе с С. Городецким) и поэтесса эклектически красивого стиля; к этой поре относится и приводимый сонет – № 218.
АРСЕНЕВА Клара Соломоновна (1889—1972) училась писать у А. Ахматовой, упрощая (но умело избегая как манерности, так и небрежности) ее темы и интонации («Стихи о жизни», 1916); таких поэтесс в 1910-х годах было много («...Я научила женщин говорить..» – писала Ахматова). После революции – преимущественно переводчица грузинских и других поэтов. – № 94, 260, 261.
АХМАТОВА (наст. фам. – Горенко) Анна Андреевна (1889—1966) начала с широкого употребления дольника, введенного в поэзию Блоком, сделав этот размер общедоступным; потом он уступил место в ее поэзии трагически-монументальным ямбам, но возвратился в строфах «Поэмы без героя» – о годах литературной молодости поэтессы. – № 117.
АСЕЕВ Николай Николаевич (1889—1963) был одарен редким чувством языка (сближавшим его с В. Хлебниковым) и чувством ритма (столь ощутимым в «Пляске»); эксперименты привели его к футуристам (в группу «Центрифуга»); только на этом интуитивном даре он плодотворно работал в поэзии более 20 лет, был высоко ценим В. Маяковским, но лишь когда этот дар стал слабеть, получил Сталинскую и Ленинскую премии. – № 146.
БАЛТРУШАЙТИС Юргис Казимирович (1873—1944, Париж) – из литовской крестьянской семьи («Почему жалеют Блудного сына, что он пас свиней? Гусей пасти труднее!» – говорил он по своему опыту); символист брюсовской группы, друг А. Скрябина; угрюмый, лаконичный, мало писал, много переводил. В 1921—1939 гг. – посол Литвы в СССР. – № 85, 171, 286, 288.
БАЛЬМÓНТ (наст. фам. – Бáльмонт) Константин Дмитриевич (1867— 1942, Париж) из всех символистов первым получил общечитательское признание и первым его утратил («исписался»), сохранив, однако, славу самого «певучего» поэта эпохи. Его заслуга – разработка сверхдлинных размеров (часто с внутренними рифмами) и удлиненных рифмических цепей. – № 76, 97, 119, 148,251.
БЕЛЕНСОН Александр Эммануилович (1895—1949) – подражатель и вульгаризатор М. Кузмина (как в раннем, «легком», так и в позднем, «гностическом» его стиле), издатель альманахов «Стрелец», объединявших символистов, В. Розанова, Кузмина и «гилейцев»-футуристов. В 1930—1940-х годах – автор массовых советских песен (под псевд. А. Лугин). – № 65—74.
БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя – Борис Николаевич Бугаев, 1880—1934) годами почти не писал стихов, а потом бросался на них со страстью, скоро переходившей в эмоциональный эксперимент, результаты которого он стремился оценить трезво и объективно, с подсчетами и цифрами; так явились его статьи о ритме 4-ст. ямба («Символизм», 1910), ставшие началом современного стиховедения. – № 4, 5, 10, 55. 61. 86.
БЛОК Александр Александрович (1880—1921) вошел в историю стиха как канонизатор дольника и неточной рифмы; то, что у других звучало резким экспериментом, у него стало выглядеть естественно и органично. Последующие опыты более сложных ритмов и полиметрии («Снежная маска» и др.) нашли свое завершение в «Двенадцати». – № 144, 168, 222, 243, 271, 273, 283.
БОБРОВ Сергей Павлович (1889—1971) начинал как ученик экспериментаторствующего А. Белого, потом возглавил футуристическую группу «Центрифуга» (Н. Асеев, Б. Пастернак), был известен как злой и хлесткий критик, но как поэт и прозаик ценился невысоко («Замечтавшаяся гиря», – иронизировали полемисты). Автор ценных работ по стиховедению. – № 104.
БОЖИДАР (наст, имя – Богдан Петрович Гордеев, 1894—1914; повесился через полтора месяца после начала первой мировой войны) – участник группы «Центрифуга», юный «воин времени» (выражение В. Хлебникова, перед которым Божидар благоговел), был автором стихотворной книжки «Бубен» (1914) и трактата о стихе «Распевочное единство» (посмертно, 1916, с комментарием С. Боброва), написанного своеобразнейшим славянизированным языком. – № 195.
БОРОДАЕВСКИЙ Валериан Валерианович (1875—1923) был горным инженером (отсюда «о, разумные колеса!»), потом помещиком, умер на советской службе в Курске. Стихи его, тяжелые и напряженные, ориентировались на традицию философской лирики Ф. Тютчева и Е. Баратынского. К первой из двух его книг написал предисловие Вяч. Иванов. – № 181.
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873—1924) – первый сознательный экспериментатор в поэзии начала XX в.; в его ранних сборниках современников раздражала «намеренность, сознательность, хрестоматийность», а среди его последних сборников были «Сны человечества» (не закончено) и «Опыты» – как бы историческая и теоретическая антологии стихотворных форм. – № 16, 36, 56, 64, 84, 87, 100, 101, 102, 106, 109, 111, 123, 166, 197, 200, 226, 238, 250, 259, 262, 264, 285.
БУНИН Иван Алексеевич (1870—1953, Париж), хотя и издал свой «Листопад» в символистском «Скорпионе» (1901), демонстративно чуждался декадентства и его формальных поисков. Собственные формальные поиски Бунина интереснее всего в области имитации народных размеров. – № 173, 233, 236, 240, 268.
БУРЛЮК Давид Давидович (1882—1967, Нью-Йорк) – организатор крайне левой группы футуристов «Гилея» (1911—1914), художник по специальности и антрепренер-скандалист по призванию, уделял поэзии лишь малую часть своей бурной энергии; большинство его стихов – короткие бессвязные наборы фраз, многозначительно пронумерованные как «опусы». – № 59, 227.
ВЕРМЕЛЬ Самуил Матвеевич (ок. 1892—1972) – стихотворец-любитель (его «Танки», 1915, послужили образцами для О. Черемшановой), с Д. Бурлюком издавший альманах «Московские мастера» (1916). Ученик Вс. Мейерхольда, снимавшийся с ним в фильме «Портрет Дориана Грея», занимался режиссурой в России и потом за рубежом. – № 8.
ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович (1878—1956) – филолог, пушкинист, стилизовал свои стихи под А. Дельвига и Е. Баратынского, мечтал о синтезе символизма с классической традицией. «Верный чертеж – и слабый нажим» находил в его «Идиллиях и элегиях» А. Блок. «Как много можно сделать в поэзии, даже не обладая крупным талантом», – писал о нем Н. Гумилев. – № 48, 116, 136, 175, 176.
ВИЛЬКИНА Людмила Николаевна (1873—1920, Париж), жена одного из первых символистов Н. Минского (Виленкина), переводчица М. Метерлинка, к своей единственной оригинальной книге «Мой сад» (1906) упросила о предисловии В. Розанова, а он написал: «Я люблю порядок, не терплю беспорядка и никак не могу рекомендовать эту книгу», ведущую читателя «непротоптанными дорожками». В книге были 30 сонетов и 3 рассказа. – № 203.
ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (1878—1932) складывался как поэт под перекрестным влиянием зыбкого стиля французских символистов и строгого – парнасцев. Стиховые эксперименты никогда не были для него самоцелью, однако В. Брюсов писал, что по его первой книге (1910) молодые поэты «прямо могут учиться технике своего дела». – № 29, 140, 165, 254, 276.
ГЕРЦЫК Аделаида Казимировна (1874—1925) – поэтесса из круга Вяч. Иванова и М. Волошина, автор напряженно-тихих стихов (единственный сб.: 1910) и осторожной психологической прозы; В. Брюсов называл ее «сибиллой» (вещуньей). «Глухая, некрасивая, немолодая – неотразимая», – вспоминала дружившая с ней М. Цветаева. – № 126—127.
ГИППИУС Зинаида Николаевна (1869—1945, Париж) первая вызвала шум вокруг русского символизма своей «Песней» (1893): «...Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете...» – образцом акцентного стиха. В дальнейшем она предпочитала более традиционные формы; приводимые здесь стихи остались вне ее сборников. – № 40, 43.
ГОДИН Яков Владимирович (1887—1954), сын фельдшера, профессиональный литератор с 16 лет, печатавшийся во множестве невысоко-пробных изданий, был для современников нарицательным образцом новой «массовой поэзии», усвоившей (и неплохо) поэтическую технику символизма. В 1915 г. поселился в деревне, там женился и постепенно «выпал» из литературы. – № 108, 134, 256.
ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович (1884—1967) первыми своими книгами «Перун» и «Ярь» (1907) потряс самых взыскательных ценителей, в третьей – «Дикая воля» (1908) – казался самоповторяющимся, а в следующих – исписавшимся; зачинатель акмеизма (вместе с Н. Гумилевым), скоро оказался за бортом его; умер автором агитационной лирики, оперных либретто и переводов с белорусского. – № 60, 75.
ГОФМАН Виктор Викторович (1884—1911; покончил жизнь неожиданным самоубийством) называл своими учителями К. Бальмонта и В. Брюсова, казался как бы литературным оруженосцем Брюсова («Виктор-ликтор»); свой идеал он называл «мистическим интимизмом». Брюсов ценил его за «певучесть», а Городецкий бранил «дамским поэтом». – № 82, 224, 249.
ГОФМАН Модест Людвигович (1887—1959, Париж) – филолог, товарищ С. Городецкого и В. Пяста по «Кружку, молодых» поэтов-символистов из Петербургского университета, автор «Книги о русских поэтах» с антологией» теоретик «соборного индивидуализма» в духе Вяч. Иванова; потом – видный пушкинист-текстолог. – № 130—131.
ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886—1921; расстрелян), путешественник по Африке, кавалерист-доброволец в первую мировую войну, начинал как ученик В. Брюсова и сохранил брюсовское пристрастие к парнасскому совершенству и законодательству вкуса, встав во главе акмеизма и «Цеха поэтов» (1911—1914 и 1921—1923). Один из типов 3-иктного дольника иногда условно называется «гумилевским». – № 24, 155, 200, 214, 272.
ДОБРОЛЮБОВ Александр Михайлович (1876—1942?) – самый дерзкий из ранних декадентов-жизнестроителей: держался как жрец, курил опиум, жил в черной комнате и т.д.; потом ушел «в народ», основал секту «добролюбовцев»; под конец жизни почти разучился грамотно писать, хотя еще в 1930-х годах, всеми забытый, делал попытки печататься. – № 151.
ДОЛИНОВ Михаил Анатольевич (1892—1936, Париж) из театральной семьи, студент-юрист и «териокский дачник» (А. Блок), писал для театра миниатюр и выпустил в 1915 г. книжку элегий, идиллий и мадригалов, где легкая античность, Парни, юный Пушкин и питерский дэндизм смешивались то изящно, то безвкусно («Епиходов поэзии» – выражение Н. Гумилева). В эмиграции – радиоинженер. – № 132.
ДРОЖЖИН Спиридон Дмитриевич (1848—1930) – крестьянин Тверской губернии, писавший (между сельскими работами) стихи о крестьянской доле в лучших традициях А. Кольцова, И. Никитина и И. Сурикова. Академия наук назначила ему пенсию, а Р.М.Рильке посетил его как хранителя духа русского народа и перевел его стихи на немецкий язык. – № 221, 235, 237, 245, 246.
ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895—1925; повесился) начинал в традиционных «суриковских» формах крестьянской поэзии, в 1917—1918 гг. увлекался свободным стихом и полиметрией, в 1919—1920 гг. – различными формами акцентного стиха («Пугачев»), в последние годы жизни – вольным ямбом, 5-ст. хореем и 3-иктным дольником (один из ритмических типов которого иногда называют «есенинским»). – № 230, 231, 239, 280, 290—292.
ЕФИМЕНКО Татьяна Петровна (1890—1918; зарезана бандитами вместе с матерью на херсонском хуторе), дочь известных историков-этнографов, писала стихи (конечно, под влиянием А. Ахматовой) как лирический дневник, а для печати отбирала лишь легкие игровые стилизации под античность («Жадное сердце», 1916). – № 139.
ЖАБОТИНСКИЙ Владимир (наст, имя – Зеев) Евгеньевич (1880—1940, США) – публицист, прозаик, поэт, переводчик (автор одного из лучших русских переводов «Ворона» Э. По – под псевд. «Альталена»). К. Чуковский упоминал о нем как о наставнике своей одесской журналистской молодости. Был крупнейшим деятелем сионизма; в первую мировую войну воевал на Палестинском фронте. – № 153.
ЗОЛОТУХИН Георгий Иванович (1886—после 1924), попутчик футуристов, печатался в 1915—1916 гг. в Москве и в 1917—1922 гг. в Крыму. Увлекался разработкой внутристиховых созвучий («я жил и живу в ливне рифм...»), называя это «эхоизмом»; по выражению критиков, довел эффект концевого созвучия «почти до шарлатанства». – № 33.
ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866—1949, Рим) – «Вячеслав Великолепный», крупнейший поэт и теоретик символизма как мировоззрения. Его «среды» в квартире («Башне») на Таврической ул. в Петербурге в 1905—1909 гг. были одним из центров русского символизма. Филолог и историк по образованию, он в совершенстве владел имитациями античных и ренессансных стихотворных форм. – № 35, 53, 54, 62, 158, 161, 202, 215.
ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894—1958, Иер-ле-Пальмье) – член «Цеха поэтов», акмеист с романтическим уклоном в томную ностальгию. Наиболее зрелые и индивидуально окрашенные его стихи написаны уже за границей после 1923 г. – № 160, 180.
КАЛИННИКОВ Иосиф Федорович (1890—1934, Чехословакия) – автор нашумевшего романа «Мощи» о монастырском разврате; но роман был сочтен порнографическим и не помог автору вернуться из эмиграции. В 1915—1918 гг. успел выпустить три книжечки с триолетами и даже поэмами в триолетах. – № 187.
КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884—1961), футурист, обладал редким даром писать стихи так, как будто до него никто их не писал: самые заумные строчки звучали у него естественным ликованием. Атлет, авиатор, всеобщий любимец, он прославился поэмой про Степана Разина (1918), и за это ему прощались все длинноты позднейших поэм. – № 18.
КВЯТКОВСКИЙ Александр Павлович (1888—1968) известен главным образом как стиховед, разработавший для группы конструктивистов «такто-метрическую теорию» русского стиха (1925—1929; ср. его «Поэтический словарь», 1966), опиравшуюся не на текст, а на декламацию. Собственные его стихи почти не печатались. – № 11.
КИССИН Самуил Викторович (псевд. – Муни, 1885—1916; застрелился в Минске) – друг и литературный близнец В. Ходасевича, с «мрачной мудростью и нежнейшим сердцем» играл роль «проклятого поэта»; из-за редкой строгости к себе не выпустил ни одной книжки. В мировую войну был на санитарной службе. – № 179.
КЛЮЕВ Николай Алексеевич (1884—1937; репрессирован), пророк крестьянской поэзии, ходил по петербургским салонам в сапогах и косоворотке, декорировал свою комнату под олонецкую избу; от лица неисповедимого народа грозил А. Блоку; надписывал стихи: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери»; насыщал стихи диалектизмами, но в стиховых экспериментах был сдержан и осторожен. – № 247, 248, 289.
КОВАЛЕВСКИЙ Вячеслав Александрович (1897—1977) начинал как эпигон символизма, к его первому сборнику «Некий час» (1919) написал вступительное стихотворение К. Бальмонт. Впоследствии – советский прозаик, автор повестей о 3. и А. Космодемьянских. – № 42.
КОКОРИН Павел Михайлович (1884—1938?) – тверской крестьянин, служил швейцаром в Петербурге; попал в компанию эгофутуристов, писал об аэропланах, выпустил четыре книжки. И. Северянин посвящал ему стихи, О. Мандельштам находил в стихах Кокорина «напряженную связь мысли и слова». После войны и фронта вернулся в родную деревню. – № 77.
КОНЕВСКОЙ (наст. фам. – Ореус) Иван Иванович (1877—1901; утонул, купаясь) – ранний символист, писал стихи философского содержания в нарочито угловатой, затрудненной форме; единственный из современников, на кого самолюбивый В. Брюсов смотрел снизу вверх и кого брали за образец даже некоторые футуристы. – № 170, 225.
КОРИНФСКИЙ Аполлон Аполлонович (1868—1937; дед его, архитектор из мордовских крестьян, получил фамилию за проект в коринфском стиле) был одноклассником В.И.Ленина по симбирской гимназии; в стихах чаще склонялся к официозному народничеству, подражая в своих «бывальщинах» А.К.Толстому. Умер безвестным издательским работником. – № 234, 281.
КОЧЕТКОВ Александр Сергеевич (1900—1953) двадцатилетним юношей, вчерашним красноармейцем, посещал в Москве Вяч. Иванова и на его уроках выработал собственный стиль. Почти не печатался, зарабатывал переводами, посмертную известность получил лишь романсом «С любимыми не расставайтесь». – № 38.
КРАНДИЕВСКАЯ Наталья Васильевна (1888—1963) училась писать у И. Бунина; за внешней ясностью «усмешку слишком много узнавшего ребенка» находил в ней И. Эренбург. В 1914—1935 гг. жена А.Н. Толстого, прототип Кати в «Сестрах»; от поэзии отошла, после 1935 г. вернулась к ней в новом стиле, почти не печатаясь. – № 93.
КРЕЧЕТОВ Сергей Александрович (наст. фам. – Соколов, 1878—1936, Париж) – присяжный поверенный; организатор символистского издательства «Гриф», безуспешно соперничавшего с брюсовским «Скорпионом»; в своих стихах пытался соединить подражание Брюсову с революционными темами, внушенными 1905 годом. «Шумиха слов», – отзывались о нем В, Брюсов и А. Блок. – № 220, 266.
КУЗМИН Михаил Алексеевич (1872—1936), поэт и композитор, первую известность приобрел стилизованными стихами о французском XVIII веке, декадентской Александрии и призывами к «прекрасной ясности», а кончил сложными и темными «шифрованными» стихами близкими к экспрессионизму и сюрреализму. – № 133, 163, 164, 169, 172, 191, 198, 209.
КУРДЮМОВ Всеволод Валерьянович (1892—1956) озаглавил свою программную книжку «Пудреное сердце» (1913). «Бесшабашный эстетический снобизм» – отозвался о ней Н. Гумилев. От этой игривой безмятежности он постепенно двигался к неврастенической резкости. После революции писал агитационные пьесы и рассказы; в последние годы работал для кукольного театра. – № 21, 178.
ЛАПИН Борис Матвеевич (1905—1941; погиб на фронте) – «современный романтик XVIII в.» (выражение И. Сельвинского); начинал в недолгих поэтических группах начала 1920-х подов угловатыми сюрреалистическими стихами, потом стал известным прозаиком и очеркистом (часто в соавторстве с З. Хацревиным). – № 277.
ЛЕОНОВ Максим Леонович (1872—1929) – отец писателя Леонида Леонова, поэт-самоучка, организатор кружка писателей из народа и собиратель материалов о них, книгоиздатель, редактор газеты в Архангельске; под конец жизни – продавец детских игрушек. В стихах – подражатель И. Сурикова. – № 229.
ЛИВШИЦ Бенедикт Константинович (1887—1939; репрессирован) – поэт-футурист французской выучки, перекидывавший мост между поэтической техникой Ст. Малларме и Д. Бурлюка, автор умных мемуаров о русском футуризме («Полутораглазый стрелец»). После революция – плодовитый переводчик. – № 192.
ЛИПСКЕРОВ Константин Абрамович (1889—1954), по образованию художник (ученик К. Юона), начал печатать стихи в журнале «Дэнди»; одним из первых русских поэтов посвятил себя среднеазиатской теме (сб. «Песок и розы», 1916, и др.). После революции много переводил с языков Востока и Кавказа. – № 12, 14, 34, 39, 189, 210.
ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКИЙ Алексей Константинович (псевд. – Яр. Любяр, 1886—1916) был близок к акмеистам, долго жил в Европе, увлекался Ренессансом, писал стихи (хвалебные!) о Парижской коммуне; сознательно стилизовал себя под «проклятого поэта», несколько раз покушался на самоубийство; приняв в последний раз яд, вел дневник до минуты смерти. – № 182, 22». 253.
ЛОЗИНСКИЙ Михаил Леонидович (1886—1955; умер от слоновой болезни) начинал «сладкозвучными ребусами, смысл которых скоро темнел» для него самого; из скромности перед словом «акме» (вершина) не причислял себя к акмеистам, хотя был в их «Цехе поэтов» и субсидировал их издания; после революции – крупнейший переводчик. – № 13, 263.
ЛОПАТТО Михаил Иосифович (1892—1981, Флоренция) – ученик Венгеровского Пушкинского семинария, автор лучшего исследования о строении прозы Пушкина. Первый сборник «Избыток» (1916) имел эпиграф из Ф. Тютчева: «Жизни некий преизбыток...» Декларировал принятие жизни (с тонкой иронией) и обнаруживал влияние М. Кузмина, впоследствии еще более усилившееся. – № 203.
ЛОХВИЦКАЯ Мирра (наст, имя – Мария Александровна Лохвицкая, по мужу – Жибер, 1869—1905) – сестра известной юмористки Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой-Бучинской), остроумная и здравомысленная мать семейства (по словам И. Бунина); писала стихи о бурной страсти, снискавшие ей славу «вакханки» и «русской Сапфо». К. Бальмонт посвятил ей книгу, а И. Северянин чтил ее память с благоговейным восторгом. – № 255, 270.
ЛЬВОВА Надежда Григорьевна (1891—1913) – московская поэтесса из круга учеников В. Брюсова, посвятившего ей сборник «Стихи Нелли». В юности – участница революционного движения. Покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви к Брюсову. О ней см. в воспоминаниях И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». – № 96.
МАЙЗЕЛЬС Дмитрий Львович (даты жизни неизвестны) был типографским рабочим, уезжал на заработки в США; единственный сборник его стихов, мрачных и шероховатых, называется «Трюм» (1918). Перед революцией примыкал к группе молодых поэтов из Петербургского университета (Вс. Рождественский и др.); последние его публикации – в Рязани в начале 1920-х годов. – № 232.
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891—1938; репрессирован) направил свое экспериментаторство прежде всего на ритмику стиха; изысканная игра пропусками и сдвигами ударений была оценена уже современниками. В метрике ориентировался на классические формы, строгие и расшатанные. После 1930 г. его опыты становятся смелее и разнообразнее. – № 113, 114, 135.
МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович (1897—1962) – один из зачинателей имажинизма, друг С. Есенина и автор нашумевших в свое время воспоминаний о нем («Роман без вранья», 1927). Кроме неврастенической лирики писал поэмы и гротескные драмы; в 1930—1950-х годах выступал преимущественно как драматург. – № 51.
МАРТОВ Эрл(а) (наст, имя – Андрей Эдмонтович Бутон, ум. не ранее 1913) – участник брюсовских альманахов «Русские символисты» (1894—1895); по образцу его «Ромба» В. Брюсов написал стихотворение в форме надгробной урны. После 1898 г. отходит от поэзии и работает хроникером в мелких газетах. – № 17.
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893—1930; застрелился) писал и классическими размерами («Необычайное приключение...»), и вольными хореями («Товарищу Нетте...»), и дольниками, и акцентным стихом; объединяются же эти разнородные формы в его творчестве стилем, интонацией и полиметрией. Термин «стих Маяковского» до сих пор можно встретить в учебниках, но это не стиховедческий термин. – № 9.
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1865—1941, Париж) – в молодости друг С. Надсона, спутник А.П. Чехова по Италии, положил начало символизму сборником «Символы» (1892) и статьей «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893). Стихи писал до 30 лет, славу получил как прозаик и блестящий публицист. В эмиграции с 1920 г. – № 84.
МЕРКУРЬЕВА Вера Александровна (1876—1943) – поэтесса из Владикавказа. В 1917—1920 гг. – ученица Вяч. Иванова, высоко им ценимая. За всю жизнь напечатала лишь около 15 стихотворений. Автор цикла тонких стилизаций своих современников, создала собственный стиль, сочетавший народные и изысканно-литературные элементы. – № 37, 83, 216.
МИРОПОЛЬСКИЙ А.Л. (наст. имя – Александр Александрович Ланг, 1872—1917; погиб, отыскивая пропавшего без вести сына на турецком фронте) – товарищ В. Брюсова по гимназии и соавтор по эпатирующим сборникам «Русские символисты» (1894—1895), чудак, мистик и спирит. Выпустив одну книжку стихов и две полудраматические поэмы, отошел от литературы. – № 137.
НАРБУТ Владимир Иванович (1888—1944; репрессирован) – поэт-акмеист, экспериментировал с вызывающе грубыми и антиэстетическими стихами; первый сборник («Аллилуйя», 1912), нарочно набранный церковнославянским шрифтом, был конфискован. Поздние его «научные стихи» изданы лишь недавно. О нем см. в воспоминаниях В. Катаева «Алмазный мой венец» («колченогий»). – № 92.
НЕЛЬДИХЕН Сергей Евгеньевич (1894—1942); репрессирован – член «Цеха поэтов» 1921—1923 гг. «Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным», – говорил Гумилев Ходасевичу. Упорно и плодотворно разрабатывал прозаизированный свободный стих. Потом писал детские стихи и стихотворные агитки. – № 2.
ОРЕШИН Петр Васильевич (1887—1938; репрессирован) – крестьянский поэт из Саратова; С. Есенин видел в нем завистника и соперника. Больше других крестьянских поэтов был привязан к классическим стиховым формам, 3-ст. хореем написал на него пародию А. Архангельский («Грудь моя ржаная...») – № 282.
ПАЛЕЙ Владимир Павлович (1897—1918; казнен вместе с другими членами царской семьи в Алапаевске) – князь, внебрачный сын великого князя Павла Александровича, корнет гвардии, царскосельский житель и литератор-дилетант; в 1916 г. роскошно издал книгу легких любительских стихов. – № 223.
ПАРНОК Софья Яковлевна (1885—1933) – поэтесса и литературный критик (псевд. – А. Полянин), адресат стихотворного цикла М. Цветаевой «Подруга» (1915); стояла вне поэтических групп, отличаясь склонностью к строгим формам, трагическому пафосу и теме любви между женщинами. – № 129, 185, 257.
ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890—1960) в ранних стихах обнаруживал влияние В. Брюсова и, по ощущению современников, Ин. Анненского; к этой «начальной поре» относятся приводимые стихи, одно в первичной, другое в переработанной редакции. Потом, после недолгого участия в футуристической группе «Центрифуга», занял твердую позицию «вне групп». – № 80, 90.
ПОТЕМКИН Петр Петрович (1886—1926, Париж) воспринимался современниками как один из первых вульгаризаторов символизма, перенесший его эстетизм в ресторанно-богемный быт, а его поэтическую технику в «низкие» развлекательные темы; но талант его никем не оспаривался. Был одним из ведущих поэтов «Сатирикона». – № 115, 150.
ПЯСТ (наст. фам. – Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940; покончил жизнь самоубийством) – друг А. Блока (особенно в 1911—1913 гг.) и автор воспоминаний о нем; скрещивал в своей поэзии влияние Брюсова и Блока. Писал мало, переводил, занимался декламацией, оставил спорную, но тонкую по наблюдениям книгу «Современное стиховедение» (1931). – № 58, 167, 174.
РАДЛОВА Анна Дмитриевна (1891—1949); репрессирована – жена режиссера С.Э.Радлова и сестра скульптора С.Д.Лебедевой; поэтесса из круга позднего М. Кузмина, выдвигавшаяся как соперница А. Ахматовой (три сборника стихов в 1918—1922 гг.). В 1930-х годах переводила Шекспира, вызвав этим полемику о буквализме в переводе. – № 28.
РАФАЛОВИЧ Сергей Львович (1875—1943, Париж) – автор стихов, уверенно поспевавших за модным модернизмом, а также драм, рассказов и романов с притязанием на философскую глубину; комментарий к одному из романов он написал сам и выпустил отдельной книгой. – № 258.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович (1895—1977) – сын царскосельского священника, участник гражданской войны, «подмастерье» «Цеха поэтов» 1921—1923 гг., друг молодого Н. Тихонова, автор аккуратных стихов в классических формах и на классические темы, менявшиеся вслед времени; плодовитый переводчик. – № 23, 25.
РУКАВИШНИКОВ Иван Сергеевич (1877—1930; умер от алкоголизма) – из сверхбогатой купеческой семьи, плодовитый до графоманства прозаик и поэт (Собр. соч.: В 20 т. 1901—1925), по виду и нраву – Дон-Кихот, по темам и настроениям – вульгаризатор Ф. Сологуба. Автор двух книг триолетов; в Литературной энциклопедии 1925 г. ему принадлежат статьи о твердых формах. – № 44, 186.
САДОВСКОЙ (наст. фам. – Садовский; умер от многолетнего паралича) Борис Александрович (1881—1952) – поэт, прозаик и критик; начинал как верный приверженец В. Брюсова в символистских «Весах», потом со скандалом порвал с ним. Чтил Николая I, Пушкина и Фета. Его проза – исторические рассказы и повести; стихи – попытка синтеза символизма и русской классики. – № 31, 32, 110.
СЕВЕРЯНИН Игорь (наст, имя – Игорь Васильевич Лотарев, 1887—1941) поэт с замечательным слухом и замечательным отсутствием вкуса. Продолжатель и вульгаризатор К. Бальмонта, вслед за ним широко разрабатывал сверхдлинные размеры, а также твердые формы, часто изобретенные им самим. – № 50, 57, 78, 95, 98, 99, 107, 190, 204, 205.
СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (псевд. – Эллий-Карл) Львович (1899—1968), известный советский поэт, автор «Улялаевщины» и других поэм и драм, дебютировал сложными формами венков сонетов и пр., демонстрируя свое мастерство; к этой серии работ относится и его палиндромон. Разрабатывал, упрощая, «тактометрическую» теорию стиха А.П.Квятковского («Студия стиха», 1962). – № 20, 218.
СКАЛДИН Алексей Дмитриевич (1889?—1943?) – из крестьян; ученик Вяч. Иванова, печатался как в акмеистическом «Аполлоне», так и в эгофутуристических изданиях, разрабатывая темы мрачной фантастики и магии| (роман «Странствия и приключения Никодима Старшего», 1917); после революции – автор научно-популярных книг для детей. – № 177, 184.
СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович (1885—1942) – внук историка С.М.Соловьева (1820—1879) и племянник философа Вл.С.Соловьева (1853—1900), друг юности А. Белого и А. Блока, «первый ученик» символистской школы стиха, особенно В. Брюсова и Вяч. Иванова; все стихи его производят впечатление стилизаций. С 1913 г. – православный священник, с 1923 г. – католический. После революции много переводил. – № 124, 162, 183, 211.
СОЛОГУБ (наст. фам. – Тетерников) Федор Кузьмич (1863—1927) автор «Мелкого беса»; одна из центральных фигур русского символизма. Стихи писал с редкой обдуманностью, иногда по заранее намеченным программам, поэтому формальных экспериментов у него много, но (в отличие, например, от брюсовских) они не лежат на поверхности и открываются лишь внимательному чтению. – № 27, 52, 63, 81, 159, 188, 252, 265, 267, 269, 274, 275, 284, 287.
СЫРЕЙЩИКОВА Елена Александровна (? – ум. в 1918) – поэтесса-дилетантка, ученица В. Брюсова; в брюсовских «Стихах Нелли» есть мотивы, близкие ее стихам. Печаталась мало; участвовала в переводных антологиях, руководимых Брюсовым. Приводимые ее стихи публикуются впервые. – № 941,193,201.
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Михайлович (1892—1939; репрессирован), товарищ В. Маяковского по «Лефу», теоретик «литературы факта», ушел из поэзии в агитационную драматургию, а потом в очерк, начинал камерными лирическими экспериментами в группе московских эгофутуристов «Мезонин поэзии»; к этой поре относится и «Веер». – № 18.
ТУФАНОВ Александр Васильевич (1877—1942 или 1943) – теоретик и практик заумной поэзии, считавший себя наследником В. Хлебникова; в 1925 г. основал «орден заумников» при ленинградском Союзе поэтов, оказал влияние на обериутов – Д. Хармса и А. Введенского. «Канцона» – из ранней, более традиционной его книги (1917). – № 156, 157, 206.
ФЕДОРЧЕНКО Софья Захаровна (1880—1959), сестра милосердия в первую мировую войну, известна более всего как автор книги «Народ на войне» (1923—1925), имевшей шумный успех, а потом несправедливо забытой. Много писала стихов и сказок, в том числе для детей, имитируя разные виды народного стиха. – № 147, 149.
ХЛЕБНИКОВ Велимир (наст. имя. – Виктор Владимирович, 1885—1922) оставил много случайных экспериментов в самых разных областях стиха, но наиболее значителен был опыт микрополиметрии, смешанных метров и свободного стиха. Все стиховые эксперименты связаны с его сложной художественной философией языка и времени. – № 47.
ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886—1939, Париж) скрестил в своих стихах влияния В. Брюсова и А. Белого, но и то и другое со временем все больше подчинялось установке на «классику» пушкинских заветов – от идейных деклараций до внешних стилизаций; поэтому эксперименты со стихом у него сравнительно редки. «Пэон и цезура» прямо опирается на стиховедческие работы Белого. – № 30, 49, 103, 112.
ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892—1941; повесилась) была в стихе такой же максималисткой, как и в жизни: она схватывала едва наметившуюся тенденцию развития метра, ритма, строфы, сразу доводила ее до предела и оставляла в виде четкого логаэда, строгой (часто рефренной) строфы и пр., на фоне которых особенно ярок ее напряженно-асимметричный синтаксис. – № 89, 105, 122.
ЧЕРЕМШАНОВА (наст. фам. – Ельшина) Ольга Николаевна (1904—1973) – поэтесса и артистка-мелодекламатор из круга позднего М. Кузмина: он посвятил ей стихотворный цикл и написал предисловие к ее единственной книге «Склеп» (1925), сборнику стилизаций испанской, японской, русской сектантской поэзии и пр. – № 152.
ЧЕРНЫЙ Саша (наст. имя – Александр Михайлович Гликберг, 1880—1932, Прованс) – ведущий поэт «Сатирикона» и «Нового Сатирикона»: традиция юмористической поэзии была широко открыта для поэтических новшеств, не боявшихся показаться смешными, и его метрический и строфический арсенал исключительно богат. – № 26.
ЧЕРУБИНА де Габриак (наст. имя – Елизавета Ивановна Васильева, урожд. Дмитриева, 1887—1928) – псевдоним (от лица таинственной юной поэтессы из древнего католического рода), придуманный ею вместе с М. Волошиным для стихов, которыми они в 1909 г. мистифицировали редакцию журнала «Аполлон». Потом сотрудничала с С. Маршаком в детской поэзии; поздняя ее лирика почти не издана. – № 79, 197, 293.
ЧРОЛЛИ (наст. имя – Константин Фавстович Тарасов; даты и обстоятельства жизни почти неизвестны) родом из Красноярска, выпустил в 1915—1916 гг. две книжечки – «Сын Фауста» (по своему отчеству) и «Гуингм» (племя мудрых лошадей у Дж. Свифта). На обложках были высказывания А. Блока, А. Белого и других поэтов о том, что эти стихи очень плохи. Изобрел «диминуенду»: стихотворение из постепенно укорачивающихся строк. – № 219.
ЧУРИЛИН Тихон Васильевич (1885—1946) – коммунист-анархист; в 1919—1920 гг. – крымский подпольщик; футурист вне групп, нищий, дикий, отчаянный, подолгу страдавший приступами буйного помешательства. М. Цветаева в стихах сравнивала его с Рогожиным и безоговорочно называла гениальным. После 1930 г. – тщетный подражатель В. Маяковского. – № 118.
ШЕНГЕЛИ Георгий Аркадьевич (1894—1956) начинал как эгофутурист томного северянинского стиля, около 1918г. перешел к строгому «парнасскому» классицизму; в 1920—1950-х годах – плодовитый переводчик. Известен злой полемикой с В. Маяковским в 1926—1927 гг. Был выдающимся стиховедом – теоретиком и педагогом («Трактат о русском стихе», 1923). – № 125, 138, 145.
ШЕРВИНСКИЙ Сергей Васильевич (1892—1991) – поэт из круга позднего В. Брюсова; первая книга его стихов вышла в 1924, вторая – в 1984 г. По образованию искусствовед, много занимался теорией и практикой декламации; с этой точки зрения написана его стиховедческая работа «Ритм и смысл» (1961). Автор множества переводов из античных, западных и восточных классиков. – № 154.
ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич (1893—1942) – поэт-урбанист и цинический эстет, младший ученик В. Брюсова; старался быть «Брюсовым от футуризма», а потом «от имажинизма», сочинял броские литературные манифесты с оглядкой на европейский авангард и охотно писал экспериментальные стихи (последний сборник – 1926). – № 45, 46, 208. 268.
ШИРЯЕВЕЦ Александр Васильевич (наст. фам. – Абрамов, 1887—1924) – из крестьян, почтово-телеграфный служащий в Туркестане, с ностальгическим восторгом писавший о родной Волге и бурлацкой удали. Его поэма о революции называлась «Мужикослов». На смерть его С. Есенин написал стихи «Мы теперь уходим понемногу...». – № 279.
ШКАПСКАЯ Мария Михайловна (1891—1952) выпустила 6 маленьких стихотворных книжек в 1921—1925 гг.; в них говорилось о судьбе и назначении женщины, которая, рожая детей, передает им неумирающую наследственность единого человечества. Одобрявшие критики называли ее стихи «женскими», суровые – «гинекологическими». Потом работала журналисткой. – № 3,6,7.
ШКУЛЕВ Филипп Степанович (1868—1930) – автор песни «Мы кузнецы, и дух наш молод», участник Московского вооруженного восстания 1905 г. В 10 лет на фабрике лишился правой руки, писал левой; начинал как «крестьянский поэт», был среди основателей Суриковского литературно-музыкального кружка писателей и музыкантов из народа; кончил «пролетарским поэтом»: «Бросаем миру мысль-динаму...». – № 244.
ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович (1886—1959), известный литературовед, виднейший деятель «формальной школы», писал стихи, когда был петербургским студентом-филологом: они «дисциплинировали мысль». Некоторые были напечатаны в акмеистическом «Гиперборее»; подборку их автор включил в книгу «Мой временник» (1929). – № 143.
ЭЛЛИС (наст. имя – Лев Львович Кобылинский, 1879—1947, Локарно) – друг А. Белого, ярко описанный в его мемуарах, один из ведущих критиков в символистских «Весах» и «Мусагете», переводчик и популяризатор Ш. Бодлера; оригинальные стихи его (преимущественно религиозного содержания) менее значительны. – № 1.
ЭЛЬСНЕР Владимир Юрьевич (1886—1964), поэт из Киева (был шафером на свадьбе Н. Гумилева с А. Ахматовой и уверял, что «научил Ахматову писать стихи»), выпустил два сборника подражаний В. Брюсову («Подогретая водка», – третировал их Брюсов); после революции жил в Тбилиси, где перед смертью выпустил две книги стихов о всех веках и странах мира. – № 22, 142.
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891—1967) вплоть до «Хулио Хуренито» (1921) был почти исключительно поэтом и пользовался нарастающим вниманием читателей и критики («мода на Эренбурга» упоминается в «Русских денди» А. Блока). Его стих, предельно раскованный в ритмах, рифмах и чувствах, был по вкусу эпохе. См. его мемуары «Люди, годы, жизнь». – № 120, 121.
ЯЩУК Т.А. (даты и обстоятельства жизни почти неизвестны) – поэт, начавший (ок. 1903—1904) подражаниями Л. Мею и К. Случевскому, затем подпавший под сильное влияние В. Брюсова и предвосхитивший многие веяния постсимволистской поэтики, будучи при этом никак лично не связан с ее носителями. Печатался преимущественно в эфемерных литературных изданиях (Киев, Одесса, Нижний Новгород, Саратов), вызывая незаслуженные насмешки провинциальной критики. – № 195, 212.