Текст и система
Рассмотренные нами закономерности позволяют вскрыть
в анализируемом тексте его внутреннюю структуру, уви-
деть доминирующие связи и упорядоченности. Вне этих,
свойственных данному тексту, конструктивных принципов
не существует и идеи произведения, его семантической
организации. Однако система не есть текст. Она служит
для его организации, выступает как некоторый дешифрую-
щий код, но не может и не должна заменять текст как
объект, эстетически воспринимаемый читателем. В этом
смысле критика той или иной системы анализа текста в
форме упреков за то, что она не заменяет непосредствен-
ного эстетического впечатления от произведения искусс-
тва, основана на недоразумении. Наука в принципе не мо-
жет заменить практической деятельности и не призвана ее
заменять. Она ее анализирует.
Отношение системы к тексту в произведении искусства
значительно более сложно, чем в нехудожественных знако-
вых системах. В естественных языках система описывает
текст, текст является конкретным выражением системы.
Внесистемные элементы в тексте не являются носителями
значений и остаются для читателя просто незаметными.
Например, мы не замечаем без специальной тренировки
опечаток и описок в тексте, если при этом случайно не
образуются какие-либо новые смыслы. В равной мере мы
можем и не заметить, каким шрифтом набрана и на какой
бумаге напечатана книга, если эти данные не включаются
в какую-либо знаковую систему (в случае, если бумага
могла быть выбрана для книги из какого-либо набора воз-
можностей - не меньше двух - и сам этот набор несет ин-
формацию о цене, качестве, адресованности книги, пози-
ции и состоянии издательства, эпохе печати, мы, конеч-
но, отнесемся к этой стороне книги иначе, чем в том
случае, когда у издателя нет никакого выбора или выбор
этот чисто случаен). Отклонения от системы в нехудо-
жественном тексте воспринимаются как ошибки, которые
подлежат устранению, и в случае, если при этом стихийно
появляется какое-либо новое значение (например, при
опечатке возникает другое слово), устранение должно
быть тем более решительным. Таким образом, при передаче
информации от автора к читателю в тексте работает имен-
но механизм системности.
В художественном произведении положение принципиаль-
но иное, с чем связана и совершенно специфическая при-
рода организации произведения искусства как знаковой
системы. В художественном произведении отклонения от
структурной организации могут быть столь же значимыми,
как и ее реализация. Сознание этого обстоятельства не
вынуждает нас, однако, признать справедливость утверж-
дений тех авторов, которые, подчеркивая богатство, мно-
гогранность, живую подвижность художественного текста,
делают из этого вывод о неприменимости структурных - и
шире, вообще научных - методов к анализу произведении
искусства как якобы "иссушающих" и неспособных уловить
жизненное богатство искусства.
Даже самое схематичное описание наиболее общих
структурных закономерностей того или иного текста более
способствует пониманию его неповторимого своеобразия,
чем все многократные повторения фраз о неповторимости
текста вместе взятые, поскольку анормативное, внесис-
темное как художественный факт существует лишь на фоне
некоторой нормы и в отношении к ней. Там, где нет пра-
вил, не может быть и нарушения правил, то есть индиви-
дуального своеобразия, независимо от того, идет ли речь
о художественном произведении, поведении человека или
любом другом знаковом тексте. Так, переход улицы в не-
положенном месте отмечен, становится фактом индивиду-
ального поведения лишь на фоне определенных запрети-
тельных правил, регулирующих поведение других людей.
Когда мы говорим, что только чтение произведений массо-
вой литературы той или иной эпохи позволяет по достоин-
ству оценить гениальность того или иного великого писа-
теля, мы, по существу, имеем в виду следующее: читая
писателей той или иной эпохи, мы бессознательно овладе-
ваем обязательными нормами искусства тех лет. В данном
случае для нас безразлично, получаем ли мы это знание
из определенных нормативных сочинений теоретиков ис-
кусства интересующей нас эпохи, из описаний современных
нам ученых или непосредственно из чтения текстов в по-
рядке читательского впечатления. В любом случае в нашем
сознании будет присутствовать определенная норма созда-
ния художественных текстов для определенной историчес-
кой эпохи. Это можно сравнить с тем, что живому языку
можно научиться и пользуясь определенными его описания-
ми, и просто практикуясь, слушая практическое речевое
употребление. В результате в момент, когда наступит
полное овладение языком, в сознании говорящего будет
присутствовать некоторая норма правильного употребле-
ния, независимо от того, выразится ли она в системе
правил, оформленных на языке грамматической терминоло-
гии, или как некоторая совокупность языкового узуса.
Овладение представлением о художественной норме эпохи
раскрывает для нас индивидуальное в позиции писателя.
Сами сторонники утверждений о том, что в художественном
произведении его сущность не поддается точным описани-
ям, приступая к исследованию того или иного текста, не-
избежно оказываются перед необходимостью выделить некие
общие для эпохи, жанра, направления конструкции. Разни-
ца лишь в том, что в силу неразработанности методики и
субъективности подхода, а также неполноты привлекаемого
материала в качестве "неповторимо-индивидуального" за-
частую фигурируют типовые явления художественного языка
и наоборот.
Итак, в художественном тексте значение возникает не
только за счет выполнения определенных структурных пра-
вил, но и за счет их нарушения. Почему это возможно?
Задуматься над этим вопросом вполне уместно, поскольку
он с первого взгляда противоречит самым фундаментальным
положениям теории информации. В самом деле, что означа-
ет возможность декодировки некоторого текста как сооб-
щения? Очень грубо процесс этот можно представить себе
в следующем виде: наши органы чувств получают некоторый
недискретный (непрерывный) поток раздражителей (напри-
мер, слух воспринимает некоторую акустическую реаль-
ность, определяемую чисто физическими параметрами), на
который дешифрующее сознание налагает определенную сет-
ку структурных оппозиций, позволяющую отождествить раз-
ные сегменты акустического ряда со значимыми элементами
языка на разных уровнях (фонемы, морфемы, лексемы и
др.). Участки, не совпадающие с определенными структур-
ными позициями (например, звук, располагающийся между
двумя фонемами данного языка), не образуют новой струк-
турной позиции, например новой, не существующей в дан-
ном языке (хотя и возможной в других) фонемы. Звук,
оказывающийся в промежуточной по отношению к фонемной
сетке данного языка позиции, будет или втянут в орбиту
той или иной фонемы как ее вариант (разница будет объ-
явлена несущественной), или отнесен за счет шума (объ-
явлен несуществующим). И это будет строго соответство-
вать основам процесса декодировки. Случай, когда откло-
нение от некоторой структурной нормы создает новые зна-
чения, столь обычный в практике искусства, представляет
собой парадокс с точки зрения теории информации и нуж-
дается в дополнительном объяснении.
Противоречие художественной коммуникации и общих
правил соотношения текста и кода в данном случае мни-
мое. Прежде всего, не всякое отклонение от норм струк-
турного ожидания порождает новые значения. Некоторые
отклонения ведут себя так же, как и в соответствующих
случаях в нехудожественном тексте. Почему же возникает
такая разница между отклонениями от ожидаемых норм,
воспринимаемыми как дефектность текста, механическая
его порча, и такими, в которых читатель видит новый
смысл? Почему в одних случаях, например, законченное
произведение воспринимается как отрывок, а в других -
отрывок как законченное произведение?
С этими свойствами художественного текста, видимо,
связаны такие коренные особенности произведений искусс-
тва, как возможность многочисленных интерпретаций. На-
учный текст тяготеет к однозначности: его содержание
может оцениваться как верное или неверное. Художествен-
ный текст создает вокруг себя поле возможных интерпре-
таций, порой очень широкое. При этом чем значительнее,
глубже произведение, чем дольше живет оно в памяти че-
ловечества, тем дальше расходятся крайние точки возмож-
ных (и исторически реализуемых читателем и критикой)
интерпретаций.
Проявляя, с одной стороны, такую подвижность, худо-
жественный текст, с другой, обнаруживает чрезвычайную
устойчивость: он способен сопротивляться механической
порче, вовлекая в область значений то, что заведомо не
было осмысленным. Отбитые руки Венеры Милосской, потем-
невшие от времени краски на картине, непонятность слов
в архаической поэзии, являясь ясными примерами наступ-
ления энтропии на информацию, шума в канале связи меж-
ду адресатом и адресантом сообщения, одновременно ста-
новятся и средствами создания новой художественной ин-
формации, порой настолько существенной, что реставрация
в этом смысле выступает в одном ряду с культурным раз-
рушением памятника, становясь разновидностью энтропии.
(В истории культуры именно реставрации неоднократно яв-
лялись формой уничтожения культурных ценностей; в этом
смысле их следует отличать от консервации - сохранения
памятника. Само собой разумеется, что сказанное не от-
носится ко всякой реставрации, представляющей в основе
своей совершенно необходимую, хотя и опасную, форму
сохранения культурного наследия.) Известен пример из
"Анны Карениной" - случайное пятно на материале подска-
зывает художнику расположение фигуры и становится
средством эстетической выразительности.
Способность художественного текста вовлекать окружа-
ющее в свою сферу и делать его носителем информации по-
истине изумительна. Художественный текст реагирует на
соположенные (порой чисто случайно) тексты, входя с ни-
ми в семантические отношения. Так рождается проблема
композиции ансамблей - от сборника, альманаха или аль-
бома как некоторого структурного единства до отношения
различных картин в единой экспозиции или архитектурных
ансамблей. Здесь возникают особые законы креолизации
или несовместимости: в одних случаях разные тексты
"охотно" вступают в отношения, образуя структурное це-
лое, в других - они как бы "не замечают" друг друга или
способны только взаимно разрушаться. В этом смысле
крайне интересный текст для наблюдения представляет лю-
бой из длительное время просуществовавших городов. Мож-
но наблюдать, как, например, в Праге органически (даже
в пределах одного здания) складываются в структурное
единство готика, ренессанс и барокко. Можно было бы
привести примеры того, как здания архитектуры XX в. в
одних случаях "реагируют" с контекстом, а в других -
его разрушают.
Эти "загадочные" особенности художественного текста
отнюдь не свидетельствуют о его принципиальной несоот-
несенности со структурными упо-рядоченностями общего
типа. Дело обстоит прямо противоположным образом.
В отличие от нехудожественных текстов, произведение
искусства соотносится не с одним, а с многими дешифрую-
щими его кодами. Индивидуальное в художественном тексте
- это не внесистемное, а многосистемное. Чем в большее
количество дешифрующих структур входит тот или иной
конструктивный узел текста одновременно, тем индивиду-
альнее его значение. Входя в различные "языки" культу-
ры, текст раскрывается разными сторонами. Внесистемное
становится системным и наоборот. Однако это не означает
безграничного произвола, безбрежной субъективности, в
которой порой видят специфику искусства. Набор возмож-
ных дешифрующих систем составляет некоторую свойствен-
ную данной эпохе или культуре величину, и он может и
должен быть предметом изучения и описания.
Наличие хотя бы двух различных художественных "язы-
ков", дешифрующих одно и то же произведение искусства,
возникающее при этом смысловое напряжение, острота ко-
торого состоит в том, что в основе его лежит раздвоение
единого - один и тот же текст, истолковываемый двумя
способами, выступает как неравный самому себе, и два
его значения становятся полюсами конфликта - минималь-
ное условие прочтения текста как художественного. Одна-
ко в реальной жизни произведения искусства возникает,
как правило, более сложная множественная парадигма ко-
дов, наполняющая текст жизнью, "игрой" многочисленных
значений.
Таким образом, отношение текста и системы в художест-
венном произведении не есть автоматическая реализация
абстрактной структуры в конкретном материале - это
всегда отношения борьбы, напряжения и конфликта.
Однако случай, когда весь текст, так сказать, равно-
мерно переключается в иную систему, - отнюдь не единс-
твенный источник внутреннего структурного напряжения,
составляющего основу жизни произведения. Не менее су-
ществен другой случай, при котором обнаруживается, что
различные участки одного и того же текста построены по
различным структурным законам, а возможная парадигма
кодов с разной степенью интенсивности реализуется в
различных частях произведения. Так, Б. А. Успенский,
анализируя структуру иконы, неопровержимо установил,
что в центре и по краям живописного текста действуют
разные типы художественной перспективы и природа худо-
жественного явления той или иной фигуры иконы определя-
ется ее местом относительно таких показателей, как оси
построения или край картины. Ему же принадлежит наблю-
дение, согласно которому в литературном произведении
"главные" и "периферийные" герои в ряде случаев строят-
ся по правилам не одной, а различных художественных
систем. Можно было бы привести из теории кинематографа
многочисленные примеры смены конструктивных принципов
как основы художественной композиции текста. Текст при
помощи ряда сигналов вызывает в сознании читателя или
слушателя определенную систему кода, которая успешно
работает, раскрывая его семантику. Однако с определен-
ного места произведения мы начинаем замечать, что соот-
ветствие текста и кода нарушилось: последний перестает
работать, а произведение им больше не дешифруется. Чи-
тателю приходится вызывать из своего культурного запа-
са, руководствуясь новыми сигнальными указаниями, ка-
кую-либо новую систему или даже самостоятельно синтези-
ровать некоторый прежде ему неизвестный код. В этом
последнем случае в текст включаются свернутые указания
на то, каким образом это должно производиться. В ре-
зультате текст дешифруется не некоторым синхронным ко-
дом или кодами, а последовательностью кодов, отношение
между которыми создает дополнительный смысловой эффект.
При этом такая последовательность может в определенной
мере быть заранее зафиксированной. Так, в поэтических
сборниках XVIII - начала XIX в. разделы "оды", "эле-
гии", "послания" и другие подразумевают каждый особую
систему, на которую проецируется текст, но сборник в
целом допускает лишь определенные типы этих последова-
тельностей. Вместе с тем могут иметь место и свободные
последовательности, допускающие перестановки типов
структурных организаций, частей текста в соответствии с
его индивидуальным построением.
Смена принципов структурной организации является
мощным средством понижения избыточности художественного
текста: как только читатель настраивается на определен-
ное ожидание, строит для себя некоторую систему предс-
казуемости еще не прочитанной части текста, структурный
принцип меняется, обманывая его ожидание. Избыточное
приобретает - в свете новой структуры - информатив-
ность. Этот конфликт между построениями различных час-
тей текста резко повышает информативность художествен-
ных произведений по сравнению со всеми иными текстами.
Разномерность художественной организации текста - один
из наиболее распространенных законов искусства. Он про-
является по-разному в разные исторические эпохи и в
пределах различных стилей и жанров, однако в той или
иной форме проявляется почти всегда. Так, например, при
чтении "Полтавы" Пушкина бросается в глаза наличие двух
совершенно по-разному построенных частей: все, что со-
относится с сюжетной линией любви Мазепы и Марии, как
показал Г. А. Гуковский, связано с художественной тра-
дицией русской романтической поэмы, а все боевые сцены,
художественная трактовка Петра отражают стилистику ло-
моносовской оды и - шире - ломоносовской культуры (от-
ражение в тексте воздействия мозаик Ломоносова также
отмечалось исследователями). В известной работе Г. А.
Гуковского "Пушкин и проблемы реалистического стиля"
раскрыта преднамеренность этого стилистического конф-
ликта. Для наших целей существенно подчеркнуть, что
столкновение героев и выражаемых ими идейных тенденций
построено как конфликт двух художественных структур,
каждая из которых контрастно выделяется на фоне другой.
Новая стилистическая манера разрушает уже сложившуюся
инерцию читательского ожидания и резко сокращает избы-
точность текста.
В "Войне и мире" действуют различные группы героев,
каждой из которых присущ свой мир, своя система авторс-
кого отношения, особые принципы художественной типиза-
ции. Однако Толстой строит композицию так, чтобы эти
параллельные сюжетные линии вытянулись в одну. Писатель
располагает различные сцены в единую цепочку таким об-
разом, чтобы картины боевых действий сменялись домашни-
ми сценами, штабные эпизоды - фронтовыми, столичные -
поместными. Сцены с участием одного-двух лиц чередуются
с массовыми, резко сменяется то отношение автора к объ-
ему изображаемого, которое на киноязыке выражается ра-
курсом и планом.
Далеко не всегда тип построения сменяется полярно
противоположным. Гораздо чаще он просто другой. Однако
эта постоянная смена самых разнообразных элементов ху-
дожественного языка влечет за собой его высокую значи-
мость. То, что в одномерной конструкции автоматизирова-
лось бы, раскрывается не как единственно возможный, а
как сознательно выбранный автором тип построения и,
следовательно, получает значение.
Аналогичные явления мы наблюдаем и в лирике, хотя
там они проявляются иначе. Так, например, у Виктора Гю-
го в книге стихов "Грозный год" (1872) есть стихотворе-
ние "Наши мертвецы". Текст его разбит самим автором при
помощи пробела на две части: в одну входит 23 стиха,
предшествующих пробелу (графическому знаку паузы), во
вторую - один последующий. Первая часть посвящена наг-
нетанию ужасных и отвратительных подробностей описания
гниющих тел погибших солдат: "Их кровь образует ужасное
болото", "отвратительные коршуны копаются в их вспоро-
тых животах", "ужасающие, скрюченные, черные", "черепа,
похожие на слепые камни" и т. п.
Каждая новая строка укрепляет ожидание отвратитель-
ного, внушающего гадливость и омерзение, ужас и жа-
лость. Однако, когда у читателя это впечатление сформи-
ровалось настолько прочно, чтобы он мог считать, что
понял замысел автора и может предсказать дальнейшее,
Гюго делает паузу и продолжает: "Я вам завидую, сражен-
ным за отчизну". Последний стих построен в совершенно
иной системе отношений "я" и "они": "низкое" и "высо-
кое" поменялись местами. Это заставляет нас еще раз
мысленно обратиться к первой части и прочесть ее еще
раз, но уже в свете иных оценок. Так возникает двойной
конфликт: сначала между разной семантической структурой
первой и второй части, а затем между разными возможнос-
тями истолкований, между двумя прочтениями этой первой
части.
Чередование комического и трагического у Шекспира,
сложная смена типов художественной организации различ-
ных сцен "Бориса Годунова", смена метров в пределах од-
ного текста, закрепившаяся в русской поэзии после Кате-
нина как одно из выразительных средств, и другие виды
перехода от одних структурообразующих принципов к дру-
гим в пределах единого произведения - лишь разные про-
явления единой тенденции к максимальной информативности
художественного текста.
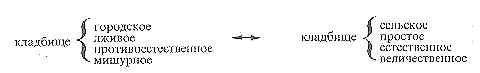 признак "кладбище" оказывается вынесенным за скобки как
основание для сравнения. Смысловая дифференциация стро-
ится на его основе, но заключена не в нем, а в строе
жизни. Вперед, и это типично для Пушкина, выдвигается
противопоставление жизни, построенной в соответствии с
некоторым должным и достойным человека порядком, и жиз-
ни, построенной на ложных и лживых основаниях. Жизнь и
смерть не составляют основы противопоставления:
они снимаются в едином понятии бытия - достойного
или лживого.
С этой точки зрения становится заметным смысловое
противопоставление первой и второй частей еще по одному
признаку. "Городу" свойственна временность: даже мерт-
вец - лишь гость могилы. Не случайно слово "гость"
употребляется в первой половине два раза, то есть чаще
всех других.
Естественность и простота во второй части - синонимы
вечности. В противопоставлении "безносых гениев" и дуба
над могилами активизируется целый ряд смысловых призна-
ков: "сделанность - природность", "ничтожность - вели-
чественность". Однако следует выделить один: дерево
(особенно "вечное" дерево - дуб) - устойчивый мифологи-
ческий и культурный символ жизни. Этим вводится и сим-
волика вечности как знак бытия, а не смерти, и мир
древности, мифологии, и важная для Пушкина мысль о нас-
тоящем как звене между прошлым и будущим.
Однако единство текста достигается сопоставлением не
только его частей между собой, но и его неединствен-
ностью в системе известных нам текстов. Стихотворение
воспринимается нами как целое еще и потому, что мы зна-
ем другие стихотворения и невольно проецируем его на
этот фон.
В данном случае это определяет значимость концовки.
Знакомство с многочисленными поэтическими текстами вы-
рабатывает в нашем сознании стереотип законченного сти-
хотворения. На фоне представления об обязательных приз-
наках законченности оборванный последний стих:
Колеблясь и шумя... -
заполняется многочисленными значениями - неокончен-
ности, невозможности выразить глубину жизни в словах,
бесконечности жизненного потока. Сама неизбежная субъ-
ективность этих истолкований входит в структуру текста
и ею предусмотрена.
Образы поэта и возвышающегося над гробами дуба (сим-
вола жизни) обрамляют сопоставленные картины двух клад-
бищ. Смерть выступает как начало амбивалентное. Отвра-
тительная как явление социальное, она может быть прек-
расна. Как проявление вечности, она синоним, а не анто-
ним жизни в ее естественном течении.
Так единство структуры текста раскрывает в нем со-
держание, которое вступает в конфликт с чисто языковыми
его значениями: рассказ о месте смерти - кладбище и
рассказ о порядке жизни, о бытии выступают во взаимном
напряжении, создавая в своей совокупности "неповтори-
мость" значения текста.
признак "кладбище" оказывается вынесенным за скобки как
основание для сравнения. Смысловая дифференциация стро-
ится на его основе, но заключена не в нем, а в строе
жизни. Вперед, и это типично для Пушкина, выдвигается
противопоставление жизни, построенной в соответствии с
некоторым должным и достойным человека порядком, и жиз-
ни, построенной на ложных и лживых основаниях. Жизнь и
смерть не составляют основы противопоставления:
они снимаются в едином понятии бытия - достойного
или лживого.
С этой точки зрения становится заметным смысловое
противопоставление первой и второй частей еще по одному
признаку. "Городу" свойственна временность: даже мерт-
вец - лишь гость могилы. Не случайно слово "гость"
употребляется в первой половине два раза, то есть чаще
всех других.
Естественность и простота во второй части - синонимы
вечности. В противопоставлении "безносых гениев" и дуба
над могилами активизируется целый ряд смысловых призна-
ков: "сделанность - природность", "ничтожность - вели-
чественность". Однако следует выделить один: дерево
(особенно "вечное" дерево - дуб) - устойчивый мифологи-
ческий и культурный символ жизни. Этим вводится и сим-
волика вечности как знак бытия, а не смерти, и мир
древности, мифологии, и важная для Пушкина мысль о нас-
тоящем как звене между прошлым и будущим.
Однако единство текста достигается сопоставлением не
только его частей между собой, но и его неединствен-
ностью в системе известных нам текстов. Стихотворение
воспринимается нами как целое еще и потому, что мы зна-
ем другие стихотворения и невольно проецируем его на
этот фон.
В данном случае это определяет значимость концовки.
Знакомство с многочисленными поэтическими текстами вы-
рабатывает в нашем сознании стереотип законченного сти-
хотворения. На фоне представления об обязательных приз-
наках законченности оборванный последний стих:
Колеблясь и шумя... -
заполняется многочисленными значениями - неокончен-
ности, невозможности выразить глубину жизни в словах,
бесконечности жизненного потока. Сама неизбежная субъ-
ективность этих истолкований входит в структуру текста
и ею предусмотрена.
Образы поэта и возвышающегося над гробами дуба (сим-
вола жизни) обрамляют сопоставленные картины двух клад-
бищ. Смерть выступает как начало амбивалентное. Отвра-
тительная как явление социальное, она может быть прек-
расна. Как проявление вечности, она синоним, а не анто-
ним жизни в ее естественном течении.
Так единство структуры текста раскрывает в нем со-
держание, которое вступает в конфликт с чисто языковыми
его значениями: рассказ о месте смерти - кладбище и
рассказ о порядке жизни, о бытии выступают во взаимном
напряжении, создавая в своей совокупности "неповтори-
мость" значения текста.