К.А. Долинин
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
— Долинин К.А. Интерпретация текста: Французский язык: Учебное пособие. Изд. 4-е. — М.: КомКнига, 2010. — 304 с.
Впервые: Долинин К.А. Интерпретация текста. — М.: Просвещение, 1985.Настоящая книга представляет собой учебное пособие по курсу «Интерпретация текста» (французский язык). Основное внимание уделяется структуре и методике анализа художественных произведений, в первую очередь прозаических. Читатель найдет в книге как необходимые сведения о структуре художественного текста, так и методы целостного анализа литературного произведения. Основному разделу книги предпослана первая глава, где разбираются некоторые из общих закономерностей речевой деятельности, знание которых необходимо для плодотворной работы над текстом.
Оглавление
Пособие предназначено для студентов филологических вузов, но будет также полезно для преподавателей, переводчиков, литературоведов и всех интересующихся французским языком.
Глава I. ЭКСПЛИЦИТНОЕ И ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
§ 1. Что такое интерпретация текста. Задачи курса. § 2. Значение, содержание, смысл. § 3. Что такое экстралингвистическая ситуация. § 4. Деятельностная ситуация и предметно-событийный фон. § 5. Схема коммуникативного акта. § 6. Номинативное содержание и коммуникативное содержание высказывания. § 7. Номинативное содержание высказывания. Что значит описать референтную ситуацию?. § 8. Вариативность речевого истолкования действительности: одна ситуация — множество истолкований. § 9. Денотат — заготовка для десигната. § 10. Нереферентные высказывания. §11. Номинативное содержание высказывания: некоторые итоги. § 12. Коммуникативное содержание высказывания. Модальность. § 13. Целенаправленность высказывания (коммуникативная установка). § 14. Текстовые иллокуции и метатекстовые операторы. § 15. Конативный аспект коммуникативного содержания высказывания. § 16. Стиль как характеристика высказывания. § 17. Откуда берется имплицитное содержание высказывания. § 18. Референциальный подтекст. § 19. Общие принципы речевого поведения. § 20. Жанровые и ситуативные нормы речи как основа коммуникативного подтекста. § 21. Какие уровни сообщения несут коммуникативный подтекст. § 22. Коммуникативный подтекст в ролевом общении. Анализ примера. § 23. Ролевое и личностное в общении и в коммуникативном подтексте. § 24. Индивидуальная норма и внутренняя норма сообщения. § 25. Общая схема извлечения подтекста. § 26. О подтексте несогласованных высказываний. §27. Несогласованность высказывания как фактор подтекста. § 28. Анализ примеров речевых аномалий. § 29. Имплицитное содержание высказывания: некоторые итоги.
Глава II. СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
§ 30. Как можно описать своеобразие речевого жанра. § 31. Дифференциальные признаки сообщений различных речевых жанров. § 32. Внутренняя структура сообщения. § 33. Различия во внутренней структуре сообщений различных жанров. § 34. Внутренняя структура сообщения — некоторые итоги. § 35. Следственное дело и роман. § 36. Синтез общего и частного как специфическое свойство художественного образа. § 37. Эмоциональное сопереживание. § 38. Коммуникативное содержание художественного текста — авторское миросозерцание. § 39. Зачем нужна художественная литература. § 40. О литературных родах. § 41. Специфика художественного содержания и методика интерпретации текста. § 42. Фабула и сюжет. § 43. Еще о методе.
Глава III. ФАБУЛА
§ 44. Вопросы к фабуле. § 45. Время и место. § 46. Социальное пространство. § 47. Противоречие как источник действия и членение фабульного пространства. § 48. Герой. § 49. Еще о герое как субъекте конфликта. § 50. О герое рассказа Мопассана «В полях». § 51. Типы коллизий. § 52. Развитие фабульного действия. Эпизод и его структура. § 53. От эпизода к фабуле. § 54. О двух типах движения фабулы. § 55. О жизнеподобии фабульного действия. § 56. Движущие силы фабулы. § 57. Концепция характера в литературе. § 58. Побуждения, поступки и характеры в рассказе Мопассана. § 59. Развязка как итог. § 60. Еще о фабуле и сюжете.
Глава IV. КОМПОЗИЦИЯ
§ 61. Метонимичность как основа сюжета. § 62. Проблема отбора фабульного материала. § 63. Два типа повествования в эпической прозе. § 64. Художественная деталь как знак. § 65. Детали обстановки и поведения персонажей в рассказе Мопассана. § 66. Еще о двух типах повествования. § 67. Порядок следования компонентов текста. Фабульное время и порядок рассказывания. § 68. Еще о нарушениях фабульной последовательности. «Герой нашего времени» и «Жаворонок». § 69. Осознание факта как материал художественного произведения. §70. Плавность и прерывность повествования. Связи между фрагментами повествования. § 71. Сцепления между фрагментами, не связанными единством действия. § 72. Еще о сопоставлениях и противопоставлениях элементов текста. § 73. Два способа введения нового. § 74. Иллюзия данности и ее художественный смысл. § 75. Некоторые итоги.
Глава V. ОБРАЗ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ
§ 76. Образ повествователя как организующий принцип отбора и аранжировки фабульного материала. § 77. Позиция повествователя как основа классификации. § 78. Аукториальный повествователь над миром персонажей. § 79. Повествование «от персонажа». § 80. Аукториальный повествователь в мире персонажей и подставной автор. § 81. Способ видения и изображения персонажей. § 82. Внутренний мир через внешние признаки. § 83. Анализ «от автора» и внутренний монолог героя. § 84. Эксплицитное подчинение изображения точке зрения персонажа. § 85. Имплицитное сближение точки зрения повествователя с точкой зрения персонажа. § 86. Степень присутствия повествователя в тексте. § 87. Литература «потока сознания». § 88. Еще о литературе «потока сознания». § 89. Проблема имплицитного выражения авторской точки зрения. Композиция повести Мериме «Кармен». § 90. Отношения между автором и повествователем в «Кармен». § 91. Автор и подставной повествователь — некоторые итоги. § 92. От субъективных точек зрения к точке зрения автора. § 93. Образ повествователя — некоторые итоги.
Глава VI. СТИЛЬ
§ 94. Стиль и другие уровни художественного текста. § 95. Авторское слово и чужое слово. § 96. Прямая речь и косвенная речь. § 97. Скрытая косвенная речь. § 98. Прямая речь в диалогах персонажей. § 99. Несобственно-прямая речь. § 100. Несобственно-прямая речь как средство передачи содержания сознания. § 101. Несобственно-прямая речь как носитель психологического подтекста. § 102. Приметы несобственно-прямой речи в тексте. § 103. Неканонические формы введения чужого слова. Субъективно окрашенная косвенная речь. § 104. Немотивированное многоголосие. § 105. Сказ как особый вид повествования от лица персонажа. § 106. Стилистика сказового повествования. § 107. Надо ли стремиться к максимальной точности в передаче чужого слова?. § 108. Стилизация как основная форма повествования от подставного автора. § 109. Два аспекта значимости авторского слова. § 110. В чем состоит изобразительность стиля. § 111. Парадигматические средства словесной изобразительности. Компаративные тропы. § 112. Другие парадигматические средства словесной изобразительности. § 113. Синтагматические средства словесной изобразительности. § 114. Объединение различных средств словесной изобразительности. § 115. Коммуникативный аспект информативности стиля. Стилевые черты. § 116. Эмоциональность стиля. § 117. Образность стиля. § 118. Общий характер построения фразы. § 119. Ведущие тенденции в отборе лексики. § 120. Заключение.
Приложение I. G. de Maupassant. Aux champs
От автора
Эта книга представляет собой учебное пособие по курсу «Интерпретация текста» (французский язык), предусмотренному учебным планом факультетов иностранных языков педагогических институтов. Место интерпретации текста среди других филологических дисциплин, входящих в учебный план, определяется тем, что она описывает не систему языка, как теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, лексикология и отчасти стилистика, а ее реализацию в определенных речевых сферах, т.е. целые развернутые сообщения (тексты) на данном языке. Целыми текстами может заниматься и стилистика; однако в любом случае она остается лингвистической дисциплиной, изучающей лишь план выражения рассматриваемых ею сообщений — то, какими языковыми средствами передано данное содержание. В отличие от стилистики, интерпретация текста обращается в первую очередь к плану содержания последнего, а исследование плана выражения является для нее лишь промежуточным этапом на пути к основной цели — истолкованию общего смысла произведения 1. При этом интерпретация непосредственно опирается на стилистику. Так данное пособие перекликается с книгой «Стилистика французского языка» 2 в плане преемственности и единства основной концепции.
Учитывая то, что наибольшие трудности вызывает интерпретация литературно-художественного текста и что преподавание иностранного языка в старших классах средней школы ведется в значительной мере на литературном материале, основное внимание в книге уделяется структуре и методике анализа художественных произведений, в первую очередь прозаических.
Любой текст, в том числе и художественный, подчиняется ряду общих закономерностей речевой деятельности. Поэтому основному разделу книги, посвященному методике интерпретации художественных произведений, предпослана первая глава, где разбираются некоторые из этих закономерностей, знание которых составляет необходимую основу для плодотворной работы над текстом, а также может иметь самостоятельную ценность для будущего филолога.
Глава I
ЭКСПЛИЦИТНОЕ И ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
§ 1. Что такое интерпретация текста. Задачи курса
Значение слова «интерпретация» определяется в словарях как «толкование», «изъяснение», «раскрытие смысла». Интерпретация текста — раскрытие того содержания, которое в нем заложено. Следовательно, чтение любого текста, вообще любой акт восприятия речи (при условии, конечно, что человек понимает читаемое или слышимое) есть интерпретация — интерпретация для себя. Очевидно, что интерпретация текста может быть более или менее глубокой, более или менее полной. Будем считать, что основная задача интерпретации текста как исследовательской деятельности и как учебной практики заключается в том, чтобы извлечь из текста максимум информации, как можно полнее постичь не только то содержание, которое заложено в него автором (адресантом), но и то, которое потенциально содержится в нем помимо авторской воли; не только постичь для себя, но и разъяснить другим. Таким образом, главная задача курса, основы которого излагаются в этой книге, — дать в руки читателю-студенту систему понятий и исследовательских приемов, которые позволили бы ему в дальнейшем не только самостоятельно интерпретировать разного рода тексты — и для себя и для других, — но и учить этой работе других.
У читателя может возникнуть наивный, но вполне законный вопрос: зачем вообще нужна специальная методика интерпретации текста? Разве не достаточно для понимания любого речевого сообщения знать соответствующий язык? Надо ли этому специально учить?
Обычно необходимость научного подхода к толкованию текста и создания соответствующей методики обосновывают специфическими свойствами художественной литературы. Говорят о том, что словесное искусство в целом представляет собой особую непрерывно изменяющуюся семиотическую систему, особый язык, и что даже каждый отдельный художественный текст говорит с читателем по-своему; что «идейное содержание произведения воплощено в сложном комплексе всех его элементов, в системе этих элементов» 3 и что, входя в единую систему, элементы текста оказываются связанными друг с другом сложной сетью взаимных сопоставлений и противопоставлений, придающих им добавочные значения; что «первоэлемент» литературы — художественный образ — принципиально многозначен и неисчерпаем, и поэтому каждая новая эпоха интерпретирует один и тот же текст по-своему 4; что, входя в контекст художественного произведения, слово общенародного языка обрастает дополнительными смысловыми оттенками, становится носителем не только своего узуального значения, но и подтекста.
Все это верно, и основная часть этой книги тоже посвящена тем свойствам художественных текстов, которые отличают их от всех прочих и делают эти тексты носителями информации особого рода. Однако дело здесь не только в специфике словесного искусства. Дело прежде всего в том, что владение естественным языком (как говорят, «языковая компетенция») само по себе еще не приводит к подлинному пониманию какого бы то ни было текста. Языковая компетенция обеспечивает — да и то не всегда — лишь восприятие значения, но не смысла того, что мы слышим или читаем 5.
Речь — любая речь! — всегда значит больше, чем в ней непосредственно сказано; суммарная информация, которую сообщение несет адресату или постороннему слушателю (читателю), не исчерпывается упорядоченной совокупностью значений тех языковых единиц, из которых это сообщение составлено. Предположим, что мы услышали где-нибудь или прочитали такой обрывок диалога:
А. — Мы поедем в воскресенье за город?
Б. — Нет, у меня сел аккумулятор.
Чисто интуитивно, не опираясь ни на какую теорию и руководствуясь лишь житейским опытом и здравым смыслом, мы можем извлечь из этого обмена репликами следующую информацию, помимо той, что явно присутствует в нем:
— что у Б есть машина;
— что Б считает, что А имеет в виду поездку на машине;
— что совместные поездки А и Б за город, по всей вероятности, дело обычное и (или) что вопрос о такой поездке уже ставился;
— что отношения между А и Б, видимо, таковы, что А считает себя вправе рассчитывать на совместную поездку за город.
Теперь представим себе, что А — женщина, а Б — мужчина, что они муж и жена и что до этого времени они какое-то время были в ссоре. Ясно, что в такой ситуации ее вопрос не что иное, как слегка завуалированное предложение помириться, а его ответ — отказ, но отказ не окончательный, поскольку разряженный аккумулятор в машине — явление временное и от его воли не зависящее. Получается, что самое важное в сообщении прямо не выражено, но каким-то образом извлекается из сказанного.
Вообще подлинный смысл высказывания нередко вступает в противоречие с его лингвистическим значением или, на первый взгляд, не имеет ничего общего с ним. Как замечает французский лингвист О. Дюкро, фраза «Какая хорошая погода!» может означать в одних обстоятельствах «Ужасная погода!», а в каких-то других — «Нам нечего сказать друг другу» 6 (не говоря уже о том, что она может значить именно то, что она значит, но всегда плюс еще что-то).
В нашей повседневной речевой практике на родном языке мы более или менее успешно вкладываем наши личностные смыслы — то, что мы действительно хотим сказать, — в значения слов общего языка и извлекаем нужную нам информацию из сообщений, которые слышим или читаем. Это происходит как бы само собой, благодаря тому что наша речь практически всегда протекает в рамках определенной деятельности, решает какие-то насущные задачи, и мы непосредственно заинтересованы в том, чтобы правильно понять и оценить речь других, а также в том, чтобы нас поняли именно так, как мы этого хотим. Но и здесь это умение — как говорят, коммуникативная компетенция — приобретается не сразу и возрастает с жизненным опытом.
Ясно, что в деле подготовки преподавателей иностранного языка нельзя довольствоваться стихийно возникающей коммуникативной компетенцией. Преподаватель языка выступает не только как субъект, но и как организатор речевой деятельности. Из этого следует, что он должен знать законы формирования речевого смысла и уметь их сознательно применять.
Таким образом, курс интерпретации текста может и должен выполнять двойную задачу: не только учить искусству быть читателем художественной литературы, но и знакомить с общими принципами образования и способами извлечения речевого смысла из любого сообщения, тем более что те «приращения смысла», которые характерны для художественной речи, в конечном счете базируются на общих законах смыслообразования.
Вот с этих-то законов мы и начнем.
§ 2. Значение, содержание, смысл
Прежде всего необходимо определить понятия, которыми мы уже оперировали в предыдущем параграфе и которыми будем пользоваться в дальнейшем изложении.
Мы будем называть значением или эксплицитным содержанием высказывания (текста) то содержание, которое непосредственно выражено совокупностью языковых знаков, из которых это высказывание сосставлено. Иначе говоря, значение (эксплицитное содержание) — это то, что сказано «открытым текстом». Значение высказывания воспринимается более или менее одинаково всеми носителями данного языка в той мере, в какой они владеют соответствующими словами и понятиями; в этом смысле оно объективно.
Как было замечено выше, информация, которую несет высказывание, никогда не исчерпывается его значением. Ту часть информации, которая прямо не выражена в языковых знаках, составляющих высказывание, но так или иначе извлекается из него, мы будем называть имплицитным содержанием или подтекстом. Подтекст либо дополняет значение, как это было в том примере, где А. и Б обсуждают возможность поехать в воскресенье за город, либо снимает и заменяет его 7; примером может служить тот случай, когда высказывание Quel beau temps! на самом деле означает Le mauvais temps!
Третье понятие, которое нам необходимо ввести и определить, — понятие актуального смысла — выделяется уже на ином основании. Актуальный смысл — это raison d'être высказывания, та часть его содержания, которая представляется наиболее важной, центральной; это то, что, с одной стороны, отправитель — говорящий или пишущий — прежде всего хочет вложить в свое высказывание, то, ради чего он это высказывание предпринимает; а с другой стороны, то, что получатель — слушающий или читающий — прежде всего хочет извлечь из высказывания, то, что его в первую очередь интересует, ради чего он слушает или читает сообщение. Так, в нашем примере, в ситуации, когда А и Б в ссоре, вопрос А «Мы поедем в воскресенье за город?» имеет или, по крайней мере, может иметь актуальный смысл «Давай помиримся», а актуальный смысл ответа Б «Нет, у меня сел аккумулятор» представляет собой некатегорический отказ помириться.
В этом случае актуальный смысл совпадает с подтекстом и, кроме того, он, по всей вероятности, одинаков для обоих собеседников. Но ни то, ни другое не обязательно: представим себе, что их разговор подслушал кто-то третий, кого по каким-то причинам больше всего интересует, поедут или не поедут они в воскресенье за город; очевидно, что для него актуальный смысл сказанного в общем совпадает со значением ответа Б, точнее, с частью его значения — с отрицанием.
Таким образом, актуальный смысл непосредственно зависит и от экстралингвистической ситуации 8 (ясно, что если ссоры не было, то вопрос А не может быть предложением А помириться), и от интересов субъекта — участника общения; при этом актуальным смыслом высказывания может быть, теоретически рассуждая, любой компонент его содержания, как эксплицитного, так и имплицитного. Из этого следует, что вне ситуации и вне субъекта актуальный смысл просто не существует — он целиком ситуативен и субъективен. И еще один вывод: подтекст высказывания не может быть сознательно воспринят, если он не является актуальным для получателя. Однако было бы неправильно считать, что подтекст целиком субъективен: даже если он и не осознается участниками общения, он тем не менее потенциально присутствует в любом высказывании и, как будет показано ниже, поддается извлечению тем более полному, чем лучше мы представим себе экстралингвистическую ситуацию, в которой протекает общение.
Введем теперь еще одно, четвертое понятие — глобальное или интегральное содержание высказывания, которое мы определим как совокупность значения и потенциального подтекста.
Ясно, что интегральное содержание недоступно самим участникам общения: они заняты своим и значительная часть подтекста для них не является актуальной, а значит, и не осознается. Воспринять, хотя бы частично, интегральное содержание может только сторонний наблюдатель, который, с одной стороны, достаточно хорошо представляет себе ситуацию, степень осведомленности и интересы участников общения, а с другой — способен выйти за рамки их ситуации и их интересов, взглянуть на сообщение с других возможных позиций, чтобы извлечь как можно полнее потенциально содержащийся в нем подтекст. Такой наблюдатель должен при этом владеть и методикой извлечения подтекста. Короче говоря, интегральное содержание высказывания доступно, да и то не в полной мере, только исследователю — специалисту по научной интерпретации текста.
Задача интерпретации текста и состоит в извлечении из последнего интегрального содержания. Следует учесть однако, что полностью, раз и навсегда, эта задача применительно к какому-то конкретному тексту решена быть не может, поскольку даже самый проницательный и эрудированный исследователь — не универсальный ум, а всего лишь отдельная личность, ограниченная рамками своей эпохи, своей культуры, своим уровнем знаний, своим жизненным и литературным опытом, своим воображением, своей интуицией.
§ 3. Что такое экстралингвистическая ситуация
Из сказанного в предыдущем параграфе о зависимости актуального смысла высказывания от экстралингвистической ситуации вытекает задача: разобраться в том, что же представляет собой и из чего складывается экстралингвистическая ситуация. Обратимся еще раз к примеру Дюкро — фразе Quel beau temps! и двум приведенным ее толкованиям. Первое толкование этой фразы, т.е. актуальный смысл, который в определенной ситуации можно ей приписать — Le mauvais temps!, определяется в первую очередь тем, какая на самом деле стоит погода или, обобщая, какова в действительности та ситуация, которая отражена в высказывании. Впредь мы будем именовать ее референтной ситуацией, а совокупность референтных ситуаций и объектов, отраженных в более или менее развернутом тексте, состоящем из ряда высказываний, будем называть референтным пространством.
Референтная ситуация (а следовательно, и референтное пространство) необязательно представляет собой некий конкретный, локализованный во времени и пространстве участок предметной действительности; референтная ситуация может быть и абстрактной, идеальной, обобщающей более или менее обширный класс конкретных ситуаций, например: On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal (La Rochefoucauld). Она может сводиться к единичному объекту или классу объектов, который мыслится как носитель какого-то признака или элемент какого-то множества. К таким ситуациям отсылают высказывания типа Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme! (Verlaine) или Chaque morphème est une suite de phonèmes. Референтная ситуация может быть также требуемой, желаемой, гипотетической; такие ситуации стоят, в частности, за побудительными и вопросительными предложениями. Наконец, референтная ситуация, как конкретная, так и абстрактная, может быть фиктивной, вымышленной, целиком или частично, например: «Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя» (Гоголь).
Вернемся к примеру Дюкро. Второе толкование смысла фразы Quel beau temps! — Nous n'avons pas grand-chose à nous dire зависит уже не от того, какая на самом деле погода (она в этом случае может быть любой), а от того, кто с кем говорит и, в частности, чего каждый из собеседников ждет от партнера. Как писал М.М. Бахтин, «для бытовой оценки и для разгадывания действительного смысла чужих слов решающее значение может иметь: кто именно говорит и при каких конкретных обстоятельствах ... Далее, очень важна вся ситуация говорения...» 9 (курсив наш. — К.Д.). Так выявляется другой аспект общего понятия «экстралингвистическая ситуация» или, говоря точнее, другая экстралингвистическая ситуация, в принципе отличная от референтной, — мы будем называть ее речевой или коммуникативной ситуацией.
В самом деле, речевое сообщение не возникает само по себе: оно всегда является результатом процесса (события), состоящего в том, что кто-то кому-то что-то сообщает. Как любой процесс, любое событие, передача речевого сообщения совершается в конкретной ситуации. По поводу любого высказывания, любого текста мы всегда можем спросить: кто именно, кому, где, когда, в каких конкретных обстоятельствах и каким конкретно способом адресует данное сообщение? Ответы на эти вопросы и составляют основные параметры или характеристики коммуникативной (речевой) ситуации. Рассмотрим их подробнее.
Очевидно, что важнейшими параметрами коммуникативной ситуации являются партнеры по общению: адресант (отправитель, субъект речи) и адресат (получатель). Действительно, любая речь, реализованная в любой форме, всегда обращена к кому-нибудь, т.е. всегда предполагает наличие адресата. Этот адресат может быть отделен от адресанта в пространстве и (или) во времени (например, потомки); он может быть неопределенным, обобщенным, множественным (публика, читатели) или фиктивным, неспособным воспринять обращенную к нему речь (грудной ребенок, собака); но психологически, в воображении адресанта, он всегда так или иначе присутствует 10.
Очевидно, что партнеры по общению могут поочередно занимать позиции адресанта и адресата, в этом случае мы имеем диалог или полилог (разговор, в котором участвует более двух человек). Если же позиции адресанта и адресата закреплены за партнерами на все время общения — один все время говорит или пишет, а другие только слушают или читают, — то такое общение называется монологическим. При монологическом общении позиция адресата, как правило, занята не одним человеком, а каким-то множеством людей (аудитория, читатели, слушатели).
Участники общения всегда выступают в глазах друг друга (и в своих собственных глазах) как носители некоторых социально значимых свойств, как обладатели определенных статусов — социальных, половых, возрастных, образовательных и др. (мальчик, пенсионер, молодая женщина, интеллигент, военный и т.д.), исполнители соотнесенных друг с другом ролей, социальных и психологических (учитель и ученик, отец и сын, писатель и читатель, врач и больной, обиженный и обидчик, коллеги по работе, влюбленные и т.п.), а также как носители определенных личностных качеств и субъекты той или иной деятельности, т.е. как люди, преследующие своей речью те или иные цели. Кроме того, нам придется учитывать тезаурус каждого из коммуникантов, в первую очередь адресата, ~ ту совокупность или систему знаний о мире вообще и о референтном пространстве в частности, которая заложена в памяти участников общения. Здесь важно отметить, что тезаурус адресата никогда не совпадает полностью с тезаурусом адресанта.
Совокупность всех этих аспектов личности участников общения в том виде, в каком она отражается в сознании партнера, мы назовем образом участника общения. Образ — это целостная субъективная модель личности партнера, индивидуального или коллективного, конкретного или обобщенного, реального или воображаемого. Адресант имеет в голове образ адресата и пытается предвосхитить его реакцию на сообщение, а адресат строит образ адресанта. Кроме того, каждый рисует себе свой собственный образ — свое представление о том, как он должен выглядеть в глазах партнера 11.
Кроме непременных участников коммуникативной ситуации — адресанта и адресата — существует еще один, факультативный — тот (или те), кому речь непосредственно не адресована, но кто в силу каких-то обстоятельств воспринимает и истолковывает ее (естественно, со своей точки зрения, исходя из своих интересов). Этот персонаж уже фигурировал в наших рассуждениях об актуальном смысле и интегральном содержании высказывания, — мы назовем его наблюдателем. Наблюдатель может открыто присутствовать при общении, если последнее совершается в условиях непосредственного контакта между партнерами; в этом случае он в известной мере влияет на ход общения, поскольку коммуниканты учитывают его присутствие. Он может быть и скрытым, в частности, отделенным во времени и (или) в пространстве от коммуникативной ситуации, например, исследователь, читающий письма знаменитого художника, или следователь, изучающий документы, приобщенные к делу. Скрытым наблюдателем формально, по условиям жанра, является и публика, присутствующая на спектакле; читатель, читающий диалог героев романа; телезритель, который смотрит телевизионное интервью, и т.п., хотя, по существу, именно они являются адресатами сообщений особого рода.
Коммуникативная ситуация включает в себя также канал связи. Этот канал может быть прежде всего акустическим (при устном общении) или визуальным (при письменном общении). Кроме того, он характеризуется наличием или отсутствием непосредственного контакта между партнерами, наличием или отсутствием визуальной связи, а также использованием тех или иных специальных средств передачи сообщения и общей организацией этого процесса.
Как уже было сказано, коммуникативную ситуацию ни в коем случае нельзя смешивать с референтной, это разные понятия. Однако в определенных обстоятельствах референтная и коммуникативная ситуации могут частично накладываться друг на друга. Это происходит, в частности, тогда, когда в сообщении говорится о самих коммуникантах или хотя бы об одном из них. Даже сам коммуникативный акт, т.е. процесс передачи сообщения, может быть референтной ситуацией этого сообщения — когда человек говорит или пишет о своей собственной речи или о восприятии ее адресатом. Ср. у Пушкина:
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На, вот, возьми ее скорей!)
§ 4. Деятельностная ситуация и предметно-событийный фон
Как уже говорилось, речь всегда является частью какой-то более широкой деятельности, преследующей определенную цель, и сама преследует те или иные цели, подчиненные основной. Поэтому коммуникативную ситуацию следует рассматривать как составную часть деятельностной ситуации. Деятельностная ситуация вообще — это, выражаясь фигурально, сюжет: то, что происходит с партнерами по общению, то, что их волнует и толкает на определенные поступки и слова, призванные изменить ситуацию в желаемом направлении или, наоборот, сохранить существующее положение вещей. Из этого следует, что деятельностная ситуация определяет выбор референтной ситуации и — шире — референтного пространства. Естественно, что каждый участник общения расценивает деятельностную ситуацию по-своему.
По отношению к каждому отдельному высказыванию деятельностная ситуация — это определенный момент в развитии сюжета, который характеризуется тем, что произошло до этого, и тем, что произойдет после 12. Поскольку то, что было сказано или выражено иным способом, составляет часть того, что произошло, предыдущие и последующие высказывания, а также жесты, выражения лица и т.п. всегда выступают как часть деятельностной ситуации и в своей совокупности образуют контекст.
Контекст — неотъемлемый и очень важный компонент деятельностной ситуации, от него существенным образом зависит смысл сообщения. Однако считать, как это нередко делают, что смысл зависит только от контекста, в особенности если иметь в виду только речевой контекст, было бы неверно. Такое впечатление складывается потому, что исследователь чаще всего имеет дело с готовым письменным текстом и не располагает другими сведениями о деятельностной ситуации. Кроме того, «узкий» лингвист ничем, кроме текста, обычно и не интересуется, что в конечном счете может помешать ему проникнуть в истинный смысл речи.
Коммуникативная ситуация всегда развертывается на определенном предметно-событийном фоне. Предметно-событийный фон — это место, где происходит общение (берег моря, актовый зал института, холл гостиницы, класс, кабинет начальника, редакция и т.д.), время, когда оно развертывается (время суток, день недели, время года, но также и абсолютное время, т.е. такой-то год или даже такое-то число, например 9 мая 1945 года), а также кто присутствует при общении в качестве наблюдателя и что делается или происходит вокруг (урок, собрание, вечер танцев, артобстрел, наводнение или пожар, оттепель и т.д.). При дистантном общении место, а часто и время порождения сообщения адресантом и место и время восприятия сообщения адресатом не совпадают. При некоторых видах дистантного общения, таких, как общение между писателем и читателем (писатель пишет, книгу издают, а потом читатель читает), важен не конкретный предметно-событийный фон порождения и восприятия сообщения, а общая социальная, политическая и историко-культурная ситуация: существенно не то, что Бальзак писал по ночам, в халате, поглощая неимоверное количество черного кофе, а то, что его творчество развертывалось в эпоху Реставрации и Июльской монархии, на фоне определенных исторических событий.
Предметно-событийный фон коммуникации может включать в себя, полностью или частично, референтную ситуацию. Это происходит тогда, когда люди говорят или пишут о том, что происходит у них перед глазами, т.е. о том, что входит в предметно-событийный фон. Чаще всего предметно-событийный фон какой-то своей частью включается в деятельностную ситуацию. Это бывает тогда, когда деятельность адресанта и (или) адресата ориентирована на объекты или события, входящие в их непосредственное окружение. В иных случаях предметно-событийный фон выступает только как внешняя декорация.
Коммуникативная ситуация, деятельностная ситуация, в которую она включена, референтная ситуация и предметно-событийный фон в совокупности образуют общую ситуативную рамку речевого сообщения 13. Порождение, передача и восприятие сообщения, совершающиеся в определенной ситуативной рамке, составляют коммуникативный акт.
Коммуникативный акт может быть воплощен не только в речевом сообщении, но и в экспрессивном жесте, в картинке, в том или ином условном сигнале и т.д., которые тоже следует рассматривать как сообщения. Однако в дальнейшем нас будут интересовать преимущественно речевые коммуникативные акты и тексты.
§ 5. Схема коммуникативного акта
Подытожим важнейшие положения двух предыдущих параграфов в форме схемы. Такие схемы составлялись неоднократно, предлагаемая нами берет за основу схему Р. Якобсона 14, а также схему Р.Г. Пиотровского и его соавторов 15, но существенно дополняет и ту и другую.
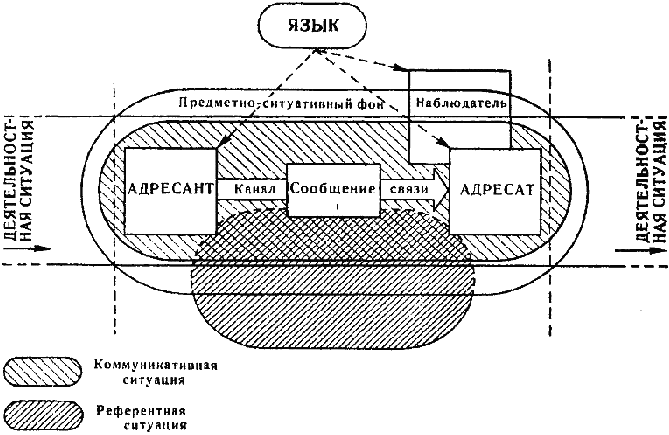
Деятельностная ситуация изображена на схеме как развертывающаяся слева направо, что соответствует ее развитию во времени, а коммуникативный акт, ограниченный двумя вертикальными пунктирными линиями, предстает как отрезок деятельностной ситуации — так сказать, реплика в контексте пьесы. Предполагается, что и слева, и справа (т.е. до и после) имеют место другие коммуникативные акты, необязательно речевые, в которых участвуют либо те же, либо иные коммуниканты.
На схеме референтная ситуация частично накладывается на коммуникативную и захватывает участок предметно-ситуативного фона. Изображая ее таким образом, мы хотели подчеркнуть лишь возможность такого совмещения, которое происходит тогда, когда люди говорят или пишут о себе и о том, что их непосредственно окружает. В тех же случаях, когда речь идет о каком-то отвлеченном предмете, референтная ситуация лежит вне коммуникативной и вне предметно-ситуативного фона. Референтная ситуация может прямо не соотноситься даже с деятельностной ситуацией; это бывает, в частности, тогда, когда люди говорят вовсе не о том, что их занимает, а о чем-то постороннем (как, например, в некоторых рассказах Хемингуэя).
Положение наблюдателя в нашей схеме также должно символизировать два основных случая, указанных в § наблюдатель явно присутствует при общении, т.е. включен в коммуникативную ситуацию; 2) наблюдатель не включен в коммуникативную ситуацию и смотрит на нее со стороны (именно такую позицию занимает исследователь, ставящий перед собой задачу извлечь из текста его интегральное содержание).
§ 6. Номинативное содержание и коммуникативное содержание высказывания
Теперь, после того как мы разобрались в том, что представляет собой и из чего складывается экстралингвистическая ситуация вообще и коммуникативная ситуация в частности, можно вернуться к содержанию высказывания. Вначале рассмотрим его в общем плане, имея, однако, в виду прежде всего эксплицитное содержание (значение), а затем обратимся к подтексту.
Итак, что же означает минимальное автономное высказывание? Обычно, отвечая на этот вопрос, говорят, что высказывание описывает (называет, отражает, обозначает) некую внешнюю по отношению к нему ситуацию (событие, факт, положение дел) 16 — то, что мы назвали выше референтной ситуацией. Это справедливо, по крайней мере, для подавляющего большинства высказываний. Однако, помимо сообщения о референтной ситуации, всякое высказывание содержит еще один пласт информации, соотносимый не с описываемым положением вещей, а с самим процессом речевого общения. Покажем это на простом примере:
— Pourriez-vous me dire, Maigret, pourquoi les policiers en civil, tout comme les plombiers, vont-ils toujours par deux? (Simmon).
Референтная ситуация, стоящая за этой фразой, могла бы быть с такой же степенью полноты описана словами: Pour une raison inconnue, les policiers en civil, tout comme les plombiers, vont toujours par deux, из чего следует, что начало фразы — Pourriez-vous me dire, Maigret ... — с ней непосредственно не связано. Очевидно, эта часть высказывания сопряжена не с референтным пространством, а с «пространством коммуникации». В самом деле, мы из нее узнаем что:
1) данное высказывание является вопросительным, т.е. что этим высказыванием адресант хочет побудить адресата сообщить ему какие-то сведения об одном из компонентов референтной ситуации, представляющимся неопределенным, неизвестным, в частности, о причинах того положения вещей, которое описывается второй частью данного предложения;
2) адресатом высказывания является человек по фамилии Мегрэ; называя его, адресант сигнализирует ему тем самым свое желание установить или поддержать с ним контакт;
3) адресант не уверен, что адресат способен сообщить ему требуемую информацию (это выводится из наличия во фразе модального глагола pouvoir в условном наклонении);
4) адресат, по всей вероятности, человек взрослый, и адресант рассматривает его, надо думать, как «чужого», т.е. как лицо, связанное с ним не личностными, а официальными отношениями, и в то же время как низшего по социальному рангу (обращение на «вы» и по фамилии, но без добавления почтительного monsieur).
Таким образом, в данном случае этот пласт содержания высказывания, во-первых, обеспечивает контакт между партнерами (2), во-вторых, характеризует сам речевой акт как действие, направленное на достижение определенной цели (1), и, в-третьих, сообщает адресату, как адресант расценивает его тезаурус, в частности его осведомленность относительно данного участка референтного пространства (3), а также как он (адресант) представляет себе некоторые статусные свойства адресата и те отношения, которые существуют между ним и адресатом (4).
Итак, в содержании высказывания следует различать два аспекта:
— номинативный аспект (номинативное содержание), посредством которого высказывание называет или описывает некую референтную ситуацию;
— коммуникативный аспект (коммуникативное содержание), который отражает те или иные параметры речевой ситуации, и в первую очередь ту непосредственную цель, которую преследует речевой акт, воплощенный в данном высказывании. Именно коммуникативный аспект связывает содержание высказывания с деятельностной ситуацией, включает данный коммуникативный акт в общую структуру деятельности субъекта.
Конечно, далеко не всегда высказывание так четко распадается по содержанию на две части, как в приведенном выше примере; кроме того, сами сведения о коммуникативном акте могут касаться иных его параметров и прежде всего могут быть значительно менее богатыми, разнообразными, а также менее определенными (подробнее об этом будет сказано далее). Важно, однако, подчеркнуть, что если высказывания, лишенные номинативного содержания, еще возможны (например, высказывания, состоящие из одного обращения), то высказываний, лишенных коммуникативного содержания, на свете не бывает. В самом деле, даже самое простое повествовательное предложение без каких-либо обращений и модальных слов, например Deux et deux font quatre, может быть охарактеризовано как утверждение (в противоположность вопросу и побуждению), причем утверждение категорическое, несмягченное. Поэтому сформулировать номинативное содержание высказывания в чистом виде, без примеси коммуникативного, пользуясь средствами того или иного естественного языка, теоретически и практически невозможно.
Указанные два пласта содержания высказывания — номинативное содержание и коммуникативное содержание — обнаруживаются как в эксплицитном значении, так и в подтексте. Собственно говоря, уже в рассмотренном здесь примере пункт 4 — информацию о том, как адресант представляет себе адресата и свои отношения с ним, извлеченную из формы обращения к адресату, — можно расценивать (с некоторыми оговорками) как компонент имплицитного содержания. Но имплицитное содержание может информировать также о референтной ситуации; этот вид подтекста, как будет показано ниже, также имеет большое значение, в особенности в литературных текстах.
Разграничение номинативного и коммуникативного содержания оказывается затрудненным, а иногда и вообще невозможным (оппозиция между ними частично или полностью нейтрализуется) в случаях, когда референтная ситуация частично или полностью включена в коммуникативную, в частности, когда предметом высказывания является сам процесс речевого общения (см. выше, § 3).
Выделению номинативного содержания в чистом виде препятствует еще одно обстоятельство: для описания самой референтной ситуации в естественных языках, наряду со знаками, отсылающими непосредственно к объектам референтного пространства, таким, как предметы, классы предметов, отвлеченные понятия, качества, действия, состояния и т.п., постоянно используются знаки, которые прямо соотносятся только с коммуникативной ситуацией и получают свое конкретное (денотативное) значение лишь через него. Таковы прежде всего местоимения: «это» означает объект, который участники коммуникации непосредственно воспринимают (воспринимали), или объект, о котором они говорят (говорили); «я» — это тот, кто говорит «я», т.е. тот, кто в данном акте речи является адресантом, и т.п.; таковы многие наречия: «здесь» — в том месте, где находится адресант, «там» — в другом месте, не здесь; «вчера» — накануне того дня, когда имеет место речевой акт, «завтра» — на следующий день после речевого акта. По такому же принципу организована грамматическая категория глагольного времени: за точку отсчета берется момент речи 17.
В дальнейшем мы увидим, что номинативный и коммуникативный аспекты содержания высказывания (и тем более целого текста) переплетены еще теснее, чем об этом говорится здесь, и что коммуникативное содержание (в частности, имплицитное коммуникативное содержание, коммуникативный подтекст) в конечном счете обнаруживается и в номинативном аспекте. Но чтобы научиться извлекать его оттуда, надо попытаться разграничить тот и другой аспекты, в частности попытаться вычленить номинативное содержание высказывания.
§ 7. Номинативное содержание высказывания.
Что значит описать референтную ситуацию?
Приступая к рассмотрению этого аспекта содержания речи, следует помнить, что речевая номинация (описание) референтной ситуации никогда не является самоцелью, точнее, окончательной целью говорящего или пишущего субъекта; мы описываем различные референтные ситуации лишь постольку, поскольку нам это для чего-то нужно, поскольку это обеспечивает достижение каких-то иных, вне- и надречевых целей, удовлетворение каких-то потребностей. И было бы странно, если бы способ достижения цели — описание ситуации — никак не зависел от самой цели, от того, чего мы хотим добиться. Ясно, например, что фирма, рекламирующая свой товар, будет описывать его достоинства, а не его недостатки.
Но что значит описать словами референтную ситуацию? Это далеко не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Для того чтобы ответить на него, проделаем маленький эксперимент. Пусть референтная ситуация задана вот такой картинкой 18.
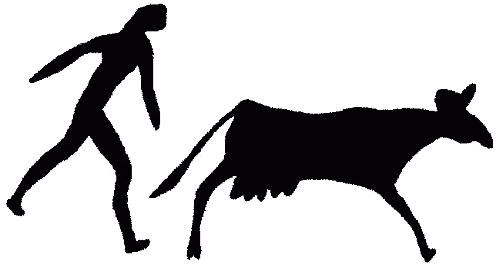
Требуется построить высказывание, отражающее то, что здесь изображено. Для этого надо прежде всего самому разобраться в ситуации, понять, что же тут происходит. Фигура слева — это, несомненно, человек; а справа — какое-то животное, похожее на корову. Итак, мы начали с того, что выделили и попытались опознать участников ситуации, т.е. подвести воспринимаемые нашим зрением объекты (в данном случае изображения объектов) под определенные понятия.
Это не всегда легко; так, если левая фигура на рисунке не вызывает сомнений, то правую опознать уже труднее: точно ли это корова? Дальше надо определить, что они делают и что с ними происходит, т.е. что их связывает друг с другом. Человек и животное идут (или бегут) в одну сторону, животное впереди, человек за ним; если животное — корова, то, вероятно, человек гонит корову.
Описать референтную ситуацию посредством высказывания — это значит прежде всего выделить, опознать и квалифицировать элементы ситуации, ее основных участников, а также те отношения, которые их связывают. Словесное описание любой ситуации обязательно предполагает анализ и обобщение, соотнесение того, что мы воспринимаем или воображаем, с предшествующим опытом, с понятиями, в которых этот опыт кристаллизуется; мы квалифицируем правого участника ситуации как корову (если мы принимаем такое толкование), соотнося то, что мы видим — туловище, голову, ноги, хвост, вымя, — с тем, что мы знаем о мире вообще и о животных в частности; таким же образом, опираясь на то, что мы знаем о людях и коровах, мы определили отношения между участниками: то, что человек гонит корову. Результат этого процесса анализа ситуации фиксируется в значениях слов и других элементарных языковых знаков, которые мы объединяем в предложение по законам данного языка.
Таким образом, описание референтной ситуации, осуществляемое высказыванием, — это не механическое, зеркальное отражение данного отрезка действительности, не автоматическая фиксация с помощью слов того, что мы воспринимаем или воображаем, а результат сложного познавательного процесса (хотя и не всегда осознаваемого самим говорящим). Высказывание истолковывает, интерпретирует референтную ситуацию, приписывает ей определенную структуру, вычленяя и квалифицируя элементы ситуации и их отношения, а также определяя ту роль, которую каждый элемент играет в этих отношениях (так, человек в описанной нами ситуации выступает как активный деятель, «агенс», а корова — как пассивный объект действия, осуществляемого человеком, «пациенс» 19). Тем самым высказывание обобщает конкретный факт, который оно описывает, подгоняет его под некоторую типовую, более или менее знакомую ситуацию, подобно тому как лексически полнозначное слово, называя конкретный, единичный объект, подводит его под определенное понятие.
Известно, что содержание простого языкового знака (в частности, лексически полнозначного имени) складывается из двух основных компонентов: денотата, — целостного, неделимого представления о референте, т.е. объекте, к которому отсылает знак, и десигната (сигнификата) — понятийно-классифицирующего компонента значения 20. Слово указывает на объект своим денотативным значением и квалифицирует объект, т.е. подводит его под определенное понятие, десигнативным (сигнификативным) значением. Если считать, что номинативное содержание высказывания складывается из тех же двух компонентов, то, очевидно, десигнатом высказывания и будет предлагаемое в нем истолкование референтной ситуации или — что то же самое — его семантическая структура 21. Что же касается денотата высказывания, то о нем мы поговорим ниже.
§ 8. Вариативность речевого истолкования действительности:
одна ситуация — множество истолкований
Очень важно понять, что один и тот же отрезок действительности может получить множество различных и при этом одинаково правильных истолкований.
Представим себе обычную институтскую аудиторию. Идут занятия, скажем, по аналитическому чтению на IV курсе; преподаватель и студенты разбирают отрывок из романа Ф. Мориака «Les chemins de la mer». Предположим, что в дверь поочередно заглядывают шесть человек, и каждый после этого сообщает кому-то другому, что он увидел в аудитории. Таким образом, мы получим шесть различных высказываний, описывающих как будто одну и ту же референтную ситуацию. Пусть эти высказывания звучат так:
1. Там четвертый курс, французы; у них язык.
2. Там Мария Павловна толкует своего любимого Мориака — знаете, тот отрывок из «Les chemins de la mer», где они приезжают в Леоньян.
3. Занято.
4. Галки там нет — сачкует, наверно.
5. В 235-й дверь плохо закрывается и левый плафон не горит.
6. Там еще доска плохая — ничего не видно, что пишут.
Каждое из этих высказываний может вполне соответствовать истине, но каждое, как легко заметить, отражает лишь какую-то одну сторону ситуации. И не следует считать, что это объясняется лишь узостью взгляда каждого из говорящих. Дело в том, что референтная ситуация как кусок конкретной действительности практически неисчерпаема и не может быть полностью описана в речи. Как отмечал В.И. Ленин, «самая простая истина, самым простым, индуктивным путем полученная, всегда неполна, ибо опыт всегда незакончен» 22. Для того чтобы исчерпать в высказывании предложенную референтную ситуацию, надо было бы исчерпывающе описать каждого студента с головы до ног, от туфель до прически, все особенности его костюма, его организма и психического склада; таким же образом надо было бы описать преподавателя и все без исключения предметы, находящиеся в аудитории. Даже если это бы было возможно, такое описание заняло бы десятки, а то и сотни томов, потому что действительность бесконечно многообразна, а речь линейна, это значит, что мы не можем говорить одновременно о различных одновременно существующих аспектах ситуации, мы можем описывать их лишь последовательно: сначала преподавателя, потом каждого из студентов (или наоборот) и т.д. За это время ситуация в целом и каждый ее элемент более или менее существенно изменились бы (нельзя дважды войти в одну и ту же реку!), и наше сообщение безнадежно отстало бы от описываемой ситуации.
Очевидно, единственная возможность отразить объективную действительность в речи заключается в том, чтобы описывать ее выборочно и более или менее обобщенно, отмечая лишь наиболее существенные ее стороны — существенные, разумеется, с точки зрения субъекта речи, точнее, с точки зрения той деятельности, в которую включается его речь, тех проблем, которые его занимают, тех целей, которые он преследует, в соответствии с теми сведениями о референтной ситуации, которыми располагает он сам, и теми, которыми, по его мнению, уже располагает адресат 23.
Так, совершенно очевидно, что автор первого высказывания знает студентов, а преподавателя не знает и (или) преподаватель его не интересует, так же как и текст, который они разбирают. Наоборот, второй говорящий, игнорируя студентов, обращает внимание на преподавателя и текст (несомненно, он хорошо знает и преподавателя, и разбираемый отрывок — их он и выделяет в качестве важнейших элементов референтной ситуации). Если адресант первого высказывания, надо думать, студент, то второй говорящий скорее всего преподаватель, и обращается он тоже к преподавателю. Третьему адресанту безразлично, кто находится в аудитории и что там происходит; его и его партнера интересует только одно: свободно или занято помещение, об этом он и говорит. Четвертый — тоже, несомненно, студент — ищет некую Галку; очевидно, у него были веские основания предполагать, что Галка находится в аудитории (допустим, он знает, что она студентка этой группы); в соответствии с этим из всего многообразия аспектов ситуации он выделяет лишь один: отсутствие Галки — и высказывает предположение о причине ее отсутствия. Наконец, пятый и шестой адресанты — по всей вероятности, работники АХЧ института — подходят к ситуации со своей специфической точки зрения: выискивают разные технические неполадки, подлежащие устранению.
Выше, в § 2, мы говорили об актуальном смысле высказывания, в частности об актуальном смысле для адресата; мы определили его как ту часть или тот аспект содержания, который непосредственно интересует слушающего или читающего и который он в первую очередь извлекает из сообщения. Точно так же — заинтересованно, корыстно и, следовательно, сугубо избирательно — мы воспринимаем и истолковываем в речи различные ситуации, привлекающие наше внимание: в каждой такой ситуации каждый из нас усматривает прежде всего тот аспект, тот смысл, который является для него доступным и в то же время актуальным. В обоих случаях имеет место интерпретация.
Таким образом, один и тот же отрезок действительности может быть предметом множества совершенно различных по своему значению высказываний — по поводу одного и того же факта разные субъекты, исходя из своих интересов и представлений, говорят не только разное, но и о разном, т.е. фактически усматривают в одной и той же «большой», общей референтной ситуации — отрезке объективной действительности — множество различных «малых» или частных референтных ситуаций, которые они и описывают в своих высказываниях, каждый свою, игнорируя остальные. Их высказывания, таким образом, обладают не только разными десигнатами (что очевидно), но и разными денотатами. В самом деле, если денотат, согласно определению, приведенному в предыдущем параграфе, это целостное представление о референте, тот компонент содержания знака, который отсылает к именуемому объекту, то применительно к высказыванию — сложному или полному знаку 24 — денотатом надо считать отражение того объективного положения вещей, того аспекта действительности (т.е. «малой» референтной ситуации), который описывается (истолковывается) в высказывании, или, проще, то, о чем непосредственно говорится в высказывании.
С этой точки зрения можно утверждать, что наши шесть высказываний имеют четыре разных денотата, поскольку фразы 1 и 2 говорят об одном и том же (что имеет место в аудитории 235), равно как и фразы 5 и 6 (что не в порядке в аудитории 235). Как явствует из этих примеров, высказывания, имеющие общий денотат, могут иметь разные, но при этом равно соответствующие объективной истине и не противоречащие друг другу десигнаты (верно и то, что в 235-й левый плафон не горит, и то, что там доска плохая). С другой стороны, вполне возможны и взаимоисключающие утверждения об одном и том же, например, легко представить себе такую реакцию на фразу 6: «Да нет, вполне приличная доска! Они ее просто не вытерли как следует».
Чрезвычайно существенно также то, что в принципе содержание высказывания не заперто в пределах данной конкретной ситуации — оно нередко выходит за ее пределы, добавляет то, что в данном отрезке действительности непосредственно не дано, но что известно адресанту. В этом отношении характерна фраза 2: то, что Мориак — любимый писатель Марии Павловны, говорящий выводит не непосредственно из наблюдаемой ситуации, а из предшествующего опыта, обобщая множество различных ситуаций с участием Марии Павловны, свидетелем которых он был.
Не менее интересна в этом смысле фраза 4. Строго говоря, это не элементарное высказывание, а более сложное речевое образование — «сверхфразовое единство», состоящее из двух элементарных высказываний, поскольку оно описывает не одну референтную ситуацию, а две: реальную, наблюдаемую («Галки там нет»), и воображаемую, гипотетическую («Сачкует, наверно»). Но эта вторая ситуация подчинена первой, она воображена говорящим для того, чтобы объяснить первую.
Таким образом, говорящий или пишущий человек не только и не столько выбирает референтные ситуации своих высказываний, сколько конструирует их, набрасывая на реальную действительность сеть своих представлений и понятий, проецируя на нее свои интересы и потребности. При этом он постоянно отвлекается от конкретного единичного, чувственно воспринимаемого, соединяет и обобщает сходные аспекты различных конкретных ситуаций, для того чтобы высказать те или иные общие суждения, отражающие (более или менее адекватно) определенные закономерности объективного мира. При этом даже самые отвлеченные по своему содержанию высказывания, например «Понятие не может существовать вне слова», описывают определенные референтные ситуации, каковыми и являются формулируемые в них закономерности — то, что имеет место на самом деле, независимо от высказывания, и что на данном этапе развития человечества, может быть, до конца еще не познано. И, воспринимая высказывание, адресат соотносит его десигнативное содержание с тем, что он знает (или думает, что знает) о референтной ситуации, верифицирует утверждение адресанта относительно референтной ситуации, руководствуясь не только тем, что ему известно, но и тем, что, по его мнению, вероятно и возможно.
§ 9. Денотат — заготовка для десигната
Итак, и выбор, и истолкование референтной ситуации целиком определяются коммуникативными потребностями и предварительными знаниями адресанта. Как мы попытались отразить это в схеме коммуникативного акта (см. выше, § 5), каждое высказывание вписывается в некоторую деятельностную ситуацию, частным случаем которой является речевой контекст. Деятельностная ситуация ставит перед адресантом определенные речевые задачи, диктует выбор референтной ситуации и ее интерпретацию.
Но, как известно, во всякой задаче есть две основные части: условия задачи, т.е. нечто известное, данное, и то, что требуется определить; мы решаем задачу, находим неизвестные величины, исходя из известных. То же самое имеет место в речи. Речь тоже движется от известного к неизвестному; мы вводим и интерпретируем новые референтные ситуации, опираясь на уже достигнутое, известное — какие-то элементы референтного пространства, либо установленные в левом контексте, либо прямо вытекающие из установленных (например, если в левом контексте упоминался дом, то применительно к данному высказыванию окна или крыша будут уже данным, известным), либо непосредственно подсказанные деятельностной ситуацией, либо, наконец, принадлежащие к числу объектов (понятий), которые рассматриваются партнерами по общению как исходные, не нуждающиеся в специальном установлении.
В итоге еще до начала интерпретации очередной референтной ситуации в денотате высказывания — отражении этой ситуации — уже есть некоторый «задел», какой-то уже выделенный и установленный элемент или элементы подлежащего описанию факта. Будучи вербализованными (т.е. оформленными в словах) и введенными в строящееся высказывание, эти элементы образуют эксплицитную тему последнего 25. Так, во фразах. 1, 2 и 6 из предыдущего параграфа темой является наречие «там», обозначающее уже известный, заданный самой деятельностной ситуацией элемент референтного пространства: «в аудитории 235»; этот же элемент, но обозначенный иными словами — «В 235-й» — образует тему фразы 5; а во фразе 4 тема — «Галки там» — включает в себя сразу два элемента референтного пространства, также заданные деятельностной ситуацией — поисками Галки. Однако тема может быть и имплицитной, т.е. остаться в «уме», не получить словесного выражения, именно так обстоит дело во фразе 3: ясно, что, говоря «Занято», адресант имеет в виду все ту же аудиторию 235, и, таким образом, эта фраза имеет ту же (по содержанию) тему, что и фразы 1, 2, 5 и 6. Можно также утверждать, что все шесть высказываний имеют, помимо названных, еще один, имплицитный тематический элемент: «сейчас».
Содержание темы — эксплицитной или имплицитной — составляет ядро денотата высказывания: именно по нему в первую очередь адресат соотносит высказывание с соответствующей референтной ситуацией. Однако денотат не сводится к содержанию темы; как уже говорилось выше, денотат — это отражение того аспекта, в котором описывается референтная ситуация, а тема воплощает лишь часть его, уже ставшую общим знанием коммуникантов. Так, тема фразы 5 из предыдущего параграфа — «В 235-й», а ее денотат, как мы его определили выше, — «что не в порядке в аудитории 235».
Таким образом, денотат высказывания — это своего рода уравнение с переменным числом неизвестных или, точнее, условия задачи, в которых содержатся исходные данные (тема) и формулируется вопрос, а десигнат — это решение задачи, содержащее как ранее известные данные (тему), так и новые, ранее неизвестные элементы (рему), в целом — предлагаемое адресантом толкование референтной ситуации.
§ 10. Нереферентные высказывания
Основываясь на соображениях, сформулированных в предыдущем параграфе, можно утверждать, что описать референтную ситуацию — это значит высказать некое суждение относительно референта темы. Очевидно, что наше суждение (описание ситуации) может быть истинным или ложным; так, из двух взаимоисключающих высказываний «В аудитории 235 два окна» и «В аудитории 235 четыре окна» лишь одно истинно — то, которое соответствует объективно существующей референтной ситуации, тому, что есть на самом деле. В других случаях могут быть и какие-то нюансы, например: «— Мария Павловна еще молодая. — Да нет, она старая! — Ладно, скажем так: средних лет» 26.
Но для того чтобы мы могли судить об истинности или ложности того или иного утверждения о количестве окон в 235-й аудитории, как и для того, чтобы мы могли спросить, сколько окон в аудитории 235, или послать кого-нибудь мыть эти окна, необходимо прежде всего, чтобы в учебном корпусе была такая аудитория, иначе любое высказывание о ней (т.е. высказывание, где обозначающее ее слово является темой или входит в состав темы) будет лишено всякого смысла (единственное исключение — высказывание о ее существовании или несуществовании, например «Такой аудитории у нас нет».) Имея в виду эту закономерность, говорят, что тема высказывания имплицирует (т.е. предполагает) существование своего референта 27; в самом деле, нельзя же утверждать или отрицать что-либо относительно того, что не существует. Такое условие осмысленного употребления высказывания называют пресуппозицией существования темы или экзистенциальной пресуппозицией (подробнее о пресуппозициях см. ниже, § 19).
Так вот, ситуации, описываемые высказываниями, темы которых не имеют референтов в объективной действительности, мы и назовем мнимыми, а сами эти высказывания (и такие же тексты) — нереферентными или пустыми.
К нереферентным относятся прежде всего высказывания, основанные на ошибочных сведениях о существовании какого-то объекта или представляющие собой сознательную мистификацию. С ними дело обстоит сравнительно просто, потому что их нереферентность устанавливается в принципе легко и однозначно. Нереферентными являются и высказывания о леших, ведьмах, кентаврах, единорогах, русалках и прочих мифических персонажах, по крайней мере, для современного более или менее образованного человека. Однако о них возможны и вполне осмысленные высказывания, причем не только в легендах и сказках, например: LICORNE. n. f. 1. Animal fabuleux qu'on représente avec un corps de cheval, une tête de cheval ou de cerf et une corne unique au milieu du front. La licorne, emblème de virginité, de pureté, dans les légendes du Moyen Age. (Petit Robert). Их нереферентность, следовательно, менее очевидна, чем нереферентность высказываний о несуществующей аудитории 235. Даже с точки зрения атеиста нельзя признать пустыми высказывания, где в качестве темы фигурирует такое понятие, как «Бог»: во-первых, по меньшей мере половина населения земного шара с нами не согласилась бы; а кроме того, что еще важнее, можно было бы процитировать десятки и сотни вовсе не пустых фраз о Боге, сказанных заведомо неверующими людьми, и не сводящихся при этом к утверждению «Бога нет». Так, например, Ф. Энгельс писал, что единый Бог никогда не был бы осуществлен без единого царя.
Очевидно, дело здесь в том, что, не существуя в наблюдаемой действительности, «Бог» и многие другие понятия такого рода существовали и существуют в сознании множества людей; это идеальные объекты, не находящие себе соответствия в материальном мире (чем они отличаются от научных абстракций типа «геометрической линии», «точки», «идеального газа», «энергии», «материи» и т.п.). Говоря о Боге, неверующий имеет в виду идею Бога, представление о нем, существовавшее и существующее в сознании верующих, а эта идея — несомненная реальность.
Все это имеет прямое отношение к нашей основной теме, так как Евгений Онегин, Анна Каренина, Жюльен Сорель, Эмма Бовари, вообще подавляющее большинство героев новой и новейшей литературы тоже никогда не существовали в действительности, и, следовательно, все, что о них рассказывается, формально должно быть зачислено в разряд нереферентных, пустых сообщений. Подобно лешим и ведьмам им тоже присуще лишь «квазисуществование» на правах воображаемых объектов. Но есть и существенная разница: фиктивность их бытия более или менее открыто объявляется адресантом и сознательно принимается адресатом как своего рода правило игры; первый объявляет ее уже одним тем, что прибегает к жанру романа, новеллы или драмы, а второй принимает эту условность, подходя к тексту именно как к образцу того или иного литературного жанра, предполагающего вымышленность персонажей и обстоятельств (недаром такого рода литературу по-английски называют fiction). Можно, по-видимому, сформулировать на этот счет такое правило: фиктивность существования референта темы как предложенная адресантом и принятая адресатом условность не только не делает высказывание пустым, но, наоборот, при некоторых обстоятельствах придает ему особую значимость. Об этих обстоятельствах мы поговорим позже.
§ 11. Номинативное содержание высказывания: некоторые итоги
Номинативное содержание высказывания нередко противопоставляют коммуникативному, как объективное субъективному: первое, мол, адекватно отражает референтную ситуацию, а второе накладывает на это отражение отпечаток личности адресанта, его отношения к сообщаемому факту. Мы видели, однако, что объективность номинативного содержания более чем относительна, поскольку и выбор референтной ситуации, и ее истолкование определяются прежде всего интересами и потребностями адресанта. Таким образом, речь здесь может идти лишь о противопоставлении скрыто субъективного содержания явно субъективному, каковым является коммуникативное содержание высказывания.
Характерно, что сама структура номинативного содержания — соотношение денотативного и десигнативного аспектов — оказывается теснейшим образом связанной с категорией актуального (коммуникативного, темо-рематического) членения, которое практически всегда (и вполне оправданно) относят к коммуникативному содержанию высказывания, но при этом, уже без достаточных оснований, часто рассматривают как нечто вторичное или даже третичное, сугубо поверхностное, результат добавочной и сугубо индивидуальной, речевой обработки готового высказывания, сформированного по законам данного языка 28. Между тем если мы принимаем тезис, согласно которому каждое отдельное высказывание есть действие в некоторой системе деятельности 29, то нельзя не признать, что процесс порождения любого высказывания начинается с определения цели и способов ее достижения, т.е. формирования программы будущей фразы. Что мне надо, чего я хочу добиться? О чем мне следует в этой связи говорить, учитывая, что я имею дело с таким-то адресатом — носителем такого-то статуса, играющим такую-то роль, заинтересованным в том-то и том-то, и т.д.? Что я должен ему об этом сказать, учитывая степень его осведомленности и прочие его свойства? Даже если мы и не формулируем для себя эти вопросы, все равно они незримо и неосознанно определяют наше речевое поведение. Но программа будущего высказывания — это, в сущности, и есть его денотат, где точно определено, о чем пойдет речь, намечены общие контуры того, что будет об этом сказано, установлено, что предстоит понять и сформулировать в ходе речемыслительного процесса 30, задан тот вопрос, на который ответит рема.
Таким образом, процесс формирования высказывания не заканчивается наложением темо-рематической структуры на готовое предложение, а, наоборот, начинается с определения темо-рематической структуры (о чем и что говорить). Иными словами, темо-рематическую структуру (актуальное членение) надо рассматривать как первичную, исходную — именно она связывает высказывание со структурой деятельности, которую обслуживает речь, с коммуникативной ситуацией.
Какое отношение все это имеет к нашей основной теме?
Самое непосредственное. Ведь если выбор референтной ситуации и ее истолкование (номинативное содержание) зависят от адресанта, от его потребностей, интересов, коммуникативных задач, от его представления об адресате и о коммуникативной ситуации в целом, значит, номинативное содержание высказывания характеризует не только референтную ситуацию, но также самого адресанта и его представление о коммуникативной ситуации. Получается парадоксальный на первый взгляд вывод: номинативное содержание несет в себе какие-то элементы коммуникативного. Однако, если вдуматься, в этом нет ничего странного: мы судим о человеке по его поступкам, по тому, что и как он делает (или не делает), но также по тому, что и как он говорит. Нет нужды доказывать, насколько это важно для понимания литературного — да и не только литературного — текста.
§ 12. Коммуникативное содержание высказывания. Модальность
Эта проблема чрезвычайно сложна, имеющиеся толкования противоречивы 31. Последнее объясняется, надо думать, самим характером объекта исследования: если номинативное содержание высказывания сводится к описанию некоторой референтной ситуации, имеющей свою структуру и более или менее четкие границы (хотя, как мы видели, последнее относительно), то коммуникативное содержание разнородно, расплывчато, трудноуловимо. Подробное обсуждение этой проблемы отняло бы у нас слишком много времени; поэтому мы позволим себе прежде всего отослать читателя к соответствующему разделу учебника по теоретической грамматике французского языка В.Г. Гака 32.
В.Г. Гак считает, что коммуникативное содержание («модально-коммуникативный аспект предложения») включает в себя 8 основных категорий или аспектов: 1) лица; 2) времени и вида; 3) модальности; 4) утверждения / отрицания; 5) коммуникативной целеустановки (целенаправленности); 6) информативной установки (актуальное членение предложения); 7) эмотивности (эмоциональный аспект предложения); 8) речевой ситуативности (социальный аспект высказывания). Однако мы подходим к этим проблемам с несколько иных позиций, чем В.Г. Гак, поэтому распределение различных аспектов значения высказывания между сферами номинативного и коммуникативного содержания у нас должно быть иным.
Поскольку для нас главное в номинативном содержании высказывания — это интерпретация референтной ситуации, а содержательная интерпретация факта (события, положений дел) немыслима без утверждения / отрицания, а также без локализации действия (состояния) во времени, т.е. без отнесения его к прошлому, настоящему или будущему, мы должны сразу исключить из коммуникативного содержания и отнести к номинативному аспекты 2 и 4. Тот факт, что время и вид определяются по отношению к моменту речи, дела не меняет: это не более чем экономный технический прием, к которому прибегает большинство языков для описания объективной действительности; с помощью глагольного времени локализуется не речь, не коммуникативный акт по отношению к действительности, а референтная ситуация как отрезок действительности по отношению к коммуникативному акту.
То же можно сказать и о категории лица: мы говорим «я», «ты» «вы»), «он» и т.д. не для того, чтобы указать место каждого в речевом акте, а для того, чтобы обозначить каждого по его месту в процессе коммуникации. Речевой акт и там, и здесь не предмет информации, а точка отсчета. Следовательно, категорию лица также нужно вывести из сферы коммуникативного содержания высказывания.
С другой стороны, мы безоговорочно принимаем включение в эту сферу категорий 5–8 (на некоторых из них мы еще остановимся). Таким образом, остается аспект 3 — модальность.
Из трех основных типов модальности, которые рассматривает В.Г. Гак, с нашей точки зрения, к коммуникативному содержанию высказывания относится только один: отношение говорящего (именно говорящего, а не другого лица!) к сообщаемому, выраженное в личной, безличной или адвербиальной форме. Здесь выделяется ряд частных модальностей, такие, как декларативная (Je dis, affirme, nie, déclare, etc. que ...), модальность достоверности (Je sais, vois, entends, etc. que ...), модальность вероятности (Je suppose, doute, crois, etc. qu'il est malade; Il est malade probablement; Il est peut-être malade, etc.), модальность, связанная с выражением чувств адресанта (Je me réjouis, me désole, suis surpris, etc. qu'il vienne; Heureusement, il est venu; Il n'est pas venu, hélas! etc.).
Однако и само содержание этой категории (понимаемой как отношение адресанта к своему сообщению), и набор способов ее выражения несколько шире, чем об этом пишут в грамматиках. Так, помимо указанных у В.Г. Гака и частично перечисленных здесь ее аспектов, во многих языках, в частности во французском и в русском, существуют особые оценочные значения, накладывающиеся как некая субъективная «добавка» на денотативно-десигнативное содержание высказывания и регулярно выражающиеся наречиями (реже прилагательными). Возьмем две пары фраз:
| la. | Только Петя пришел. Pierre seul est venu. |
1б. | Даже Петя пришел. Même Pierre est venu. |
|
| 2a. | Он только вымыл окна. Il n'a fait que laver les carreaux. |
2б. | Он даже вымыл окна. Il а même lavé les carreaux. |
Номинативное содержание la и 1б, 2a и 2б не одно и то же. 1а. «Петя пришел. Другие не пришли»; 1б. «Петя пришел. Другие тоже пришли»; 2а. «Он вымыл окна. Он не сделал ничего другого»; 2б. «Он вымыл окна. Он сделал также многое другое». Однако 1а и 1б, 2а и 2б различаются еще одним компонентом: 1а. «Я (адресант) ожидал, что другие придут»; 1б. «Я не ожидал, что Петя придет»; 2а. «Я ожидал, что он сделает еще что-то»; 2б. «Я не ожидал, что он вымоет окна». Правда, в некоторых коммуникативных ситуациях точнее было бы не «Я ожидал (не ожидал)», а «мы ожидали «или» можно было бы ожидать», но так или иначе, налицо некий прогноз, исходящий от адресанта или разделяемый адресантом, т.е. коммуникативное содержание. Кроме того, в 2а и 2б есть и чисто субъективная оценка: 2а. «Я считаю, что это мало»; 2б. «Я считаю, что это много». Ср. фразы: 3а. «Он сегодня съел с утра Только два таких ведра» (Маршак) и 3б. «Он сегодня съел с утра Целых два таких ведра». Здесь, пожалуй, единственное различие в том, что в 3а говорящий считает (или делает вид, что считает), что это мало, а в 3б говорящий считает, что это много.
Сходные значения обнаруживаются в словах «уже» и «еще» («еще только»): «Он уже в десятом» — Он в десятом классе, и говорящий считает, что это много; «Он еще только в десятом» — Он в десятом классе, и говорящий считает, что можно было бы ждать большего. Про такие слова говорят, что они имеют в своем значении «модальную рамку» 33. К словам с модальной рамкой относятся также якобы, всего, наконец, но, скорее, хотя, почти 34 и др. (и, естественно, их французские эквиваленты).
Понятие модальной рамки и модальности в целом нам очень пригодится в дальнейшем изложении; в частности, оно окажется совершенно необходимым для понимания сущности и специфики различных форм переданной речи.
§ 13. Целенаправленность высказывания (коммуникативная установка)
Итак, после предпринятого пересмотра в сфере коммуникативного содержания высказывания у нас остается пять аспектов, или категорий: 1) модальность, понимаемая как отношение адресанта к сообщению; 2) целенаправленность высказывания; 3) темо-рематическая структура; 4) эмотивность; 5) социальный аспект высказывания — отношения между партнерами по общению. О темо-рематической структуре (актуальном членении) высказывания мы достаточно говорили в предыдущих параграфах (§ 9 и 11); эмотивность (эмоциональность) высказывания подробно рассматривается в курсе стилистики 35; краткие сведения о структуре французского эмотивного предложения даются также в соответствующем разделе «Теоретической грамматики» В.Г. Гака. Все это дает нам право не касаться здесь этих сторон коммуникативного содержания. Остаются чрезвычайно важный для нас аспект целенаправленности и социальный аспект высказывания.
Целенаправленность высказывания непосредственно соотносит высказывание с деятельностной ситуацией и характеризует реализующийся в нем коммуникативный акт как действие, направленное на адресата и призванное вызвать в нем определенные изменения 36.
Существуют три основных типа целенаправленности, которые соответствуют трем основным коммуникативным типам предложения, выделяемым традиционной грамматикой: предложению повествовательному, вопросительному и побудительному. Однако характер речевого действия может быть уточнен: так, побудительное высказывание может быть просьбой, приказом, требованием, советом и т.д., а повествовательное — предупреждением, напоминанием, жалобой, обещанием и т.п. Интересно, что речевые действия, которые мы совершаем нашими высказываниями, как правило, имеют наименования в естественных языках: сообщать, обещать, спрашивать, приказывать, требовать, предупреждать и т.д. Характер речевого действия, совершаемого высказыванием, нередко называют иллокуцией или иллокутивной, т.е. внеречевой, силой; название, с нашей точки зрения, неточное, потому что обещать, требовать, спрашивать, угрожать и т.п. суть именно или хотя бы преимущественно речевые действия.
С учетом иллокутивного аспекта содержание любого высказывания может быть представлено посредством сложноподчиненного предложения, где главное предложение квалифицирует коммуникативный акт как речевое действие, совершаемое адресантом («Я сообщаю тебе, что ...», «Я спрашиваю тебя ...», «Я прошу тебя ...», «Я предупреждаю тебя, что ...», «Я обещаю тебе, что ...» и т.д.), а дополнительное придаточное описывает референтную ситуацию, т.е. выражает номинативное содержание (такому «вынесению за скобки» поддаются и другие виды коммуникативного содержания, если в исходном предложении последнее выражается иначе, например вводным словом).
В повседневной речевой практике характер речевого действия чаще всего выражается грамматически и интонационно — любое высказывание оформляется либо как повествовательное, либо как вопросительное, либо как побудительное предложение. Однако нередко целенаправленность высказывания получает лексическое выражение — как в искусственном семантическом представлении, о котором мы только что говорили.
— Je t'ordonne d'aller tout de suite chercher une livre de beurre au moulin (Renard).
— Je vous demande votre profession (Aymé).
— Gendarme, je vous promets que vous aurez de mes nouvelles bientôt, de bonnes nouvelles! (Aymé).
Такие употребления глаголов, обозначающих речевые акты, называют перформативными. Их особенность заключается в том, что реализация перформативного высказывания, его произнесение, есть в то же самое время реализация действия; перформатив является своим собственным референтом, обозначает самое себя. Так, когда в загсе (у нас) или в мэрии (во Франции) ведущий церемонию бракосочетания говорит «Объявляю вас мужем и женой», референтная ситуация, описываемая этим высказыванием, заключается в том, что жениха и невесту объявляют мужем и женой. Перформативное высказывание возможно лишь при условии, что субъект перформативного глагола и адресант сообщения — один и тот же человек; поэтому перформативно употребленный глагол обычно бывает в 1-м лице, а его субъект обозначается местоимением «я» или «мы». Второе необходимое условие — настоящее время глагола. Тот же глагол, но в ином времени, дает уже обычное, неперформативное высказывание: «А потом нас объявили мужем и женой и поздравили с законным браком» 37.
Перформативы типичны для социально важных ситуаций, в частности для таких, которые связаны с принятием каких-то обязательств — правительственное заявление, международное или иное соглашение, бракосочетание, присяга, доверенность («настоящим доверяю...» — типичный перформатив) и т.п.; но они нередко возникают и тогда, когда адресант просто считает нужным уточнить или подчеркнуть характер своего высказывания как речевого действия — что он, например, приказывает, а не просит. Однако в скрытом виде, как говорят, в глубинной структуре, перформатив присутствует в каждом высказывании и может быть извлечен на свет при помощи описанной выше процедуры.
Если характер речевого действия выражен лишь в самой общей форме (например, высказывание оформлено как повествовательное предложение), но при этом поддается уточнению с опорой на номинативное содержание и на ситуацию (например, «Не беспокойтесь, я сделаю все, что нужно»), целенаправленность этого высказывания принадлежит его имплицитному содержанию — подтексту. Так обычно бывает, когда высказывание «имеет силу» обещания, угрозы, предупреждения, напоминания и т.п.; фраза Je viendrai может быть и тем, и другим, и третьим, и четвертым (с небольшими и, видимо, необязательными интонационными различиями), и то или иное истолкование ее будет определяться конкретными параметрами коммуникативной ситуации (обещание — если будущий приход адресанта желателен для адресата, угроза — если он сулит ему опасность, и т.д.).
Нередко эксплицитно выраженная иллокуция не соответствует истинному характеру речевого действия, реализуемого в высказывании. Так, например, побудительное высказывание достаточно часто оформляется как повествовательное предложение с глаголом в будущем времени:
— Vous me rapporterez cette feuille demain (Guth).
Еще чаще побуждение реализуется в форме вопроса:
— Voulez-vous nous laisser un instant, mademoiselle Germaine? (Simenon).
— T'as pas bientôt fini? (Block).
Такие способы оформления побудительного высказывания являются обычными, узуальными в современном французском языке, поэтому мы можем считать, что иллокуция находит здесь свое эксплицитное, хотя и не вполне определенное, выражение; истолкование таких высказываний как побудительных, несомненно, поддерживается деятельностной ситуацией, но в большинстве случаев оно возможно и вне контекста. В случае же иных, менее узуальных несоответствий между эксплицитно выраженной иллокуцией и истинной целенаправленностью высказывания последняя вне деятельностной ситуации истолкованию не поддается и должна рассматриваться как часть имплицитного содержания. Некоторые из таких несоответствий будут рассмотрены ниже.
§ 14. Текстовые иллокуции и метатекстовые операторы
Прежде чем закончить разговор о целенаправленности высказывания, скажем несколько слов об одном особом виде иллокуций, характерном для связного текста. Для этого нам придется забежать немного вперед и коснуться вопроса о том, что такое текст.
Очевидно, что если высказывание есть элементарное речевое действие, то связный текст, составленный из некоторой последовательности высказываний и объединенный какой-то общей мыслью, является сложным речевым действием. Текст не просто последовательность высказываний, а сложная иерархически организованная система, где каждое отдельное высказывание подчинено более крупной речевой единице (например, сверхфразовому единству или абзацу), а через нее — тексту как целому 38. Каждое высказывание вступает в определенные отношения с другими (в первую очередь, с соседними) и с текстом в целом, каждое выполняет свою работу, преследует свою цель, подчиненную общей, — как часть единого механизма. И подобно тому как в повседневном устном общении мы постоянно сталкиваемся с высказываниями-вопросами, высказываниями-ответами, высказываниями-обещаниями, высказываниями-угрозами, просьбами, предупреждениями и т.д., которые выполняют свои функции в определенных деятельностных ситуациях, в четко построенном развернутом тексте мы все время имеем дело с высказываниями-аргументами, высказываниями-обобщениями, высказываниями-примерами, высказываниями-заключениями, высказываниями-отступлениями и т.п., которые получают и выполняют эти свои задания в определенных контекстах.
Текстовые иллокуции, как и все прочие, могут остаться имплицитными, в таком случае, читая или слушая текст, мы устанавливаем их мысленно, опираясь на значение фразы и на ее контекст, т.е. на значения соседних фраз, главным образом предыдущих, и на общее направление движения мысли. Как пишет А. Вежбицка, на работу которой мы опираемся в этом параграфе, «в голове вдумчивого слушателя (равно как и читателя. — К.Д.) возникает ... комментарий. Этот комментарий может выглядеть, например, так:
Начинает говорить ...
Сообщает, о чем будет говорить ...
Делает оговорку ...
Переходит к основной теме ...
Напоминает ...
Делает отступление ...
Подчеркивает ...
Повторяет ...
Добавляет ...
Перечисляет ...
Резюмирует ...
Спрашивает ...
Отвечает ...
Подытоживает ...» 39
Но, как пишет далее А. Вежбицка, «комментатором текста может быть и сам автор» 40. Авторский комментарий такого рода нередко использует те же самые иллокутивные глаголы и синонимичные им выражения; вот несколько примеров, извлеченных нами из двух французских книг по лингвистике 41:
1. On pourrait d'abord s'interroger sur ...
2. La réponse est, pour moi ...
3. Revenons en arrière ...
4. Rappelons que ...
5. Avant de donner un aperçu de ..., il nous faut préciser ...
6. ... il nous faut maintenant nous intéresser aux ...
7. Avant d'entrer dans le détail de ..., il convient d'envisager
8. Mon ambition, dans les pages qui suivent, est de montrer ...
9. En résumé, on dira que ...
(Что касается русских примеров, то читатель найдет их в изобилии в этой книге, достаточно, например, обратиться к началу этого параграфа.)
Некоторые из этих выражений (1, 2, 4, 5, 9,) непосредственно входят в состав высказываний, функцию которых они определяют; другие (3, 7, 8, 9) образуют автономные высказывания и формулируют задачу следующего за ними отрезка текста. Но все они несут эксплицитно выраженное коммуникативное содержание: автор текста говорит о своем собственном сообщении. Поэтому А. Вежбицка и называет эти и некоторые иные выражения, характеризующиеся такой же референтной соотнесенностью, метатекстовыми операторами (метатекст — текст о тексте).
Метатекстовые операторы, чье действие распространяется только на то высказывание, в состав которого они входят, часто оформляются не как глаголы, а как выражения неопределенного морфологического статуса, обычно квалифицируемые французскими словарями как locutions adverbiales и (некоторые) как союзы:
| à propos | — вводит отступление от темы («Скажу кое-что другое»); | |
| primo, secundo, tertio en premier lieu avant tout |
} | обозначают порядок при перечислении; |
| autrement ait en d'autres termes c'est-à-dire |
} | выражают эквивалентность («Скажу то же самое иначе»); |
| en général d'une manière générale en somme |
} | обобщение; |
| en résumé donc car |
— вводит резюме сказанного; — вводит следствие; — вводит аргумент 42. |
|
Метатекстовые операторы, как и перформативы, четко демонстрируют деятельностную природу речи, первичность коммуникативного задания по отношению к описываемой ситуации: все, что ни говорится, говорится почему-то и зачем-то; и если мы не понимаем хотя бы второго, т.е. цели высказывания — цели внеречевой или цели, которую преследует данное высказывание как элемент текста, — мы не понимаем и смысла.
§ 15. Конативный аспект коммуникативного содержания высказывания
В предыдущих параграфах мы назвали важнейшие аспекты коммуникативного содержания высказывания, которые находят, хотя и не всегда, свое эксплицитное выражение во фразе. К этому перечню надо добавить еще один аспект — конативный, или контактоустанавливающий. Для того чтобы было понятно, что это такое, достаточно назвать несколько выражений, в которых этот аспект реализуется. Это, например, русские «Эй!», «Послушай (послушайте)», их французские эквиваленты Ecoute (Ecoutez), Dis donc! (Dites donc!) 43, Eh!, интернациональное «Алло!» и другие, функция которых заключается в установлении и поддержании контакта между партнерами по общению.
Они выступают как своего рода конверсивы 44 исходного глагола речи «говорить, сказать» в его перформативном употреблении, недаром в них так часто фигурируют глаголы écouter и entendre: Je vous écoute, Vous m'entendez?, Je vous entends bien (mal). К ним можно отнести также Vous me comprenez?, Je vous comprends, Je ne vous comprends pas, Je ne vous suis pas (в значении Je ne vous comprends pas), которые служат для проверки наличия контакта и сигнализируют контакт или его отсутствие уже не на физическом (акустическом) уровне, а на уровне понимания.
К контактоустанавливающим средствам языка относятся также обращения. Их основная функция заключается в том, чтобы привлечь внимание нужного собеседника, сигнализировать ему свое желание вступить в контакт. Правда, наряду с контактоустанавливающей функцией, обращения выполняют еще одну: они выражают отношение адресанта к адресату — социальное (ролевое) и (или) личностное (ср.: Monsieur le Président и mon petit, mon chou, mon rat и т.п.) 45. Однако отношение к адресату — это, строго говоря, функция выбора обращения: ведь одного и того же человека, теоретически рассуждая, можно назвать самыми разными способами, и, обращаясь к нему официально — Monsieur le professeur!, — мы тем самым подчеркиваем, что видим в нем прежде всего носителя определенного и достаточно высокого социального статуса, а говоря ему Mon cher Jean, рассматриваем его как человека близкого, «своего», и хотим общаться с ним на уровне личностей. Очевидно, что выбор обращения характеризует уже стиль высказывания, и значимость этого выбора относится к стилистической информации, которая рассматривается в курсе стилистики; мы скажем о ней лишь несколько слов в следующем параграфе.
Но так или иначе, в обеих своих функциях обращение всецело принадлежит коммуникативному аспекту высказывания и никак не связано с его номинативным содержанием. Отсюда известные трудности с определением его синтаксического статуса и, в частности, спорный вопрос, является ли обращение членом предложения. Действительно, оно плохо вписывается в классический набор, состоящий из подлежащего, сказуемого и т.д., так как этот набор приспособлен в первую очередь для того, чтобы анализировать «пропозицию» — ту часть предложения, которая непосредственно выражает номинативное содержание, описывает референтную ситуацию.
Впрочем, такие трудности возникают и применительно ко многим другим типичным носителям коммуникативного содержания высказывания — таким, как слова с «модальной рамкой» («тоже», «даже», «уже», «еще» и т.п.), метатекстовые операторы типа à propos, en premier lieu, autrement dit, en général и др., а также вводные слова к выражения, несущие модальность; все они не только кажутся, но и являются инородными телами в предложении. Эта инородность лишний раз демонстрирует реальность разграничения коммуникативного и номинативного содержания высказывания и наводит на мысль, что нам удалось более или менее правильно наметить общие контуры каждой из сфер.
На этом мы закончим раздел, посвященный эксплицитному коммуникативному содержанию высказывания. У нас, правда, остался нерассмотренным еще один аспект коммуникативного содержания — аспект социальный. Им мы займемся несколько позже, так как информация о социально-ролевых отношениях коммуникантов в основном является имплицитной; те же собственно языковые средства, которыми она располагает, в первую очередь способы номинации адресата, различные варианты побудительного высказывания (от просьбы до категорического приказа) и разного рода формы вежливости, следует рассматривать как средства стилистические, значимость которых имеет особую, коннотативную природу. Эти проблемы специально изучаются в курсе стилистики языка.
§ 16. Стиль как характеристика высказывания
Итак, мы рассмотрели два основных пласта значения высказывания: эксплицитное номинативное и эксплицитное коммуникативное его содержание. Они в совокупности отвечают на вопросы, о чем, что именно и с какой целью сообщается в высказывании, каково отношение адресанта к сообщаемому факту, как оценивается степень вероятности последнего. Однако для самого адресанта, равно как для адресата и наблюдателя, бывает весьма существенным еще один вопрос: как все это сообщается, какими словами?
Как известно, в естественных языках одно и то же или почти одно и то же номинативное содержание практически всегда можно выразить по-разному, причем явные параметры коммуникативного содержания (такие, как целенаправленность и общая модальность) тоже могут остаться при этом относительно неизменными. В результате каждый раз, когда мы хотим сказать или написать что-нибудь, мы обязательно должны осуществить отбор; из ряда возможностей, которые нам предоставляет язык для выражения данного содержания, мы выбираем какую-то одну — строим предложение с определенной грамматической структурой и определенным лексическим наполнением. И то, что данное содержание выражено так, а не иначе, придает высказыванию особое свойство, называемое стилем.
Разные по стилю и как будто идентичные по содержанию высказывания все-таки имеют и содержательные различия — иначе адресанту было бы решительно все равно, как сказать, а адресату — все равно, как сказано. То содержание, которое несет стиль, целиком относится к коммуникативному содержанию высказывания, в первую очередь к его социальному аспекту, о котором мы упомянули в предыдущем параграфе.
Но стиль выражает это содержание особым способом, не так, как это делают слова и грамматические средства языка, не прямо, а косвенно. Ю.С. Степанов справедливо замечает, что слово «морда», грубое и просторечное, если оно употреблено применительно к человеческому лицу, в обычном употреблении этих значений лишено: лошадиная или собачья морда — выражения нейтральные и вполне литературные 46. Грубость, просторечность, фамильярность и прочие стилистические значения возникают только при употреблении данного слова для обозначения данного понятия. В этом суть явления коннотации: носителем коннотативного значения (частным случаем которого является значение стилистическое), т.е. коннотативным означающим, выступает обычный языковой знак в целом, в единстве означающего и означаемого. Это можно проиллюстрировать следующей схемой:

По отношению к обычному, как говорят, денотативному знаку, коннотативный знак является, таким образом, вторичным — он как бы надстраивается над ним. Что касается коннотативного (стилистического) означаемого, то оно существенно отличается от значений большинства первичных языковых знаков, во-первых, тем, что направлено не на референт, находящийся вне высказывания, в объективном мире, а на сам коммуникативный акт («морда» ≠ «некрасивое, страшное, противное лицо», а «морда» = «говорю грубо и фамильярно «лицо»), что, впрочем, характерно для коммуникативного содержания вообще; но, во-вторых, даже среди коммуникативных значений коннотативные отличаются зыбкостью, так сказать, неполной уловимостью: пытаясь сформулировать их словами, каждый раз испытываешь некоторую неудовлетворенность — они плохо поддаются вербализации. Коннотации — это все-таки другой язык, не только по технике выражения, но и по характеру содержания.
Вот по этим причинам мы будем рассматривать коннотативное содержание как имплицитное. Конечно, применительно к стилистической информации в этом есть некоторая натяжка, поскольку она все-таки имеет свой план выражения — первичные, денотативные знаки естественного языка. Но, как будет показано ниже, коннотации отнюдь не сводятся к стилистике — они возникают и на таких уровнях речи и поведения вообще, которые уже никак не привязаны к языковым формам. Самым правильным, вероятно, будет считать стилистическую информацию переходной формой от эксплицитного содержания к имплицитному. Но поскольку эта информация, как правило, комбинируется с другой, тоже коннотативной, но уже явно имплицитной, нам удобнее рассматривать их совместно в разделе, посвященном имплицитному содержанию высказывания.
Итак, эксплицитное номинативное содержание высказывания, складывающееся из двух пластов — денотативного и десигнативного, эксплицитное коммуникативное содержание, представленное рядом аспектов, и, наконец, стиль — вот те уровни, которые образуют непосредственную данность высказывания как речевого образования и являются психологически значимыми для рядовых носителей языка (не лингвистов и не преподавателей словесности); все же остальное, в частности, грамматическая структура высказывания, — дело языковой техники и в нормальных условиях, при общении на родном языке, не осознается ни адресантом, ни адресатом.
К этим трем уровням можно добавить еще четвертый, важный для устного непосредственного общения, — паралингвистические характеристики высказывания (экспрессивная интонация, мимика, жесты). Однако в этой книге мы не будем специально заниматься этой проблематикой.
§ 17. Откуда берется имплицитное содержание высказывания
В принципе можно утверждать, что номинативное содержание высказывания тяготеет к эксплицитности, а коммуникативное — к имплицитности; однако первое никогда не исчерпывается полностью тем, что сказано всеми словами, — всегда хоть что-то остается в подтексте, а второе, как мы видели, тоже имеет свои средства выражения и всегда так или иначе представлено в эксплицитном содержании высказывания (но никогда полностью). Из этого следует, что в имплицитном содержании или подтексте высказывания мы найдем примерно те же уровни, что и в эксплицитном: номинативный, или референциальный, подтекст — какие-то дополнительные сведения о референтной ситуации, описываемой данным высказыванием, или (чаще) о каких-то других, связанных с нею ситуациях, и коммуникативный подтекст — сведения о коммуникативной ситуации, в первую очередь об адресанте. Более того, в подтексте мы найдем даже аналог словесного стиля. Но прежде всего надо понять, откуда вообще берется и как возникает имплицитное содержание высказывания.
Ответить на этот вопрос в самой общей форме можно так: мы сами приписываем высказыванию подтекст, извлекая элементы его из нашего тезауруса.
Представим себе такое высказывание:
«— У Ксении тридцать восемь и девять, звони в неотложку!»
Любой современный горожанин, носитель русского языка, без труда поймет его и оценит как вполне нормальное и логичное. А между тем эта простенькая обиходная фраза содержит в свернутом виде достаточно сложную систему умозаключений: «Температура тела Ксении равна 38,9°; нормальная температура тела ребенка не превышает 37°; более высокая температура есть признак заболевания; следовательно, Ксения больна. Чем значительнее повышение температуры, тем серьезнее заболевание; в данном случае повышение температуры значительно, следовательно, Ксения больна серьезно. В случае серьезного заболевания надо немедленно обращаться к врачу ...» И так далее. Ясно, что ни один нормальный человек не будет изъясняться подобным образом — такая полнота была бы совершенно излишней, поскольку адресат (если он не инопланетянин и не робот) сам знает все, что ему необходимо знать, для того чтобы понять сообщение и соответствующим образом отреагировать на него.
Тезаурус любого умственно сформировавшегося человека не сумма изолированных понятий, а система, элементы которой определенным образом связаны друг с другом, субъективный образ мира, в котором представления и понятия соответствуют объектам и классам объектов и явлений действительности, а связи между понятиями суть отражение связей между этими объектами и явлениями.
Собственно говоря, такие понятия, как форма отражения объективной действительности человеческим сознанием, уже содержат в себе связи между элементами мира, поскольку признаки, образующие понятие о любом объекте или явлении (классе объектов или явлений), всегда определяются относительно каких-то других объектов и явлений. Например, такое понятие, как «судно» характеризуется тем, что любой объект, который мы квалифицируем как судно, является устройством, предназначенным для перевозки людей и грузов по воде, и, как правило, состоит из определенного набора составных частей, таких, как корпус, надстройка, двигатель, руль и т.д. «Отражая существенные признаки, связи и отношения между предметами материального мира, понятия выступают как взаимосвязанные формы мышления, находящиеся в определенных отношениях друг к другу» 47.
Именно потому, что в голове адресата речи имеется не набор разрозненных образов, а более или менее целостная картина мира вообще и референтного пространства в частности, адресант может не стремиться к полноте и строить свою речь в виде, так сказать, пунктирной линии — адресат сам восстановит недостающие звенья, заполнит пробелы 48.
Таким образом, материал для имплицитного содержания высказывания получатель берет из собственного тезауруса, а механизмом возникновения подтекста являются возникающие в его мозгу ассоциации между теми или иными элементами эксплицитного содержания текста и представлениями и понятиями, связанными с ними в действительности и (или) в его субъективной картине мира 49. Из знаний о мире вещей и явлений, внешних по отношению к человеческой речи, мы черпаем референциальный подтекст, из знаний о речи — коммуникативный.
Ясно, однако, что при восприятии эксплицитного содержания высказывания у нас в мозгу включаются не все ассоциации подряд, а лишь те, которые лежат в диапазоне наших интересов, наших деятельностных и познавательных установок, те, которые работают на актуальный смысл (см. выше, § 2).
§ 18. Референциальный подтекст
Связи между объектами и явлениями действительности, фиксируемые человеческим сознанием и закрепляющиеся в человеческой памяти, весьма разнообразны, хотя и сводимы к ограниченному числу логических категорий. Ясно, что классификация этих связей никак не входит в нашу задачу, поэтому мы. достаточно условно разобьем их всего на два больших класса:
1) связи между данным объектом или явлением, а также утверждением о данном объекте или явлении, с одной стороны, и какими-то другими объектами или явлениями, без наличия которых данный объект или явление, равно как и утверждение о нем, были бы невозможны, — так называемые пресуппозиции, или предусловия;
2) все прочие.
Займемся сначала первыми. Когда-то в 20-х годах нашего века, среди петроградских беспризорников бытовала песенка, в которой были такие слова:
Если б не было Китая,
Не было б китайца;
Если б не было трамвая,
Не было бы зайца.
Это очень хороший пример пресуппозиций; действительно, предусловием существования китайцев и, следовательно, любого высказывания о них, является существование страны Китай; то же можно утверждать и относительно зайца, т.е. безбилетного пассажира: его пресуппозицией является существование платного общественного транспорта. Другой, значительно более современный песенный пример эксплицитной пресуппозиции: «Если вы не живете, вам — не умереть». В самом деле, предусловием смерти является жизнь, как развода — брак, а освобождения — несвобода. Такие пресуппозиции иногда называются лексическими — они входят в само значение соответствующего слова (так, невозможно определить значение слова «смерть», не прибегнув к понятию «жизнь»: смерть — прекращение жизни).
Возможны и другие пресуппозиции, не входящие в лексическое значение; так, например, брак предполагает, что жених и невеста достигли брачного возраста, а успешное вождение машины — умение ее водить. Наконец, любое утверждение, как и любой вопрос относительно какого-то объекта или лица, предполагает существование последнего: «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед» или Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe (Saint-Exupéry). Такие пресуппозиции называют экзистенциальными 50 (кстати, мнимые референтные ситуации, о которых мы говорили выше, в § 10, могут быть определены через понятие экзистенциальной пресуппозиции: они характеризуются тем, что экзистенциальная пресуппозиция в отношении темы описывающих их высказываний не выполняется — референт темы не существует).
Легко понять, как на основе разного рода пресуппозиций образуется референциальный подтекст. Если мы читаем в тексте Des fenêtres s'allumaient une à une (Mauriac), из этого следует, что: 1) в том месте, о котором идет речь, были дома или хотя бы один большой дом; 2) в домах были люди (которые зажигали свет); 3) у людей были какие-то источники света; 4) было начало вечера или, наоборот, раннее утро; а также ряд отрицательных пресуппозиций, например, что в этом месте и в это время не было светомаскировки, что люди не боялись зажигать свет, что они не хотели сидеть в темноте и т.п. 51. Правда, если стремиться к точности, то перед каждым таким выводом надо написать: «Адресант считает, что ...», поскольку ведь это он несет ответственность за истолкование референтной ситуации и, следовательно, за пресуппозиции.
Конечно, подобные выводы могут показаться банальными, малоинтересными: само собой разумеется, что если в окнах зажигается свет, то, значит, там кто-то есть, а если герой смотрит на героиню, значит, у него есть глаза. Кому нужен такой подтекст? Но не будем забывать, что все зависит от интересов и потребностей получателя, которые определяются в первую очередь деятельностной ситуацией. Представим себе, что мы читаем о том, как замерзшие, изможденные, голодные люди бродят по лесу; судя по карте, где-то рядом должна быть деревня, но они имеют основание полагать, что в деревне никто не живет. И вдруг — des fenêtres s'allumaient une à une. Это значит, в сущности, что они спасены. Так банальная пресуппозиция становится самым что ни на есть актуальным смыслом.
Приведем еще один, уже не воображаемый, а подлинный литературный пример. В романе У. Фолкнера «Сарторис» один мальчишка, по имени Вирджил Бирд, зная тайну другого, взрослого персонажа, пытается шантажировать его и, в частности, выманивает у него обещание купить ему духовое ружье. Этот другой персонаж под разными предлогами оттягивает покупку. Тогда мальчишка начинает угрожать. А в конце главы сказано: «На следующий день Вирджил Бирд застрелил пересмешника, который пел на персиковом дереве в углу курятника». И мы понимаем, что тот ему все-таки купил ружье, хотя в тексте об этом ни слова не сказано.
Любое повествовательное высказывание, сообщающее о каком-то факте, потенциально несет информацию не только о необходимых предпосылках сообщаемого факта, но также — хотя бы чисто предположительно — о некоторых других явлениях, связанных многообразными связями с тем, о котором говорится в высказывании. Так, из фразы Gaby épouse Loulou мы можем заключить не только то, что они оба достигли брачного возраста и к моменту, о котором идет речь, в браке не состояли (пресуппозитивный референциальный подтекст), но также и то, что они, по всей вероятности, будут жить вместе и что у них, возможно, будут дети (следствия сообщаемого факта); если написано, что X заведует кафедрой в университете, мы имеем все основания предполагать, что он профессор или доцент (на основании типовой связи между функцией и социальным статусом). Такие выводы обычно называют импликациями.
Импликации могут основываться не только на постоянных связях между явлениями, как это имеет место в приведенных примерах, но и на связях окказиональных, возникающих только в данной деятельностной ситуации (в данном контексте). Так, если у персонажей романа — борцов Сопротивления — имеется какой-то условный знак (например, цветок на окне конспиративной квартиры, означающий «Все в порядке, можно заходить»), то одно лишь упоминание о наличии или отсутствии этого знака несет читателю соответствующую информацию.
Насколько принципиальна разница между пресуппозициями и импликациями? Иногда утверждают, что первые направлены назад, в прошлое, а вторые — вперед, в будущее или в настоящее 52. Это верно, если смотреть на вещи с позиции адресанта. Но мы-то должны руководствоваться в первую очередь позицией адресата речи. Для нас важно направление его мысли, его коммуникативно-познавательная перспектива, а не ход мысли адресанта или реальный порядок событий. То, что для адресанта является пресуппозицией, т.е. чем-то само собой разумеющимся и неактуальным, для адресата может быть как раз новым и актуальным; например, адресант между делом сообщает, что X отправился в альплагерь; адресат же считал, что X серьезно болен, и из этого сообщения он делает закономерный вывод, что X совершенно здоров. Но адресант может и специально рассчитывать на такое восприятие пресуппозиционного подтекста, и тогда возникает то, что мы проиллюстрировали выше примером из Фолкнера: автор сообщает не актуальный факт, а какой-то другой, менее важный, по отношению к которому актуальный факт является пресуппозицией.
Таким образом, мы можем обобщить: референциальный подтекст основан на отношении импликации между явлениями: в сознании получателя явление А обязательно или гипотетически имплицирует явление В, А → В, т.е. А выступает для получателя как узуальный или окказиональный знак В; информируя об А, сообщение тем самым имплицитно сигнализирует В. Но для этого необходимо, чтобы В было актуальным для получателя — иначе подтекст не будет воспринят.
Существует и другой, принципиально отличный от этого путь возникновения референциального подтекста. Но о нем будет сказано ниже.
Чрезвычайно существенно еще одно: хотя референциальный подтекст основывается на знаниях получателя о внешнем мире, в его возникновении важную роль играют также знания о речи, в частности, знание общих принципов речевого поведения. Это будет показано в следующем параграфе.
§ 19. Общие принципы речевого поведения
Один из основоположников современной лингвистики Ф. де Соссюр утверждал, что в отличие от языка (langue), который целиком социален и не зависит от воли его носителей, речь (parole) индивидуальна и произвольна. Современное состояние науки о языке и речевой деятельности позволяет утверждать, что это по меньшей мере неточно.
Помимо законов данного языка, существуют прежде всего некие общие принципы, которым должна подчиняться любая речь. Самым общим можно считать тот, в силу которого речь является речью и выполняет те функции, ради которых она существует. Поскольку основной функцией речи является функция коммуникации, этот принцип можно назвать принципом коммуникативности. Что же нужно, чтобы речь удовлетворяла этому принципу? Принцип коммуникативности конкретизируется в четырех более частных принципах, которые легко выводятся из рассмотренных нами закономерностей содержательной структуры высказывания:
1) принцип осмысленности 53; в силу этого принципа каждое завершенное высказывание должно иметь денотат и десигнат, причем как адресату, так и самому адресанту должно быть ясно, о чем и что именно в нем говорится;
2) принцип целенаправленности 54 — каждое высказывание, равно как и организованная последовательность высказывания, должно преследовать какую-то, пусть даже неосознанную, цель;
3) принцип ситуативности 55 — каждое высказывание (последовательность высказываний) должно быть так или иначе связано с ситуацией общения;
4) принцип связности — каждое высказывание, входящее в более крупную речевую единицу (и, в частности, в текст), должно быть связано по смыслу с целым и, как правило, с другими высказываниями, входящими в это же образование; нетрудно заметить, что этот принцип представляет собой, в сущности, конкретизацию принципов 2 и 3 применительно к развернутому тексту.
То, что эти принципы существуют и присутствуют в сознании людей, подтверждается наличием стереотипных речевых реакций на их нарушения, реальные и кажущиеся, либо на их недостаточно ясное проявление: «Ты это о чем?», «De quoi parlez-vous?» (при неясности денотативного содержания); «Что ты хочешь сказать?», «Que voulez-vous dire?» (при неясности десигнативного содержания); «К чему ты это говоришь?», «Что ты хочешь этим сказать?», «Où voulez-vous en venir?» (принцип 2); «Ни к селу, ни к городу!», «А при чем тут рваные калоши?», «В огороде бузина, а в Киеве дядька!», «Quel rapport?» и т.п. (принципы 3 и 4).
К этим четырем принципам можно добавить еще один, уже менее универсальный — принцип правдоподобия: кроме текстов некоторых специально маркированных жанров (волшебная сказка, басня, разного рода фантастика, бытовой анекдот), содержание речи должно соответствовать присущему данной культуре представлению о том, что бывает и чего не бывает в мире 56.
К вопросу о том, какую роль эти принципы играют в процессе восприятия речи, нам еще придется вернуться. Но уже сейчас можно сформулировать общую закономерность: мы все осознанно или неосознанно руководствуемся ими не только, когда сами говорим или пишем, но и когда воспринимаем чужую речь, т.е. мы считаем, что любая речь должна быть осмысленной, целенаправленной, ситуативной, связной и правдоподобной. Ц. Тодоров называет эту нашу установку презумпцией уместности (principe de pertinence) и формулирует ее так: «Если некая речь имеет место, значит, на это есть свои резоны» 57. И когда нам кажется, что речь не удовлетворяет этим принципам, когда из эксплицитного содержания высказывания мы не можем понять, о чем или что в нем говорится или зачем и в какой связи с ситуацией (контекстом) это сказано, мы пытаемся найти ответ на соответствующий вопрос в подтексте (особенно если имеем дело с письменным сообщением и автора нельзя спросить «De quoi parlez-vous?» или «Où voulez-vous en venir?»).
Так, например, читая у Фолкнера о том, что Вирджил Бирд застрелил пересмешника (см. пример из § 18), мы в первый момент не понимаем, зачем, в какой связи писатель сообщает нам этот малозначительный факт, и лишь исходя из презумпции уместности, из того, что какая-то связь с левым контекстом тут должна быть, в следующее мгновение восстанавливаем пресуппозицию: ага, значит, ружье он все-таки получил! Аналогичным образом восстанавливаются и имплицитные иллокуции высказывания, и многое другое, о чем речь пойдет ниже.
§ 20. Жанровые и ситуативные нормы речи как основа коммуникативного подтекста
Помимо названных общих принципов, существует множество частных закономерностей — правил или норм, — регулирующих построение высказываний и текстов в зависимости от характера коммуникативной ситуации. В каждом языковом сообществе, в каждую данную эпоху существует «система норм, дифференцированных применительно к различным признакам речевой ситуации и к другим характеристикам общения» 58. Это значит, что у каждого взрослого члена данного историко-культурного и языкового сообщества есть представления о том, как и о чем он может говорить с тем или иным собеседником в той или иной обстановке и что ему можно сказать, а чего лучше не говорить.
Нормы и правила речи в различных условиях общения определяются в первую очередь взаимообусловленными и взаимодополняющими ролями партнеров — ролевой структурой коммуникации 59. В одинаковых по речевой структуре коммуникативных ситуациях в речи разных людей обнаруживается множество сходных черт: все учителя всех школ России разговаривают со своими учениками если не одинаково, то во всяком случае сходно, и по содержанию, и по стилю, точно так же, как доктора с больными, продавцы с покупателями, деканы со студентами, офицеры с солдатами, служащие справочных «Аэрофлота» с пассажирами, милиционеры с нарушителями правил уличного движения, даже родители с детьми, студенты со студентами (но уже чуть иначе со студентками), даже жены с мужьями. Все научные статьи, кем бы они ни были написаны, в общем похожи одна на другую, как и все учебники, все международные обзоры, все приказы по всем учреждениям, все защитительные речи в суде, все басни, даже все романы — хотя бы настолько, что мы можем в большинстве случаев отличить роман от не романа.
Это вытекает из самого содержания, понятия социальной роли «Под ролью понимается функция, нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную социальную позицию» 60. Главное в понятии социальной роли — это и есть определенная заданность поведения человека, занимающего какую-то типичную для данного общества позицию по отношению к другим людям, обладателям иных позиций, соотнесенных с данной, например, учитель и ученики, муж и жена, начальник и подчиненный, шофер такси и пассажир и т.п. Ролевое поведение регулируется ролевыми ожиданиями и ролевыми предписаниями, т.е. писанными или, чаще, неписанными правилами: учителю полагается вести себя определенным образом с учениками, и каждый учитель знает, что другие знают, как именно, и ждут от него определенного поведения; если же он будет вести себя иначе, не оправдает ролевые ожидания, то навлечет на себя общественное неодобрение, а в особо серьезных случаях и взыскание по службе.
Речь — важный компонент поведения. Но если сущность ролевого поведения в том, что мы ведем себя так, как от нас этого требуют и (или) ждут, то, очевидно, выступая как носители того или иного статуса и играя ту или иную роль, мы, и говорим (пишем) так или примерно так, как от нас этого ждут; «говоря, человек чаще всего бессознательно выбирает вариант, соответствующий его представлениям о том, чего ожидают от его речи слушатели» 61. Так создается система норм, соответствующая «матрице ролей», присущей данному обществу. Каждая такая норма, регулирующая «речевую партию» определенной роли, соответствует тому или иному речевому жанру 62. Мы привыкли говорить о жанрах применительно к художественной литературе — роман, басня, поэма и т.д. Но жанрами, уже речевыми, а не литературными, являются также учебники, научная статья, бухгалтерский отчет, выступления адвоката в суде, воинский приказ, передовая статья в газете и т.п. Более того, речевыми жанрами следует считать и речь врача, обращенную к больному (как и речь больного, обращенную к врачу), и опрос на уроке, и разнос, который замдекана учиняет нерадивому студенту, и разговор влюбленных — словом, все хоть сколько-нибудь типизированные речевые проявления, соответствующие определенным ролям — позиционным, ситуативным и психологическим.
Каждый речевой жанр обычно предполагает определенный канал связи (см. только что приведенные примеры); с изменением канала связи меняется и жанр: доклад на научной конференции — это не то же самое, что статья, а лекция перед студенческой аудиторией строится (или должна строиться) иначе, чем глава из учебника. Сама роль включает в себя основные параметры общения; с изменением параметров коммуникативной ситуации меняется и роль 63.
Наконец, речевой жанр как норма речевого поведения в рамках определенной роли связан со статусом субъекта речи в той мере, в какой сама роль предполагает определенный статус исполнителя: защитником на суде, как правило, выступает профессиональный адвокат, уроки в школе обычно ведут люди с педагогическим образованием, а роль врача тоже чаще всего играет человек с соответствующим дипломом. Однако можно говорить и о статусных (групповых) нормах речевого поведения, не зависящих от ролевых (жанровых) норм, постольку, поскольку в речи большинства носителей того или иного статуса (членов той или иной группы) обнаруживаются какие-то постоянные черты и к их речи обращены определенные ожидания 64. Эти черты проявляются прежде всего в стиле (потому что предметно-логическое содержание больше зависит от ситуации и роли); на этой основе выделяются, в частности, территориальные и социальные диалекты.
Но если мы практически всегда строим свою речь в соответствии с ролевыми (жанровыми), групповыми (статусными) и ситуативными нормами; если, с другой стороны, эти нормы известны хотя бы в общих чертах всем взрослым членам данного социально-культурного и языкового сообщества, то, очевидно, любое порождаемое в естественных условиях речевое сообщение сигнализирует роль, которую играет субъект речи (т.е. жанр, которому принадлежит сообщение), равно как и некоторые другие параметры коммуникативного акта, в рамках которого оно возникло. Как пишет В.А. Звегинцев, «всякое правильное («согласованное») предложение неизбежно несет некоторую (и при этом весьма существенную, разнообразную и огромную) добавочную информацию о тех условиях ... которым оно удовлетворяет. Так и возникает невидимый и неслышимый подтекст у всякого видимого и слышимого «текста» 65.
Таким образом, подтекст, имплицитная «добавка» к языковому значению, — это не только дополнительные сведения о референтном пространстве, но и информация о самом коммуникативном акте, в результате которого сообщение родилось на свет, в первую очередь о социальной роли, принятой адресантом, и о роли, отводимой им адресату, о статусе адресанта, а также о прочих параметрах ситуативной рамки, не известных или недостаточно известных адресату или наблюдателю (точнее, о том, как адресант расценивает эти параметры). И возникает эта информация в силу того, что адресат (наблюдатель) истолковывает некоторые свойства самого сообщения как знаки или сигналы определенной роли, статуса, канала связи — ситуативной рамки в целом.
§ 21. Какие уровни сообщения несут коммуникативный подтекст
В лингвистике считается более или менее установленным, что указанную информацию о важнейших параметрах коммуникативного акта, в частности об отправителе сообщения, несет стиль высказывания как результат осознанного или неосознанного отбора средств выражения из числа имеющихся в языке способов передать то же предметно-логическое содержание (см. выше, § 16). Содержательность стиля основывается именно на том, что одно и то же в языке можно выразить по-разному: воспринимая сообщение, мы сопоставляем реализованную в нем последовательность средств выражения с другими имеющимися в языке способами передать ту же мысль и истолковываем выбор, сделанный субъектом речи, как несущий информацию о его статусе, роли и личностном отношении к сообщаемому и к партнеру по общению 66.
Информация, которую несет стиль, представляет собой, таким образом, ответ на вопрос: что значит, что данное предметно-логическое содержание выражено так, а не иначе? Но такие же или подобные вопросы можно задать и по поводу других уровней сообщения: что значит, что в сообщении речь идет об этом, а не о чем-нибудь другом, о чем мог бы говорить или писать человек (человек вообще или человек, занимающий данную позицию)? Что значит, что о том, о чем говорится, сказано именно это, а не что-нибудь другое, чего можно было бы ожидать?
Совокупность сведений, складывающаяся из ответов на такого рода вопросы (в самой общей форме: что значит, что в данной ситуации данный субъект ведет себя так, а не иначе?), с точки зрения общесемиотической теории и представляет собой коннотативную информацию, о которой мы говорили выше. С этой точки зрения всякое человеческое поведение коннотативно значимо; применительно же к речевому поведению коннотативная информация — это и есть коммуникативный подтекст (точнее, определенный тип коммуникативного подтекста).
Коммуникативный подтекст основывается на регулярной вариативности речи, обусловленной закономерностями ролевого поведения, — на том, что речевые жанры, за которыми стоят социальные роли, и конкретные ситуации общения определяют хотя бы в общих чертах эксплицитное содержание высказывания, а также нормы вербализации, т.е. языкового выражения предметно-логического содержания в целом.
Но не противоречит ли тезис о детерминированности эксплицитного содержания высказывания ролью и другими параметрами коммуникативной ситуации тому, что мы писали в § 8 и 11, а именно, что и выбор референтной ситуации, и ее истолкование, не говоря уже об эксплицитном коммуникативном содержании высказывания, зависят от адресанта, от его коммуникативно-познавательных установок и его отношения к сообщаемому? Противоречия здесь нет, так как в принципе сами эти установки и отношение к содержанию высказывания, равно как и непосредственная целенаправленность последнего, определяются ролью адресанта или по крайней мере согласуются с ней (недаром, разбирая пример, где разные люди высказывались о том, что они видят в аудитории 235, мы квалифицировали каждого по его позиционной роли: преподаватель, студент, работник АХЧ). Конечно, возможны и конфликтные ситуации, когда статусная или позиционная роль диктует одно, а личностные установки другое. Но о таких случаях мы поговорим позже.
§ 22. Коммуникативный подтекст в ролевом общении. Анализ примера
Рассмотрим теперь конкретный отрезок текста и попытаемся ответить — применительно к этому отрезку — на сформулированные выше вопросы, т.е. извлечь из него коммуникативный подтекст.
Rebondissement en cette fin de semaine dans l'affaire des exportations européennes d'acier en direction des Etats-Unis: la R.F.A. renâclant à partager «les sacrifices» avec ses partenaires au sein de la CEE, l'accord conclu au début du mois d'août à Washington risque d'être purement et simplement remis en cause. On se souvient que ce mauvais accord prévoyait une autolimitation à 5,7% par les pays européens de leurs envois en direction du marché américain.
Прежде всего сформулируем денотативное содержание отрывка. Обобщая то, о чем говорится в каждом из трех составляющих его высказываний, мы можем утверждать, что речь здесь идет о проблеме экспорта стали из стран ЕЭС в США. Эта тема могла бы быть затронута в текстах самых различных жанров, от экономического трактата или исторического сочинения до газетной заметки. При этом наш отрывок (как, впрочем, и текст в целом) не излагает конкретного факта, а дает итог, общий смысл множества неназванных конкретных фактов, т.е. описывает некую обобщенную референтную ситуацию (недаром субъектом одного из высказываний выступает целая страна — ФРГ); это типично для текста обзорного, обобщающего характера.
Десигнативное содержание отрывка, которое мы также получаем, обобщая утверждения, содержащиеся в каждом отдельном высказывании, сводится к тому, что отношения между ЕЭС и США снова обострились. Из десигнативного содержания отрывка в целом и из прямой оценки соглашения, предусматривающего сокращение европейского экспорта в США (ce mauvais accord), можно заключить, что автор осуждает подчинение стран ЕЭС американскому диктату и является, следовательно, человеком левых убеждений.
Возможной характеристикой развернутого сообщения является также его внутренняя логика, связи между составляющими его высказываниями, что относится к коммуникативному содержанию (см. выше, § 14), но без чего невозможно воспринять номинативное содержание целого. В нашем отрывке первое высказывание представляет собой общее утверждение, резюмирующее содержание всего абзаца; второе после двоеточия — конкретизацию этого утверждения, а третье — напоминание: адресант напоминает адресату то, без чего невозможно адекватное понимание предыдущего высказывания. Такая структура также характерна для большого числа речевых жанров, в том числе и для газетных.
Наконец, очень существенным в содержании анализируемого отрывка является то, что референтная ситуация четко приурочена ко времени коммуникации — к концу этой недели; очевидно, адресант предполагает, что текст прочтут или услышат теперь же. Это характерно для непосредственного устного общения, а также для текущей периодики — газет, радио, телевидения.
Очень типичным для средств массовой информации является и стиль сообщения: синтаксис, характерный для неспонтанной речи, но при этом не переусложненный, номинативное предложение событийного характера в начале отрывка, насыщенность текста узуальной общественно-политической лексикой и вместе с тем едва ощутимая метафоричность и фамильярность в употреблении глагола renâcler с названием страны в качестве субъекта; характерны и кавычки, в которые заключено слово sacrifices, ими адресант как бы отмежевывается от того, «кто бы в самом деле так говорил», т.е. от убежденных сторонников подчинения Западной Европы влиянию США; в этих кавычках, как и в оценочном слове mauvais, проявляются политические симпатии автора.
Сопоставив все сказанное, можно сделать достаточно определенный вывод: это обзорная статья в левой скорее всего, коммунистической газете, либо политический комментарий обозревателя, выступающего по радио или по телевидению. Верно первое: отрывок заимствован из передовой статьи в «Le Drapeau Rouge», газете бельгийских коммунистов.
Конечно, проведенный нами последовательный анализ четырех уровней сообщения вовсе не обязательно соответствует реальному процессу восприятия коммуникативного подтекста; надо думать, что в простейших случаях, подобных тому, который мы здесь разобрали, этот подтекст воспринимается более или менее автоматически, интуитивно; адресат извлекает его из всех уровней сообщения одновременно. Происходит это благодаря тому, что каждый из уровней несет подтекстовую информацию, хорошо согласующуюся с коммуникативным подтекстом, который извлекается из других уровней. Все они достаточно жестко подчинены нормам жанра, которые регулируют и набор возможных тем (во всяком случае, вероятность появления той или иной темы), и способы их трактовки, и стиль изложения. В результате мы легко, безошибочно и практически мгновенно опознаем данный текст как типичную реализацию определенного, хорошо известного нам жанра, который задает и определенные типы отношения адресанта к сообщаемым фактам (ролевое отношение) 67.
Но так бывает отнюдь не везде и не всегда: коннотативная информация, извлекаемая из различных уровней сообщения, может оказаться сложной, противоречивой, а суммарный коммуникативный подтекст гораздо более разнообразным, богатым и, главное, оригинальным, неповторимым.
§ 23. Ролевое и личностное в общении и в коммуникативном подтексте
Как было показано в предыдущих параграфах, коммуникативный подтекст опирается на общую ролевую и ситуативную нормированность речи: если бы не было норм, регламентирующих как предметно-логическое содержание, так и стиль сообщений, не было бы и коммуникативного подтекста. С другой стороны, если бы правила речевого поведения были жестко определены и всегда соблюдались всеми вполне единообразно, т.е. если в идентичных по основным параметрам коммуникативных ситуациях люди говорили бы и писали одинаково, то каждое сообщение несло бы недвусмысленную и достаточно тривиальную информацию о параметрах коммуникативного акта, в первую очередь о роли адресанта.
Так и бывает в целом ряде жанров деловой и научно-технической речи, в частности, в тех, которые, с одной стороны, четко соотнесены с определенными коммуникативными ситуациями, а с другой — жестко регламентируют речь субъекта, не оставляя ему никакой или почти никакой свободы индивидуальной интерпретации жанровых норм. Если человек уезжает в командировку и хочет, чтобы жена получила его зарплату, он должен прибегнуть к жанру доверенности — никакой другой речевой жанр в этой ситуации использован быть не может; точно так же для получения свидетельства об изобретении необходимо написать патентную заявку. И тот, и другой документ пишется по строго установленным образцам, и любая вольность, любое отступление от образца скорее всего приведет к тому, что текст не выполнит свою задачу: денег не дадут, заявку не примут.
Доверенность, патентная заявка, решение суда, выписка из протокола, рекламация, коммерческое соглашение, трудовой договор, разного рода справки и т.д. и т.п. реализуют чисто ролевое общение — такое, когда адресант и адресат выступают только как носители ролей, а их личностные свойства никого не интересуют. Ясно, что и коммуникативный подтекст здесь достаточно скупой — указание на жанр и стоящую за ним роль — и при этом в значительной степени избыточный, поскольку жанр в такого рода текстах почти всегда назван в заглавии.
Ролевое начало преобладает и в таких сравнительно более гибких жанрах, как научная статья, научный доклад, монография, учебник, судебная речь, информация в газете, на радио или на телевидении и т.д.; о том, каков автор учебника или статьи именно как личность, мы можем более или менее определенно судить лишь тогда, когда он хоть немного, но нарушает жанровую норму или балансирует на грани нормы.
Однако в целом человеческая речевая деятельность жесткой регламентации, к счастью, не поддается, в особенности неподготовленная устная речь.
Во-первых, коммуникативные ситуации бесконечно разнообразны: наряду с типовыми, вполне стандартными ситуациями, которые в общем всеми расцениваются одинаково и однозначно задают определенное речевое поведение, существует множество ситуаций не вполне ясных, поддающихся различным истолкованиям; например, нередки в жизни и многократно обыграны в литературе случаи, когда между партнерами по общению — носителями соотнесенных социальных ролей (начальник и подчиненный, врач и больной, учитель и ученик и т.п.) — в то же самое время существуют и личностные отношения, так что разговор может быть вполне официальным, а может быть и иным. Вообще надо помнить, что коммуникативная ситуация, как и референтная, каждый раз подвергается индивидуальной интерпретации: адресант не автоматически подчиняет свою речь экстралингвистическим параметрам ситуации, а строит ее в соответствии со своим представлением, неизбежно более или менее субъективным, об условиях общения. В результате одна и та же коммуникативная ситуация может расцениваться по-разному: по-разному могут определяться роли (своя роль и роль партнера) и, следовательно, общение может развертываться в рамках различных речевых жанров. То, как в данной коммуникативной ситуации определяется роль и тем самым выбирается жанр (если он не задан вполне однозначно), тоже возможный источник коннотативной информации.
Далее, большинство речевых жанров, реализующихся в устном общении, а также многие письменные жанры, в которых наряду с ролевым началом выражается и личностное, оставляют субъекту определенную свободу индивидуальной интерпретации: в рамках одних и тех же жанров и в общем не нарушая жанровых норм, мы все-таки чаще всего говорим и пишем неодинаково. Это объясняется неоднородностью языкового сообщества, тем, что мы сами неодинаковы, — разные люди обладают разным жизненным и речевым опытом, разным тезаурусом, разным темпераментом, разными социальными, возрастными, образовательными, профессиональными и прочими статусами.
Вообще, за пределами жестко регламентированных жанров тенденция к ролевой стандартизации речи постепенно наталкивается на противостоящую ей тенденцию к индивидуальному своеобразию, поскольку люди не могут общаться только на уровне социальных ролей. Потребность в эмоциональном самовыражении и в эмоциональном воздействии на адресата приводит не только к достаточно широкому индивидуальному варьированию речи в рамках жанровых норм, но порой и к прямым нарушениям последних (подробнее об этом см. ниже.).
§ 24. Индивидуальная норма и внутренняя норма сообщения
Итак, неоднородность языкового сообщества и тенденция к индивидуальному своеобразию приводят к тому, что в большинстве случаев жанровые нормы подвергаются как статусной, так и личностной редакции 68; исполняя, например, роль покупателя в магазине и выступая в соответствующем речевом жанре, любой человек сохраняет в своей речи какие-то черты, свойственные ему и как носителю определенного статуса, и как личности. С другой стороны, речь одного субъекта, выступающего в разных жанрах (в тех, которые допускают определенную свободу индивидуальной интерпретации), обнаруживает, как правило, некоторые постоянные, инвариантные черты. Так, стихи, поэмы, повести, письма и критические статьи Пушкина обладают некоторой постоянной спецификой, не зависящей от жанра, — неповторимым отпечатком личности поэта.
Постоянные свойства или тенденции индивидуальной речи тоже образуют своего рода норму — индивидуальную норму данного субъекта. Конечно, эта норма не носит обязательного характера и часто даже не осознается самим человеком; она существует прежде всего для тех, кто имеет опыт общения с ним, знает его индивидуальную речевую манеру и, следовательно, ждет от него определенного речевого поведения. Но сами эти ожидания бессознательно учитываются субъектом речи и побуждают его не отступать от своей индивидуальной нормы, чтобы поддержать тот образ собственной личности, который уже установился в глазах партнера.
Из этого следует, между прочим, что индивидуальная норма может более или менее существенно меняться при общении с разными партнерами. Но регулярные изменения индивидуальной нормы (например, когда человек с низшими и равными по социальному рангу говорит так, а с высшими, даже в рамках того же речевого жанра, совсем иначе, как будто его подменили) сами входят в понятие индивидуальной нормы: последняя может характеризоваться, помимо всего прочего, большей или меньшей изменчивостью.
То обстоятельство, что жанровые нормы получают в нестрого ролевом общении статусную и личностную интерпретацию, приводит к возникновению внутренней или собственной нормы 69 у каждого сообщения, в котором обнаруживается хоть какое-то своеобразие по сравнению с усредненной, идеальной нормой жанра. Внутренняя норма сообщения лежит на пересечении жанровой, групповой (статусной) и индивидуальной норм и отражает образ адресанта в целом (см. выше, § 2), в котором объединяются и речевые, и статусные, и личностные черты. Забегая вперед, скажем, что внутренняя норма художественного текста отражает так называемый образ автора.
В принципе мы можем уверенно судить о внутренней норме сообщения, лишь дослушав или дочитав его до конца. Однако в большинстве случаев мы стремимся предвосхитить внутреннюю норму с самого начала. И по мере того как мы воспринимаем сообщение (особенно если это развернутый текст), мы корректируем свой прогноз, у нас формируется все более и более четкое представление о внутренней норме текста, о том, чего от этого текста и стоящего за ним автора можно и нужно ждать.
Как разные жанры в целом, так и разные конкретные сообщения характеризуются разной степенью предсказуемого. Чем сообщение ближе к абстрактной, усредненной норме жанра и чем лучше эта последняя известна адресату, тем раньше и точнее устанавливается для него внутренняя норма сообщения, т.е. тем меньше неожиданностей сулит ему текст (см., например, отрывок из газеты, разобранный в § 22). Наименьшей же предсказуемостью характеризуются сообщения, отступающие от жанровых, статусных и ситуативных норм, такие, в которых преобладает личностное начало, а среди них в первую очередь художественные тексты. Их внутренняя норма каждый раз уникальна и неповторима, они-то и несут наиболее богатый и неповторимый коммуникативный подтекст — уже не ролевой, а личностный.
§ 25. Общая схема извлечения подтекста
Если коннотативная значимость речи основана на том, что речь подчиняется жанровым и ситуативным нормам, общим для всех взрослых носителей данного языка, то откуда же берется и как возникает подтекст сообщения, принципиально не подчиняющегося норме или интерпретирующего ее на свой манер? Не случайно В.А. Звегинцев, который, основываясь на широко толкуемом понятии пресуппозиции, приходит к выводам, сходным с нашими (см. выше, § 20), ограничивает действие формулируемого им принципа «правильными», «согласованными» предложениями.
На этот вопрос мы ответим в следующем параграфе, а здесь подготовим почву для ответа, обобщив сказанное выше о коммуникативном подтексте. Представим зависимость между высказыванием и коммуникативной ситуацией в виде следующего равенства:
где В — высказывание, рассматриваемое как совокупность четырех значимых уровней (денотат, десигнат, эксплицитное коммуникативное содержание и стиль), f — знак функции, Ан — адресант, Ат — адресат, PC — референтная ситуация, ДС — деятельностная ситуация, ПСФ — предметно-ситуативный фон, КСв — канал связи и Н — наблюдатель. Равенство означает, что высказывание является функцией ряда аргументов-параметров коммуникативной ситуации.
Конечно, параметры, которыми мы здесь оперируем, не поддаются формализации, тем более что многие из них сами представляют собой сложные многокомпонентные образования (так, например, Ан — это и статус, и роль, и личность, как, впрочем, и Ат; а В — совокупность четырех значимых уровней). Однако такой способ представления удобен в том отношении, что он наглядно демонстрирует зависимость между параметрами коммуникативной ситуации и параметрами высказывания и, главное, возможность найти те или иные неизвестные величины по известным.
Всякая речевая деятельность может быть уподоблена решению такого уравнения — уравнения с п неизвестными, причем для разных людей, занимающих разные позиции в структуре речевого акта, это равенство будет обладать разными наборами известных и неизвестных.
Адресанту хотя бы в общих чертах известно все, что находится в правой части равенства (точнее, он имеет определенное представление обо всех параметрах коммуникативной ситуации); его задача — найти параметры высказывания, т.е. построить сообщение. Как он будет выполнять эту задачу — в строгом соответствии с общепринятой нормой или отклоняясь от нее, — зависит от его коммуникативной компетенции (см. выше, § 1), от избранного им жанра (от того, насколько жанр допускает индивидуальное варьирование), а также от того, возобладает ли в нем ролевое или личностное начало.
Получатель (адресат или наблюдатель) решает обратную задачу: ему непосредственно дано само высказывание, его эксплицитное содержание и стиль, но также, в зависимости от обстоятельств, те или иные параметры коммуникативной ситуации; зная, фигурально выражаясь, формулу задания функции, т.е. закономерные связи между параметрами коммуникативной ситуации и высказыванием, он «вычисляет» недостающие аргументы — те, которые его интересуют.
Именно так в § 22 мы нашли основные параметры коммуникативной ситуации, разбирая отрывок из газетной статьи. При этом мы исходили из заведомо нереалистического допущения, что ни один из этих параметров нам не известен до начала восприятия текста. На самом же деле при любых формах общения в рамках данной культуры и данной эпохи получателю практически всегда известно хоть что-нибудь об обстоятельствах порождения высказывания. Даже тогда, когда мы имеем дело с письменным текстом, нам заранее даны такие характеристики ситуации общения, как канал связи и, главное, жанр, т.е. роль, которую адресант отводит самому себе, и та, которую он отводит получателю. Кроме того, последовательное восприятие развернутого сообщения естественно предполагает знание левого контекста и, следовательно, воплощенной в нем деятельностной ситуации. Так создаются необходимые и в большинстве случаев достаточные условия для извлечения имплицитного содержания: в уравнении всегда есть какие-то неизвестные (в частности, не может быть до конца известен параметр Ан, потому что личность неисчерпаема) и, с другой стороны, того, что известно, обычно хватает для плодотворного поиска.
§ 26. О подтексте несогласованных высказываний
Что же происходит при восприятии «неправильного», не соответствующего норме высказывания? В этом случае уравнение не поддается или не сразу поддается решению, так как параметры высказывания не согласуются с данными о коммуникативной ситуации, которыми располагает получатель; высказывание воспринимается как не удовлетворяющее одному из общих принципов речевого поведения. И тут-то вступает в силу «презумпция уместности» (см. выше, § 19): мы стремимся все-таки найти смысл, преобразовать уравнение таким образом, чтобы оправдать равенство.
Один возможный путь такого преобразования — пересмотр своего представления о коммуникативной ситуации. Покажем это на примере отрывка из романа Р. Вайяна «Бомаск». Филипп Летурно, заместитель директора предприятия по кадрам, встречается с рабочими во время забастовки. Казалось бы, рабочие должны разговаривать с ним если не почтительно, то, во всяком случае, вежливо. Однако:
— Qu'est-ce que tu es venu faire ici? demanda-t-elle.
— A la porte! crièrent plusieurs voix.
— Retourne chez ton grand-père! dit une femme.
— On va le renvoyer chez les Ricains à coups de pied dans le cul, dit un garçon.
Такое обращение с человеком более высокого социального ранга объясняется тем, что забастовщики видят в нем классового врага; при этом они возбуждены и ощущают свою силу, тем более что разговор происходит в помещении стачечного комитета, т.е. на их территории.
Другой возможный путь разрешения видимого противоречия между коммуникативной ситуацией и сообщением — это преобразование левой части уравнения, т.е. пересмотр первоначального толкования эксплицитного содержания высказывания. Возьмем в качестве примера следующее четверостишие:
Je n'avais jamais ôté mon chapeau
Devant personne.
Maintenant je rampe et je fais le beau
Quand elle me sonne (Brassens).
Если отвлечься от того, что это стихи (точнее, песня), сообщение надо признать странным, внутренне противоречивым; второе высказывание противоречит первому, составляющему его левый контекст: если адресант — человек (а именно такова пресуппозиция выражения ôter son chapeau), то как же он может совершать типично собачьи действия — ползать на брюхе и служить, т.е. стоять на задних лапках? Чтобы оправдать и принять сказанное, мы, очевидно, должны истолковать эксплицитное содержание второго высказывания не в буквальном, а в переносном смысле: je rampe et je fais le beau значит «пресмыкаюсь», т.е. «полностью подчиняюсь и стараюсь угождать во всем, как преданный хозяину (точнее, хозяйке) пес».
Конечно, вдумчивый читатель, особенно если он хорошо усвоил курс стилистики, уже понял, с каким широко распространенным явлением мы здесь имеем дело. Да, это метафора. Метафорическое высказывание — частный случай «несогласованного» сообщения, а метафорическое значение, если метафора является хоть сколько-нибудь оригинальной, — частный случай подтекста.
Отсюда важный вывод: неизвестные величины могут быть не только в правой, но и в левой части равенства, в самом высказывании. Так мы снова возвращаемся к референциальному подтексту, но в этом случае он возникает уже на иной основе — на основе сходства между объектом или явлением, обычно обозначаемым метафорически употребленным словом, и объектом или явлением, которое обозначается этим словом в данном высказывании (ср. § 18). Причем референциальный подтекст метафоры не сводится к указанию на какой-то иной, неназванный объект или явление; он включает в себя также приписываемые последнему признаки, которые переносятся на него с узуального референта метафорически употребленного выражения («как преданный хозяину пес» в нашем примере).
Но содержание метафоры этим не исчерпывается: наряду с референциальным подтекстом, она несет и коммуникативный, характеризуя субъекта речи, его эмоциональное отношение к референту и жанр высказывания. Частотность средств словесной образности, и в частности метафор, — один из признаков поэтической речи; с другой стороны, предварительное знание того, что это стихи, существенно облегчает восприятие метафоры, потому что мы готовы к встрече с ней, заранее мобилизуем свой опыт истолкования словесных образов.
Но как же все-таки происходит истолкование «неправильного» высказывания, в частности метафоры? Это одна из тех парадоксальных задач, которые легче решить, чем объяснить, как мы их решаем. В курсе стилистики этот вопрос разбирается достаточно подробно 70. Вкратце можно сказать, что решение находится методом интуитивного подбора: мы знаем, что выражение M имеет обычный референт т, но в данном случае, в данном контексте и в данной коммуникативной ситуации, оно не может иметь этот референт, а имеет какой-то иной, X; очевидно, этот X должен удовлетворять трем условиям: 1) быть в каком-то отношении подобным т; 2) быть способным принять какие-то признаки т и 3) вместе с этими признаками быть уместным, т.е. не только возможным, но и психологически точным, в данном контексте и в данной ситуации. Видимо, в этом процессе решающую роль играет природная склонность человека к ассоциативному мышлению и потенциальное подобие ассоциаций, возникающих у взрослых умственно нормальных людей, особенно если они принадлежат к одной культуре.
Как мы увидим в дальнейшем, подобный подбор, хотя и с определенными отклонениями, имеет место при восприятии всех «неправильных» высказываний.
§ 27. Несогласованность высказывания как фактор подтекста
В некоторых работах высказывается мысль, что подтекст вообще связан с «неправильностями» в речевом поведении. Согласно концепции Ц. Тодорова, имплицитное содержание сопряжено с наличием в тексте каких-то лакун — пропусков, неясностей, противоречий, нарушений каких-то норм; руководствуясь «презумпцией уместности», читатель или слушатель пытается оправдать сегмент текста, содержащий аномалию, найти его скрытый смысл 71.
С нашей точки зрения, как уже говорилось, ведущим моментом в процессе извлечения подтекста являются информационные потребности получателя: поиск начинается тогда, когда получатель ощущает потребность найти какие-то дополнительные сведения о коммуникативной ситуации и (или) о сообщаемом факте (см. выше, § 18). Из этого следует, что носителем подтекста может быть любое сообщение, а не только «несогласованное». Однако потребность найти скрытый смысл действительно может быть спровоцирована лакуной или странностью в самом тексте, тем более что подтекст такого рода часто является преднамеренным и, следовательно, скорее всего актуальным для адресата. Поиск такого подтекста облегчается тем, что подавляющее большинство речевых аномалий встречается главным образом в тех речевых жанрах, которые допускают и даже предусматривают их употребление, — мы видели это на примере метафоры.
Теоретически рассуждая, толкнуть на поиск подтекста способно любое реальное или кажущееся отступление от указанных выше общих принципов и жанрово-ситуативных норм речи, а также любое нарушение норм языка. Однако подавляющее большинство речевых и языковых аномалий являются в какой-то мере системными, кодифицированными и, следовательно, узнаваемыми — отклонения от норм сами подчиняются определенным нормам 72, что опять-таки облегчает их восприятие. Аналогичный эффект может дать и отступление от индивидуальной нормы или от внутренней нормы сообщения, хотя бы оно и являлось при этом возвратом к общей норме. Так, если начальник, который обычно обращается с подчиненными вполне по-свойски, вдруг начнет разговаривать с ними как начальник, подчиненные будут правы, если воспримут это как отклонение, за которым стоит определенный подтекст.
Типовые отклонения от общих норм, несущие подтекст, в принципе поддаются классификации; многие из них можно найти в списках тропов и фигур, которые составляла старая риторика и составляют так называемая неориторика 73 и стилистика, однако многие еще не зафиксированы. Мы не будем ни воспроизводить известные классификации, ни пытаться заполнить имеющиеся в них пробелы, а ограничимся лишь несколькими примерами, по возможности нетрадиционными — не такими, какие можно найти в курсе стилистики.
§ 28. Анализ примеров речевых аномалий
1. 1. Лакуна в тексте — импликация факта.
Plus je vois les hommes, plus j'admire les chiens (Mme de Sévigné).
Фраза может показаться странной, потому что факты, о которых сообщается в высказывании, на первый взгляд, имеют слишком мало точек соприкосновения для того, чтобы между ними можно было установить такую зависимость; она как будто нарушает одновременно принципы осмысленности и связности. Руководствуясь «презумпцией уместности» речи, читатель пытается оправдать это утверждение, найти в нем смысл; он ищет пропущенное звено — неназванный третий факт, который, логически вытекая из первого, в то же время находился бы в заданном отношении ко второму, что-нибудь вроде «... тем больше я нахожу в них недостатков; и чем больше я нахожу недостатков в людях, тем больше я восхищаюсь собаками».
Но достаточно сравнить сконструированный нами полный вариант с исходным, чтобы убедиться, что между ними есть разница, причем не в пользу нашего. Сама краткость авторского варианта, то, что главное передано в нем не «в лоб», а имплицитно, придает ему особую экспрессивность, остроту, парадоксальность и определенным образом характеризует автора, т.е. несет коммуникативный, точнее, личностный подтекст, так сказать, подтекст подтекста. Именно это мы имели в виду в § 16, говоря об аналоге словесного стиля в имплицитном содержании высказывания.
1. 2. Лакуна в тексте — импликация логической связи между высказываниями и (или) сообщаемыми фактами.
Elle ne regardait pas Robert, il était là; elle sentait contre son bras nu l'étoffe du veston (Mauriac).
Невыраженная связь между соседними высказываниями имплицируется самой их смежностью, а характер связи (причина и следствие, посылка и вывод, общее положение и конкретный пример, подобие фактов и т.п.) выводится из описываемых фактов и из коммуникативной ситуации, в частности из более широкого контекста, с учетом жанра, к которому относится сообщение. В приведенном здесь примере второе высказывание (il était là) совместно с третьим выражают причину факта, описываемого первым.
Такого рода лакуны чаще всего не воспринимаются как аномалии — настолько они обычны.
2. 1. Несоответствие высказывания деятельностной ситуации — импликация фактов и цели сообщения.
Роман Эрве Базена «Крик совы» начинается с того, что в дом главного героя, известного писателя и отца многочисленного семейства (повествование ведется от его лица), без всякого предупреждения приезжает его мать, некогда отравившая детство своих сыновей подозрениями, запретами, издевательствами и даже физическими истязаниями. Сын и мать не виделись и не поддерживали никаких отношений более 20 лет. Фраза, открывающая приводимый ниже отрывок, первая, которую мать адресует сыну:
— Et tes crises hépatiques, reprend Mme Rezeau, tournée de mon côté, c'est fini? Remarque, on pouvait les prévoir: je t'ai passé ma vésicule.
L'allusion à ma récente opération est claire et me replonge soudain dans l'atmosphère du clan où il fut toujours de bon ton d'exprimer les choses de façon voilée. Il faut comprendre d'abord: J'ai toujours été au courant du tout. Ce qui implique au moins trois corollaires: 1) J'ai mes observateurs; 2) Je n'ai donc pas cessé de m'intéresser à toi; 3) Tu es seul responsable de notre longue séparation.
Подтекст реплики персонажа точно и полно раскрывается самим повествователем, стоящим за ним автором; нам остается лишь объяснить, как он возникает, и, может быть, кое-что добавить.
Сам факт неожиданного появления мадам Резо диктует вопрос: «Зачем она приехала?». Она не может этого не понимать и, согласно неписаным нормам речевого поведения, должна была бы начать с ответа на него. Но она говорит и вообще ведет себя так, как будто никакого разрыва не было и они расстались месяц назад. Характерно, что об операции, которую перенес сын, прямо даже не говорится, как если бы то, что она знает о ней., было чем-то само собой разумеющимся. Намек на операцию — референциальный подтекст — заключен в вопросе (Et tes crises hépatiques, c'est fini?) и основан на том, что можно назвать пресуппозицией достаточного основания: если говорящий предполагает, что какое-то положение вещей изменилось, значит, он считает, что произошло какое-то событие, которое могло или должно было привести к его изменению. Но главное здесь не имплицитное указание на факт операции — для сына это, естественно, не новость, — а то, что она знает об этом (коммуникативный подтекст). И от этой демонстрации осведомленности в его делах тянется цепочка логических выводов, которые сформулированы в авторском комментарии; это, во-первых, обобщение: раз она знает о приступах и о том, что была операция, значит, она вообще всегда была в курсе его дел; далее, чтобы быть в курсе его дел, нужно, с одной стороны, иметь осведомителей, а с другой — интересоваться его делами, а отсюда последний вывод: «ты один виноват в том, что мы так долго не встречались».
Но независимо от этих импликаций, ее речевое поведение в целом несет вполне определенный коммуникативный подтекст: разговаривая с сыном так, как будто отношения между ними всегда были нормальными, демонстрируя роль «нормальной» матери, она тем самым предлагает сыну установить такие отношения. Об этом говорит несколькими строчками ниже и сам автор: Il у a une heure, si on m'avait décrit cette scène de rabibochage feutré, je l'aurais déclarée impossible. La solution était pourtant bien simple: il suffisait de faire comme s'il ne s'était rien passé, comme si tout était normal depuis toujours.
Так вполне тривиальное на первый взгляд высказывание оказывается нагруженным богатым, сложным и в высшей степени актуальным для партнеров имплицитным содержанием. При этом сама нагруженность высказывания преднамеренным подтекстом выступает как характерная черта образа мадам Резо, т.е. как фактор личностного подтекста (ср. пример 1.1.).
2. 2. Несоответствие высказывания роли адресанта — импликация личностного отношения к собственным ролевым действиям.
В повести Сент-Экзюпери «Военный летчик» командир эскадрильи майор Алиас, вызвав подчиненный ему экипаж, чтобы дать боевое задание, начинает разговор следующими словами:
— Eh bien, voilà ... C'est bien embêtant... C est une mission embêtante. Mais ils y tiennent à l'Etat-Major. Ils y tiennent beaucoup... J'ai discuté, mais ils y tiennent... C'est comme ça.
Статусной и позиционной роли адресанта (старший по званию, командир, дающий боевое задание подчиненным) противоречит в первую очередь коммуникативное содержание высказывания (полное отсутствие эксплицитной побудительности), а также стиль: майор говорит в общем о том, о чем и должен говорить (за исключением, может быть, фразы J'ai discuté, mais ils y tiennent), но не совсем то и не так, как это предписывается ролью; его речь, скорее, соответствует иным ролевым отношениям, при которых не приказывают, а просят. Однако здесь, в отличие от ситуации, представленной в 2.1., изменить роли нельзя, командир остается командиром, а приказ, даже сформулированный как просьба, приказом. Следовательно, отступление от ролевой нормы может быть истолковано лишь как выражение личностного отношения к тем действиям, которые субъект вынужден совершать в соответствии с ролевыми предписаниями: майору стыдно и горько посылать людей на верную смерть ради сбора никому не нужных разведывательных данных, но он не может иначе; именно это он и дает почувствовать своим подчиненным.
2. 3. Несоответствие эксплицитной иллокуции (целенаправленности) высказывания деятельностной ситуации — импликация подлинной целенаправленности.
Подобную аномалию уже продемонстрировал предыдущий пример. Приведем здесь еще один, более сложный. В повести Ж. Ренара «Рыжик» есть такая зарисовка (воспроизводим ее полностью):
Il (Poil de Carotte) sert de trait d'union entre son père et sa mère. M. Lepic dit:
— Poil de Carotte, il manque un bouton à cette chemise.
Poil de Carotte porte la chemise à madame Lepic, qui dit:
— Est-ce que j'ai besoin de tes ordres, Pierrot?
Mais elle prend sa corbeille à ouvrage et coud le bouton.
Фраза отца формально является повествовательной; однако простая констатация того факта, что на рубашке не хватает одной пуговицы, в речи, обращенной к сыну, не имела бы никакого смысла — принцип целенаправленности оказался бы нарушенным, — и сын совершенно правильно истолковывает высказывание как скрыто побудительное: «отнеси рубашку матери, пусть она пришьет пуговицу».
Случаи, подобные этому, можно обобщить и сформулировать правило: высказывание, сигнализирующее какую-то «недостачу», т.е. обозначающее ситуацию, которая может быть воспринята как ненормальная, не соответствующая потребностям адресанта, адресата или третьего лица, интерпретируется как просьба или требование совершить действие, устраняющее эту ситуацию, если соблюдены следующие условия: 1) адресат тоже расценивает описываемую ситуацию как ненормальную, нежелательную; 2) сам адресант физически не может или не считает для себя возможным в силу иных причин совершить необходимое действие; 3) адресат может совершить необходимое действие, по крайней мере, по мнению адресанта; 4) отношения между коммуникантами таковы, что адресант имеет моральное право просить адресата или требовать от него совершить необходимое действие 74.
Как видно из примеров, отклонения от речевого стандарта обычно совершаются по определенным образцам. Отступая от ролевой и ситуативной нормы, человек строит свое речевое поведение в соответствии с нормами какой-то другой роли или ситуации (примеры 2.1. и 2.2.), а лакуны в тексте часто вообще не воспринимаются как отступления от норм в силу привычности и стандартности (пример 1.2. «а» и «b»), так же как и «неправильные» иллокуции (примеры 2.2 и 2.3.). Все рассмотренные случаи обнаруживают и нечто общее в механизме восприятия подтекста: всюду имеет место более или менее интуитивный подбор того содержания, которое, с точки зрения получателя, было бы уместно в данной коммуникативной ситуации и в данном контексте.
Количество примеров и, соответственно, типов речевых аномалий, несущих подтекст, можно было бы умножить; кроме тропов и фигур, описываемых в пособиях и монографиях по стилистике и поэтике, сюда можно было бы добавить разнообразные расхождения между высказыванием и другими параметрами коммуникативной ситуации, такими, как адресат (допустим, человеку объясняют что-то такое, чего он явно не поймет, — зачем?), предметно-ситуативный фон (например, во время пожара кто-то кому-то говорит комплимент — чтобы успокоить?), канал связи (в телеграмме отправитель не опускает предлоги и артикли), наблюдатель (в присутствии третьего лица адресант сообщает адресату что-то такое, что обычно говорят только с глазу на глаз). Но, как уже говорилось, наш набор примеров не претендует на полноту — нам важно было продемонстрировать саму возможность извлечения подтекста из «несогласованных» высказываний, зависимость имплицитного содержания высказывания от представления получатель о параметрах коммуникативной ситуации, а также прямую связь понятия подтекста с такими хорошо известными явлениями, как тропы и фигуры, которые представляют собой частные случаи обширной категории речевых аномалий (эта идея хорошо согласуется с понятием эффекта обманутого ожидания, выдвинутым для объяснения различных особенностей художественной речи 75).
§ 29. Имплицитное содержание высказывания: некоторые итоги
Итак, практически каждое высказывание несет как референциальный, так и коммуникативный подтекст.
Референциальный подтекст обычно возникает из наших знаний о мире вещей и явлений, внешних по отношению к человеческой речи, во всяком случае, внешних по отношению к данному речевому акту; однако актуальным для получателя его делают знания о речи и о говорящем человеке — те, которые лежат в основе коммуникативного подтекста.
Референциальный подтекст основывается либо на сходстве объектов и явлений, либо на иных отношениях между ними, в силу которых одно явление имплицирует в сознании получателя другое или другие; эти иные отношения типа причинно-следственного, родовидового, предпосылки и самого явления, явления и его признака и т.п. иногда называют отношениями смежности — в расширительном смысле этого слова. Первый тип отношений обнаруживается в метафоре (а также в сравнении, аллегории, отчасти в гиперболе и литоте), а второй — в метонимии, но не только в ней.
Имплицитное содержание, возникающее на основе сходства, отличается от импликаций, основанных на смежности, тем, что оно отменяет и заменяет эксплицитное значение (хотя и заимствует у него некоторые признаки), тогда как вторые сохраняют его в силе (чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить пример метафоры, разобранный в § 26, с любым из примеров, приведенных в § 18).
Как показывает наш материал, коммуникативный подтекст также имеет двойственный характер, но эта двойственность уже иного рода. Здесь, с одной стороны, выделяется подтекст, относящийся только к данному высказыванию, отражающий отдельные аспекты его коммуникативного содержания, не нашедшие своего адекватного эксплицитного выражения, а с другой — имплицитное содержание, как правило, общее для последовательности высказываний, часто для целого текста, характеризующее коммуникативную ситуацию в целом. Коммуникативный подтекст первого рода мы назовем частным, а второго — общим. Частный коммуникативный подтекст отвечает на вопросы, с какой целью (примеры 2.3. и отчасти 2.1. из § 28), в какой связи с контекстом (пример 1.2.) и с каким личностным отношением к сообщаемому факту (пример 2.2.) реализуется данное высказывание, а также какими сведениями о референтной ситуации располагает адресант (пример 2.1). Он опирается на общие принципы речевого поведения.
Общий коммуникативный подтекст отвечает прежде всего на вопрос, какую роль играет и какую роль отводит адресату адресант, иначе говоря, как он расценивает коммуникативную ситуацию и себя в ней, и, с другой стороны, как он выглядит в глазах получателя в свете всей той информации, эксплицитной и имплицитной, которую он сообщает о референтной ситуации, о коммуникативной ситуации и о себе в данном акте общения. Общий коммуникативный подтекст опирается на жанрово-ситуативные нормы речи и возникает как коннотативная информация (см. выше, § 15 и 21). Этот подтекст присутствует в любом высказывании; из наших примеров он представлен наиболее ярко в 1.1., в 2.1. и в метафоре из § 26, где он носит преимущественно личностный характер; ролевой коммуникативный подтекст был продемонстрирован в § 22.
Разного типа речевые аномалии (включая в это понятие традиционно выделяемые тропы и фигуры) выступают как катализаторы подтекста, поскольку буквально прочитанное эксплицитное содержание «неправильных» высказываний представляется получателю недостаточным и (или) неуместным, а иногда и прямо абсурдным.
В целом подтекст представляет собой чрезвычайно важный компонент речевого смысла. Это не привилегия художественной литературы (хотя в художественной литературе подтекст играет особую роль); имплицитное содержание пронизывает всю речевую коммуникацию, полное и подлинное понимание любого сообщения предполагает «решение уравнения», т.е. построение модели того коммуникативного процесса, в ходе которого это сообщение явилось на свет, так как нельзя говорить о понимании, если мы не знаем, кто, кому, где, когда и зачем говорит или пишет то, что мы слышим или читаем. Подтекст необязательно является смыслом высказывания, но без подтекста нет смысла.
Глава II
СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
§ 30. Как можно описать своеобразие речевого жанра
Для того чтобы попять специфику литературно-художественных текстов, необходимо определить место, которое они занимают среди других речевых жанров и классов жанров. Очевидно, для этого нужно попытаться выявить и систематизировать те основные, глубинные различия, которые существуют между сообщениями различной жанровой отнесенности, т.е. признаки, характеризующие не конкретную тематику тех или иных текстов, а общие свойства референциального содержания и коммуникативной направленности, присущие жанрам или группам родственных жанров.
Ясно, что эти признаки должны основываться, с одной стороны, на выявленных нами аспектах самого содержания высказывания, а с другой — на основных параметрах коммуникативной ситуации, на том, как сообщение соотносится со своим адресантом, адресатом и каналом связи.
В соответствии с лингвистической традицией для получения логически непротиворечивой схемы мы представим основные различия между речевыми сообщениями в виде бинарных дифференциальных признаков, каждый из которых может принимать два значения и делить все множество сообщений на два подмножества, противопоставленные только по этому признаку; таким образом, каждый речевой жанр и каждое конкретное сообщение будет характеризоваться совокупностью присущих ему значений всех дифференциальных признаков, занимая пересечение всех подмножеств, задаваемых этими значениями.
Конечно, в ряде случаев между жанрами и отдельными сообщениями имеет место не категорическое противопоставление по принципу «или — или» (строгая дизъюнкция), а противопоставление типа «больше — меньше» (градуальная оппозиция). Кроме того, одно и то же развернутое сообщение может совмещать в себе противоположные значения одних и тех же признаков, например, начало текста строго рационально, а конец — эмоционален.
Однако такого рода факты не могут поставить под сомнение сам принцип описания жанров и отдельных сообщений при помощи дифференциальных признаков. Всякая схема упрощает; упрощение при схематизации неизбежно и, более того, необходимо для того, чтобы разобраться в сложности и многообразии конкретных объектов. Описывая речевые жанры при помощи бинарных дифференциальных признаков, надо ориентироваться на типичное для жанра значение каждого признака; например, научная статья, как правило, лишена эмоциональности; если же в какой-то конкретной статье, которую мы анализируем, явственно обнаруживаются авторские эмоции, соответствующий дифференциальный признак даст нам возможность отметить это ее своеобразие. Затем ничто не мешает нам в необходимых случаях указывать меру интенсивности того или иного признака; например, информация в ежедневной газете и обзор событий в еженедельной суть жанры актуальные, но актуальность, привязанность к моменту речи у первого выше, чем у второго. Наконец, при необходимости можно вводить и дополнительные дифференциальные признаки, уточняющие или дополняющие те, что здесь даются, приводимый нами список, отнюдь не является закрытым.
§ 31. Дифференциальные признаки сообщений различных речевых жанров
В соответствии со сказанным в предыдущем параграфе мы выделим четыре группы признаков; признаки, связанные с адресатом, с адресантом, с самим сообщением и с каналом связи (а также с внешними условиями общения).
I. Признаки, связанные с адресатом.
1. Адресованность сообщения определенному лицу (лицам) или носителю (носителям) определенной роли (определенных ролей)/ отсутствие персональной адресованности — сообщение предназначается «всем, всем, всем» или большой нечетко заданной группе лиц 1, например, студентам филологических факультетов и факультетов иностранных языков. Так, частное письмо отличается по этому признаку от учебника.
2. Актуальность — сообщение связано с данным моментом/установка на долговременное пользование. Например, различного рода газетные материалы и, с другой стороны, историческое сочинение.
3. Сообщение обслуживает какую-то определенную неречевую (не только речевую) деятельность адресата/сообщение явно не связано с определенной неречевой деятельностью адресата. Например, учебник или инструкция и роман или «задушевный разговор» 2.
4. Предписывающий характер/отсутствие предписывающего характера 3. Например, инструкция и лирическое стихотворение.
II. Признаки, связанные с адресантом.
1. Адресант — конкретный субъект, говорящий (пишущий) от своего лица/адресант говорит или пишет от имени группы (например, редакционная статья в газете и т.п.) или всего общества (законодательные акты). Этот признак дает градуальную оппозицию: кроме явных, типичных случаев, здесь имеют место переходные; так, например, автор или авторы учебника по математике говорят не столько от своего имени (хотя их фамилии указаны на титульном листе), сколько от имени науки. Во французских работах по лингвистике речи этот признак обычно называют distance, имея в виду «дистанцию между адресантом и сообщением» 4.
2. Преимущественно ролевой/преимущественно личностный характер сообщения. В первом случае адресант выступает в основном или исключительно как носитель роли, а во втором — главным образом как личность (хотя и в рамках какой-то роли). Например, диалог пассажира со служащей справочной и любовное письмо. Признак также имеет градуальный характер.
3. Спонтанность / неспонтанность сообщения 5. Например, обычный разговор с хорошо знакомым человеком или неподготовленное заранее интервью и доклад на конференции или статья.
III. Признаки, связанные с самим сообщением (его содержанием и структурой, внутренней и внешней).
1. Абстрактность / конкретность содержания 6. Этот признак показывает, идет ли речь об отвлеченных предметах или о конкретных вещах и лицах. Например, текст закона и судебный очерк. Признак имеет градуальный характер — часто встречаются абстрактные тексты с конкретными примерами и, наоборот, тексты, описывающие конкретный материал, но содержащие обобщения.
2. Аргументативный / представляющий характер сообщения 7; иначе говоря, преобладают ли в сообщении доказательства каких-то положений или же простое описание референтного пространства (либо изложение каких-то событий). Например, доказательство теоремы в учебнике и пейзаж в романе. На этом признаке основано традиционное противопоставление рассуждения, с одной стороны, описанию и повествованию — с другой.
3. Референциальное содержание сообщения развертывается в пространстве (физическом или логическом) / референциальное содержание развертывается во времени 8. На этом признаке основывается традиционное противопоставление описания и повествования. В качестве примера можно привести любое описание — пейзажа или устройства холодильника, где последовательно сообщается о предметах, существующих одновременно и расположенных в определенном пространственном порядке, — и кульминационную сцену приключенческого романа, содержанием которой является последовательность действий, совершающихся в одном месте.
4. Референтность/нереферентность сообщения; признак показывает, отражает ли сообщение реально существующее референтное пространство (материальное либо идеальное), или же отражаемое им референтное пространство относится к числу фиктивных, несуществующих. Об этом мы писали выше, в § 10. Там же примеры.
5. Эмоциональность / неэмоциональность сообщения 9. С этой точки зрения четко противопоставляются, например, бытовая разговорная речь (особенно при общении со «своими») и официальные документы.
6. Наличие внутренней структуры /отсутствие явной внутренней структуры 10. Например, официальный документ, научная статья, стихотворение и т.п., с одной стороны, и бытовой разговор без определенной (осознанной) цели и без определенной темы — с другой. Ввиду важности и сложности этого признака ему будет целиком посвящен следующий параграф.
7. Заданность объема (по минимуму и (или) по максимуму)/незаданность объема законченного сообщения. Так, например, научный текст объемом в 10 страниц называется статьей, а объемом в 200 страниц — монографией; статья ограничена в объеме по максимуму, а монография — по минимуму (хотя сказать точно, где кончается статья и начинается монография, вряд ли можно). Точно так же басня ограничена в объеме по максимуму (она не может быть длинной, иначе это уже не басня), а роман — по минимуму (он не может быть слишком коротким, иначе это уже не роман, а повесть или рассказ). С другой стороны, есть жанры, не связанные такими ограничениями, так, бытовой разговор может ограничиваться одним диалогическим единством, т.е. состоять из одного вопроса и одного ответа, а может растянуться на несколько часов.
IV. Признаки, связанные с каналом связи и внешними условиями общения.
1. Сообщение реализуется в устной/письменной форме. Этот признак не требует пояснения; скажем лишь, что он не совпадает с признаком II.3 (спонтанность / неспонтанность), так как если все письменные сообщения действительно неспонтанны, то далеко не все устные спонтанны, например заранее подготовленная речь.
2. Диалогичность/монологичность сообщения. Если партнеры по общению поочередно занимают позиции адресанта и адресата, мы имеем диалог; если же позиции закреплены за партнерами — монолог.
3. Контактность / дистантность общения. Адресант и адресат либо находятся в непосредственном контакте, либо разобщены в пространстве. Общение посредством печатного слова практически всегда дистантно; дистантностью характеризуются также радио- и телепередачи, телефонные разговоры и т.п.
4. Одновременность отправления и восприятия сообщения/отправление и восприятие разобщены во времени. Например, обычный разговор или лекция (а также радиопередача, если она не записана заранее на пленку) и любой или почти любой письменный текст, а также записанная на пленку устная речь, если она воспринимается не в момент записи, а при последующем воспроизведении.
Итак, у нас получилось всего 18 дифференциальных признаков. Некоторые из них связаны друг с другом так, что между их значениями обнаруживаются как бы взаимные тяготения и отталкивания. Так, например, диалогичность плохо согласуется с письменной формой реализации; дистантность и письменная форма обязательно предполагают монологичность и разобщенность во времени, но обратное не верно: разобщенность во времени и монологичность могут характеризовать и устное сообщение (речь, записанная на пленку); если адресант говорит от имени группы, его речь обязательно носит строго ролевой характер (хотя строго ролевым может быть и сообщение, исходящее от персонализированного адресанта) и т.д. и т.п.
На этой основе можно выделить большие группы или классы родственных в том или ином отношении речевых жанров, например, таких, которые характеризуются одновременно письменной формой, монологичностью, дистантностью, разобщенностью во времени отправления и восприятия, а также абстрактностью, аргумеитативностью, отсутствием эмоциональности, отсутствием персональной адресованности, неспонтанностью, логической построенностью; в этот класс войдут в первую очередь всевозможные научно-технические тексты. Диалогичность, устная форма, отсутствие явной логической структуры, незаданность объема, эмоциональность, личностный характер, конкретность характеризуют в известном смысле противоположный класс — класс сообщений, составляющих так называемую разговорную речь.
Какие же признаки характеризуют литературно-художественные тексты?
Но прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться к признаку III.6, характеризующему сообщение по наличию / отсутствию явной внутренней структуры, так как он чрезвычайно важен для интерпретации текстов вообще и художественных в частности.
§ 32. Внутренняя структура сообщения
Эта проблема была уже бегло затронута выше, в § 14, в связи с так называемыми текстовыми иллокуциями. Мы говорили в этом параграфе о том, что связный текст, объединенный какой-то общей мыслью, является сложным речевым действием, иерархически организованной системой, где каждое высказывание прямо или опосредованно (через более крупные речевые единицы) подчинено целому. Так вот, говоря здесь о сообщениях, характеризующихся наличием более или менее четкой внутренней структуры, мы имеем в виду именно такие тексты. Можно вообще условиться называть текстами только такие сообщения, тогда вместо «связный текст, объединенный общей мыслью» достаточно будет сказать просто «текст», а дифференциальный признак III.6 можно сформулировать короче: сообщения-тексты / сообщения-нетексты.
Нас в первую очередь интересуют, естественно, тексты. Но для того чтобы лучше понять и представить себе, что такое текст, удобно начать как раз с нетекста. Вспомним известное стихотворение А. Барто «Болтунья»:
Что болтунья Лида, мол,
Это Вовка выдумал.
А болтать-то мне когда?
Мне болтать-то некогда!
Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
А Марья Марковна сказала,
Когда я шла вчера из зала:
«Драмкружок, кружок по фото —
Это слишком много что-то.
Выбирай себе, дружок,
Один какой-нибудь кружок».
Ну, а я выбрала по фото …
Но мне еще и петь охота,
И за кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
. . . . . . . . . . . .
Я теперь до старости
В нашем классе староста,
А чего мне хочется?
Стать, ребята, летчицей.
Поднимусь на стратостате...
Что такое это, кстати?
Может, это стратостат,
Когда старосты летят?
И т.д.
Само стихотворение — это, конечно, текст, и текст хороший. Но специфика его содержания как раз в том, что оно изображает нетекст, дает несколько карикатурный, но от этого еще более характерный образец сообщения, лишенного внутренней структуры.
Этот монолог прежде всего лишен цельности — он распадается на отдельные куски, связанные лишь ассоциативно. Общей мысли, единой цели, на которую в конечном счете работали бы отдельные высказывания, здесь нет. Точнее, в начале заявлено то, что должно было быть общей мыслью и целью этого монолога — опровержение слуха, что Лида болтунья; но адресант все время отвлекается от своего замысла (доказывая тем самым то, что хотел бы опровергнуть). В результате естественной завершенности здесь нет и не может быть — такая речь могла бы продолжаться бесконечно. Между прочим, так же нередко строится речь людей, страдающих некоторыми психическими заболеваниями 11.
Теперь рассмотрим типичный текст по необходимости сугубо ограниченного объема.
A TOUS LES FRANÇAIS
La France a perdu une bataille!
Mais la France n'a pas perdu la guerre!Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu!
Rien n'est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but!
Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance.
Notre patrie est en péril de mort.
Luttons tous pour la sauver!
VIVE LA FRANCE!
18 juin 1940général de Gaulle
Quartier-général
4, Carlton Qardens,
London
Это знаменитое обращение генерала де Голля к французскому народу, с которым он выступил сразу после капитуляции правительства маршала Петена перед гитлеровским командованием. Жанр текста — политическое воззвание. Этот жанр в целом характеризуется прежде всего такими признаками, как эксплицитная адресованность большой группе людей, актуальность, направленность на определенную неречевую деятельность, предписывающий характер, ролевой характер (адресант выступает как политический лидер, все равно, является ли он отдельным лицом или говорит от имени группы), определенная абстрактность, аргументативность, эмоциональность, наличие внутренней структуры, монологичность. Этот текст, как, впрочем, и все воззвания и речи де Голля, отличается, кроме того, своим подчеркнуто персональным характером — адресант говорит от своего имени, даже не пытаясь это как-то завуалировать («...моя цель», «... присоединиться ко мне»).
Обращение имеет четкую внутреннюю структуру, где все элементы подчинены целому. Сразу после указания, кому адресован текст, кратко и броско формулируется основная идея его аргументативной части, заключающая в себе противопоставление, тезис и антитезис. Затем эта идея развертывается в двух абзацах: первый в общем соответствует тезису, а второй — антитезису. В целом эти два абзаца дают анализ ситуации, завершающийся выводом, в котором формулируются потребности страны и цель, преследуемая адресантом. Третий абзац — призыв к деятельности, прямо вытекающий из всего предыдущего, т.е. синтез. Затем в двух выделенных в абзацы фразах резюмируется содержание уже всего текста, включая призыв. Все завершается как будто традиционным лозунгом, который, однако, в данной ситуации становится в высшей степени актуальным: несмотря на поражение — Vive la France! Лозунг выступает здесь как еще одно, максимально сжатое, резюме всего воззвания. Кроме этого, весь текст заключен в рамку, которая задает такие параметры коммуникативной ситуации, как адресат, адресант, время и место, и одновременно маркирует левую и правую границы текста.
Четкая внутренняя структура придает тексту целостность — это действительно единое, хотя и сложное, речевое действие. Целостность текста предполагает его внутреннюю завершенность. Внутренняя завершенность аргументативного текста возникает тогда, когда доказано то, «что и требовалось доказать», как говорят в математике, а аргументативно-предписывающего — когда на основе доказанного достаточно полно и внятно формулируется предписание или призыв. Между прочим, с этой точки зрения де Голлю можно было бы поставить в упрек некоторую абстрактность его призыва: непонятно, что, собственно, надо делать, как бороться за спасение Франции. Но, очевидно, именно такова была в тот момент его цель.
Прямым следствием внутренней структурированности и цельности текста является его связность — наличие смысловых связей между составляющими текст отдельными высказываниями, таких, что адекватное понимание каждого из них (за исключением первого) требует знания предшествующего контекста 12. Связность может получить эксплицитное выражение в форме главным образом различных союзов и наречий (в тексте де Голля mais, cependant, parce que, alors, tel, voilà pourquoi), а также в виде различного рода повторов, полных или частичных (например, la France — la France — le pays — la France — elle — notre patrie — la — la France; servitude — péril — sauver; во втором случае повторяются не слова, а семы) 13. Но смысловые связи могут и остаться имплицитными (например, связь между первой и второй фразами абзаца, который начинается со слов Rien n'est perdu) — об этом мы говорили выше, в § 14 и 28, пример 1.2.
Важно понять, что внешняя связность сообщения сама по себе еще не обеспечивает его цельности — признаки связности можно найти и в монологе болтуньи Лиды. Мы скажем так: связность — необходимое, но не достаточное условие целостности текста. Из этого следует, что «целостность текста не определима лингвистически; тот текст целостен (и значит является текстом), который воспринимается как осмысленное целесообразное единство» 14.
§ 33. Различия во внутренней структуре сообщений различных жанров
Отмеченное нами в тексте воззвания де Голля явление, состоящее в том, что мысль проходит через ряд последовательных обобщений и конкретизации 15, характерно для многих речевых жанров, в частности для публицистики, а также для того типа газетной информации, который не довольствуется простым изложением фактов, а демонстрирует стоящие за ними общие закономерности, как в нижеследующем отрывке:
Deux cents soldats de l'infanterie américaine et cinq cents militaires nippons participent, depuis hier, au pied du mont Fuji, à des manœuvres terrestres conjointes, destinées à contrer une invasion simulée du territoire japonais par les «troupes communistes». Ce sont les premières manœuvres de ce genre depuis vingt-cinq ans.
Depuis l'arrivée de M. Ronald Reagan à la Maison Blanche, la coopération militaire entre les deux pays s'est accrue. Il y a eu, cette année, sept exercices navals conjoints, contre trois en 1979. Les forces aériennes japonaises vont mener des manœuvres avec les chasseurs américains F-16 stationnés en Corée du Sud (Humanité).
Текст начинается с сообщения о конкретном факте — совместных японо-американских маневрах на территории Японии; затем этот факт возводится к общей закономерности — усилению военного сотрудничества между двумя странами при Рейгане; затем упоминаются другие факты, в которых проявляется та же закономерность.
Такое же чередование конкретных фактов и обобщений типично для научных и в еще большей степени для научно-популярных текстов. В качестве примера можно было бы привести любую работу по лингвистике (в том числе и любой параграф из этой книги). Такое построение непосредственно отражает структуру познавательного процесса, два основных типа логического мышления — индукцию, когда мысль движется от частного к общему, и дедукцию, когда мысль идет в обратном направлении, от общего к частному.
Но такой принцип построения не универсален — в чисто представляющих текстах мы его не найдем; в них содержание может располагаться все время на одном и том же уровне абстрактности или конкретности — достаточно представить себе такие различные тексты, как статья закона, технические описания и анекдот.
Вообще, у текстов разных жанров и типов, несущих разное содержание и выполняющих разные функции, не только может, но и должна быть различная внутренняя структура. Эти различия в структуре особенно наглядно проявляются в разных критериях внутренней завершенности. Если аргументативный текст заканчивается тогда, когда доказано то, что требовалось доказать, или когда даны аргументированные ответы на поставленные вопросы, то текст-описание может считаться завершенным, когда исчерпано референтное пространство, т.е. когда названо все существенное — с точки зрения замысла, конечно, — что в этом пространстве содержится, все равно, идет ли речь о холодильнике или о лице героини романа. Текст-повествование (сообщение) завершается тогда, когда исчерпано событийное содержание описываемого периода времени и (или) когда сами события получили определенное завершение, определенную развязку, т.е. опять-таки когда событиями дан ответ на поставленные ими же вопросы:
MARSEILLE. Une bombe incendiaire de fabrication artisanale a été lancée, samedi, vers 21 heures, à Marseille contre l'agence «Renault» du 6e arrondissement par un groupe de jeunes gens. L'engin n'a fait aucun dégât (Humanité).
Ясно, что без последней фразы текст был бы воспринят как неполный — надо же сообщить читателю, чем все кончилось! Этим же определяется и завершенность повествовательного текста в художественной литературе, особенно в таких жанрах, как новелла, и приключенческий роман, необходима развязка.
Определенную внутреннюю структуру и внутреннюю завершенность может иметь также диалогов первую очередь диалог, обслуживающий какую-то практическую деятельность, планирующий и организующий действия коммуникантов, например, когда люди договариваются встретиться, что-то сделать, куда-то пойти и т.п. Вообще может быть и обычно бывает текстом любой диалог, имеющий какой-то определенный предмет и преследующий определенную цель (с этой точки зрения диалог, состоящий из вопроса Vous descendez à la prochaine? и ответа Oui, monsieur — несомненный текст) 16; диалог же беспредметный внутренней структуры не имеет, и, следовательно, текстом его назвать нельзя.
Однако из сказанного не следует делать вывод, что все сообщения-нетексты и лишенные внутренней структуры диалоги суть пустая болтовня, заслуживающая осуждения. Беспредметный разговор тоже выполняет важную функцию, которую называют фатической. Она состоит в установлении и поддержании связей, психического контакта между партнерами. Именно поэтому в таких случаях бывает все равно о чем говорить — речевое общение является самоцелью.
§ 34. Внутренняя структура сообщения — некоторые итоги
Все сказанное о критериях завершенности текстов различных речевых жанров можно обобщить: завершенность имеет место там, где достигнут намеченный результат (достигнут хотя бы по мнению адресанта, потому что у адресата может быть на этот счет иное мнение). Это непосредственно вытекает из тезиса, согласно которому текст есть сложное речевое действие. Однако законченность текста определяется не только конкретной целью, которую преследует адресант, но и узусом данного жанра, жанровыми нормами 17. Например, любая диссертация должна завершаться разделом, который называется «заключение», а также списком использованной литературы, и автор обязан написать то и другое, даже если он и не чувствует внутренней потребности в этом.
Законченность текста находит свое выражение в особых сигналах, маркирующих его правую границу, — определенных словесных формулах (как, например, в частной и деловой переписке, в телефонном разговоре, в некоторых фольклорных жанрах), а также в специфических способах пространственного и графического представления конца текста, если последний напечатан 18. Аналогичные сигналы маркируют и начало текста, создавая тем самым его отграниченность.
Сигналы конца играют не только формальную роль; в тех случаях, когда внутренняя завершенность текста не очевидна для получателя (например, при восприятии стихотворения), четко маркированная правая граница заставляет его отнестись к сообщению именно как к законченному целому, вследстагге чего он будет «стараться установить в нем смысловые связи и искать семантическую емкость, которую нельзя было бы в нем обнаружить, если бы оно было всего лишь частью целого» 19. Иными словами, здесь вступает в действие «презумпция уместности», о которой мы говорили выше, в § 19, и начинается поиск подтекста. Все помнят, как кончается басня И.А. Крылова «Волк и Ягненок»: «Сказал, и в темный лес Ягненка поволок». Так вот, мы не сомневаемся в том, что волк съест ягненка, не только благодаря нашим знаниям о волках и ягнятах вообще (ведь теоретически рассуждая, можно представить себе и иной конец — спасение ягненка в последний момент благодаря вмешательству охотника или пастуха), мы не сомневаемся в этом главным образом потому, что приведенная строка — последняя в тексте, дальше графически маркированный конец, и мы относимся к ней именно как к заключительной.
Однако внутренняя завершенность необязательно совпадает с концом общения. Во-первых, какие-то причины могут помешать завершению текста; например, в одном номере журнала нельзя поместить большой роман, и единый текст приходится механически членить на две или три части; точно так же в диалогическом общении нам не всегда удается договорить до конца, и разговор прерывается, оставшись незавершенным 20. Бывает и противоположный случай: разговор фактически завершен, но общение в силу каких-то причин прервать нельзя (например, на вокзале или в аэропорту). Тогда собственно текст (диалогический) кончается и начинается вынужденная фатическая коммуникация (хороший литературный пример такой коммуникации — диалог Астрова и Войницкого в последней сцене IV акта «Дяди Вани»). Наконец, в сложных текстах, состоящих из нескольких простых (см. ниже), правая граница предыдущего простого текста может совпасть с левой границей последующего.
Отмеченные свойства текста (его внутренняя структурированность, цельность, завершенность, не говоря уже о связности) — это, в сущности, не что иное, как проявления уже известных нам общих принципов речи (см. выше, § 19), в первую очередь таких, как осмысленность и целенаправленность.
Из всех наших определений и рассуждений вытекает еще одно: текст — это, строго говоря, понятие относительное. В самом деле, часто бывает так, что в статье или книге, которую мы интуитивно (и, скорее всего, справедливо) рассматриваем как текст, обнаруживаются куски, которые сами удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к текстам, а в этих кусках — «малых» текстах — в свою очередь обнаруживаются еще меньшие тексты. Получается, что самый первый, большой текст построен по принципу матрешки, с той только разницей, что на каждом последующем уровне (если идти снаружи внутрь) помещается не одна, а несколько матрешек меньшего размера. С другой стороны, все книги одного автора можно рассматривать как единый текст его творчества. Даже о литературе определенной эпохи или направления говорят иногда как о едином тексте, противопоставляя ее в целом литературе какого-то другого периода, другой литературной школы 21.
Таким образом, следует различать тексты относительно простые, сложные, сверхсложные, сверх-сверхсложные и т.д. Отношения между простыми текстами внутри сложного или сложными внутри сверхсложного могут быть более или менее свободными, каждый частичный текст может иметь большую или меньшую самостоятельность и самоценность (эти свойства называют соответственно автосемантией и синсемантией); в частности, не всякий последующий «малый» текст, входящий в состав более крупного текстового объединения (например, глава в середине книги), бывает понятен без знания предыдущих.
В целом границы текста зависят от уровня анализа, т.е. от принятого исследователем масштаба; например, он может рассматривать какое-нибудь стихотворение Бодлера из сборника «Цветы зла» либо как самостоятельный текст, либо как часть текста (сборника).
Все сказанное о текстах может объяснить, хотя бы отчасти, те трудности, которые испытывает рядовой носитель языка (неписатель, нежурналист и т.д.) при построении развернутых монологических сообщений и, к сожалению, нередко даже при их восприятии. Почему нелегко написать школьное сочинение, отчет о практике, курсовую или дипломную работу, даже тогда, когда нам как будто есть что сказать? Основная трудность заключается в том, что сложную, многоярусную структуру содержания надо вытянуть в одну линию. Картина, фотография или чертеж изображают сразу множество предметов; мы же не можем говорить одновременно о многих вещах — обо всем, о чем мы хотим сказать, приходится говорить поочередно: сначала об одном, потом о другом, потом о третьем, о четвертом и т.д. При этом надо все время помнить о конечной цели рассуждения, держать в уме общую структуру мысли и будущего текста, подчиняя ей отдельные последовательно порождаемые части сообщения, так чтобы последовательно воспринимая наш текст, адресат мог бы восстановить в уме его содержательную структуру, установить связи между отдельными частями, в том числе и расположенными не рядом, а на известном расстоянии одна от другой 22.
Вот почему, если все умственно нормальные люди так или иначе умеют строить отдельные высказывания, участвовать в диалоге, а также более или менее связно рассказывать о последовательности событий, далеко не каждому под силу построить развернутое монологическое сообщение аргументативного характера, так чтобы оно имело четкую структуру, внутреннюю целостность и завершенность. Этому надо специально учить. Учить надо и восприятию таких сообщений.
§ 35. Следственное дело и роман
Теперь можно, наконец, приступить к обсуждению специфики литературно-художественных текстов. Для того чтобы сделать наше рассуждение более наглядным, воспользуемся одним замечанием В.Г. Белинского, который в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал: «Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, т.е. подать поэту повод написать роман» 23.
Попробуем развить эту мысль Белинского и представим себе, что некий следователь, расследующий уголовное дело, «имеющее романический интерес», в свободное от работы время пишет, пусть не роман, но повесть по материалам этого дела, не отступая существенно от той событийной канвы, которую дает ему действительность. Результатом его профессиональной деятельности будет текст обвинительного заключения, в котором он должен изложить все существенные обстоятельства дела и сформулировать необходимые выводы; результатом же его литературной деятельности будет повесть. Ясно, что у него получатся два совершенно разных текста, хотя в основе того и другого будут лежать одни и те же события (то, что один и тот же отрезок действительности может получить принципиально различное отражение в речи разных людей, было показано в § 8; здесь имеет место аналогичная ситуация, поскольку один и тот же человек выступает в двух лицах, как носитель двух разных ролей).
Попробуем же мысленно сравнить эти два воображаемых текста по тем дифференциальным признакам, список которых был предложен в начале этой главы (§ 31).
| Обвинительное заключение | Повесть | |
| I.1. Адресовано суду — малой группе носителей определенных ролей. | Адресована «всем, всем, всем». | |
| I.2. Связано с данным периодом времени. | Предназначена для долговременного пользования. | |
| I.3. Обслуживает конкретную деятельность адресата — рассмотрение дела в судебном заседании. | Не связана с практической деятельностью адресата. | |
| I.4. Имеет косвенно предписывающий характер, поскольку определяет ход судебного заседания. | Не имеет предписывающего характера. | |
| II.1. Адресант — конкретный субъект. | Адресант — конкретный субъект. | |
| II.2. Имеет сугубо ролевой характер — адресант выступает как следователь, а не как личность. | Имеет личностный характер — адресант выступает как личность, действующая в рамках свободной речевой роли «писатель». | |
| II.3. Сообщение неспонтанно. | Сообщение неспонтанно. | |
| III.1. В основном конкретно. | Сугубо конкретна. | |
| III.2. Имеет в основном аргументативный характер — доказывает виновность подследственного по таким-то и таким-то статьям, однако содержит и представляющую часть — изложение событий, описание места преступления и т.п. | Имеет представляющий характер. | |
| III.3. Содержание развертывается во времени, но есть и элементы статического описания (см. III.2). | Содержание развертывается во времени, но есть и элементы статического описания. | |
| III.4. Сообщение референтно и призвано точно отражать реальные события (любая неточность может быть поставлена автору в вину). | Сообщение имеет двойственный характер: оно как будто связано с реальными событиями, но при этом проверке на истинность (на уровне фактов) не подлежит. | |
| III.5. Абсолютно не эмоционально. | Эмоциональна. | |
| III.6. Имеет четкую внутреннюю структуру. | Имеет четкую внутренюю структуру. | |
| III.7. Объем строго не задан. | Объем ограничен по минимуму и по максимуму. | |
| IV.1. Реализуется в письменной форме. | Реализуется в письменной форме. | |
| IV.2. Сообщение монологично. | Сообщение монологично 24. | |
| IV.3. Общение дистантно. | Общение дистантно. | |
| IV.4. Отправление и восприятие разобщены во времени. | Отправление и восприятие разобщены во времени. |
Итак, противоположные значения одних и тех же дифференциальных признаков обнаруживаются в 9 случаях из 18. Из этих девяти дифференциальных признаков, по которым повесть отличается от обвинительного заключения, два можно сразу же отбросить как явно неспецифические: I.4 и III.7 (последний, ограниченность объема, для нас сейчас не важен, поскольку мы ищем специфику художественного текста вообще, а не жанра повести). Остается семь: I.1, I.2, I.3, II.2, III.1, III.4 и III.5.
Строго говоря, и среди оставшихся семи различий специфических для художественной литературы как будто нет или почти нет: признак I.1. — адресованность всем — она делит, например, со многими жанрами, входящими в понятие массовой коммуникации, куда обычно включают печатную периодику, радио и телевидение; признак I.2 — предназначенность для долговременного пользования — присущ также фундаментальной науке; I.3. — несвязанность с практической деятельностью — художественная литература делит как с научно-популярной литературой, отчасти публицистикой и т.п., так и с бытовым фатическим общением; II.2 — личностный характер — обнаруживается в очень большом числе речевых жанров, прежде всего в повседневном устном и письменном личностном общении; то же можно сказать о признаке III.I — конкретность — и о III.5 — эмоциональность. Более или менее специфическим оказывается лишь III.4 — то, что литературные тексты не подлежат проверке на истинность, но и это свойство иногда обнаруживается за пределами художественной литературы, например, в таких явлениях, как шутка и мистификация. Что же касается двойственного характера, который мы приписали воображаемой повести (то, что она, не подлежа проверке на истинность, все-таки связана с реальными событиями), то это ее свойство является как раз нетипичным для художественной прозы: в большинстве романов и повестей персонажи и события являются, как известно, вымышленными.
Из сказанного можно сделать вывод: своеобразие художественной литературы не в каких-то отдельных сугубо специфических значениях предложенных дифференциальных признаков, а в специфическом сочетании этих значений.
В самом деле, если судить по выявленному нами набору присущих ей свойств, художественная литература — явление парадоксальное, ибо она сочетает признаки, роднящие ее с самым что ни на есть стихийным личностным общением (II.2, III.1, III.5), с признаками, характерными для таких речевых сфер, как фундаментальная наука и массовая коммуникация (I.1, I.2, I.3). Да и вообще: что за странный класс текстов, которые претендуют на всеобщую и непреходящую значимость, рассказывая нам в сугубо личностной манере вполне конкретные истории конкретных людей, которые на самом деле, может быть, . никогда не существовали?
Объяснить этот парадокс мы попытаемся в следующих параграфах.
§ 36. Синтез общего и частного как специфическое свойство художественного образа
В этом и в следующих параграфах мы касаемся проблем чрезвычайно сложных и не до конца еще разрешенных современной наукой. Наша задача заключается лишь в том, чтобы попытаться связать друг с другом и осмыслить в свете основных положений теории литературы те свойства художественного текста, которые нам удалось выявить, для того чтобы наметить, как говорят, рабочую гипотезу, без которой нельзя идти дальше. Эта гипотеза отнюдь не претендует на разрешение всех проблем и должна рассматриваться лишь как необходимый этап в построении методики интерпретации текста.
Начнем с очевидного. Если искусство вообще и художественная литература в частности, хотя бы в зачаточной форме, существовали и существуют во все' эпохи человеческой истории и практически у всех народов, значит, они для чего-то нужны, удовлетворяют какой-то насущной потребности человека. Если самые разные люди, различные по языку, культуре, социальному положению, откладывают свои насущные дела и зачитываются выдуманными и бесполезными с практической точки зрения историями о не существовавших в действительности личностях вроде Дон Кихота, Гамлета, Эммы Бовари, Анны Карениной — личностях, порой совершенно чуждых им и социально, и исторически, и национально, — значит, в этих историях и в этих личностях есть какой-то всеобщий интерес.
В чем состоит этот интерес, мы отчасти знаем: каждый литературный персонаж, каждая ситуация, каждый сюжет, обладая очевидными свойствами единичного лица, единичного факта, единичной, частной истории, в то же время несет некое обобщенное содержание, является в том или ином отношении типичным. Обвинительное заключение представляет драматические события, выявленные в ходе следствия, как сугубо частный, единичный случай, даже если они сами по себе в высшей степени типичны для данного общества; сходные события, описанные в повести, воспринимаются уже как проявление общей тенденции, иначе и повесть нет смысла писать (промежуточное положение между деловым документом и художественным текстом занимает в этом смысле очерк). По выражению Н.А. Добролюбова, художник «создает тип, выражающий в себе все существенные черты всех частных явлений этого рода, прежде замеченных художником» 25.
В единстве общего и частного, отвлеченного и чувственно-наглядного заключена специфика художественного образа. «Мы можем обозначить поэтическое представление как образное, — писал Гегель, — поскольку оно ставит перед нашим взором вместо абстрактной сущности конкретную ее реальность» 26. Этот тезис, впервые сформулированный Гегелем, получил в дальнейшем широкое распространение. Так в 1905 г. А.А. Потебня писал: «Поэтический образ каждый раз, когда воспринимается и оживляется понимающим, говорит ему нечто иное и большее, чем то, что в нем непосредственно заключено» 27. Единство общего и частного, сущности и явления характеризует весь изображаемый художником отрезок мира — он предстает перед нами как упорядоченный, закономерно организованный. Даже если герои раздираемы противоречиями, последние находят свое пусть трагическое, но закономерное разрешение. В этой внутренней гармоничности мира, создаваемого искусством, проявляется извечно присущее человеку стремление к упорядоченности, потребность в преодолении царящей во вселенной энтропии как тенденции к хаосу, несовместимому с самой жизнью 28. Не случайно, что даже произведение, написанное на документальной основе (если, конечно, это повесть или роман, а не очерк), практически никогда не отражает точно «все, как было»; так что наш воображаемый следователь — écrivain du dimanche — в своей повести наверняка отступил бы хоть в чем-то от материалов следственного дела. Не потому ли и в бытовом рассказе, излагая какое-то действительное происшествие, мы иной раз склонны слегка присочинить, если это не влечет за собой никаких практических последствий?
Существенно, что свобода от фактологической точности, которой пользуется художник, как раз и становится возможной благодаря тому, что его «сочинительство» не влечет за собой никаких практических последствий, иначе говоря, благодаря отсутствию у художественного текста непосредственной прагматической направленности, несвязанности его с практической деятельностью адресата. Ведь сам процесс восприятия такого текста обязательно предполагает, что адресат (нормальный читатель, а не литературный критик) временно выключается из той деятельности, которой он был занят, и от связанных с нею забот (правда, сам текст иногда возвращает читателя к ним, но об этом ниже).
Итак, искусство вообще и художественная литература в частности есть особая форма познания мира и передачи добытого знания о мире, где за описываемыми единичными явлениями стоят сущности. Но какие сущности? Сущности чего? Можно ли представить себе роман о первичном сгустке материи и разбегающихся галактиках или о происхождении земноводных? Видимо, нельзя 29. И то, и другое — область науки. В самом деле, магистральная и почти единственная тема литературы — человек, человеческие или, по крайней мере, человекоподобные существа. Даже если персонажи — животные, роботы или инопланетяне, они очеловечиваются. Даже в чисто пейзажном стихотворении есть человек — наблюдатель, персонаж или лирический герой.
Таким образом, содержание художественной литературы — человеческие сущности разного порядка и разных уровней. Изображая как будто вполне конкретных, единичных людей и происходящие с ними события, литература создает человеческие типы — социальные, национальные, культурно-исторические, психологические, — и типичные в том или ином отношении человеческие коллизии, т.е. вскрывает закономерности. Дон Кихот и Эмма Бовари интересны нам потому, что в этих образах, помимо их социальной, национальной и культурно-исторической характерности, есть нечто общечеловеческое, а стало быть, свойственное и нам. Как пишет Ю.М. Лотман, судьбу Анны Карениной «можно представить как отображение судьбы всякой женщины определенной эпохи и определенного социального круга, всякой женщины, всякого человека. В противном случае перипетии ее трагедии возбуждали бы чисто исторический интерес, а для читателя далекого от специальных задач изучения нравов и быта, уже ставших достоянием истории, просто были бы скучны» 30.
§ 37. Эмоциональное сопереживание
Однако уровень общечеловеческого — это предел художественного обобщения, которого достигает не всякий литературный текст и который воспринимается не при всяком прочтении. Для читателя — современника и соотечественника автора (а литература делается для современников, что бы об этом ни думал сам писатель) наиболее актуальным обычно оказывается социально и исторически типичное — образ времени, страны и героя современности, а порой и образ той социо-профессиональной и(или) возрастной группы, к которой принадлежит сам читатель (известно, что книги об учителях с наибольшим интересом читают учителя, а о пожарных — пожарные). И в этом проявляется одно очень важное свойство художественной литературы, особый характер воздействия ее на читателя: читатель, если ему интересно читать, соотносит с самим собой и со своим окружением то, что изображено в тексте.
Конечно, восприятие любого сообщения, да и любого отрезка действительности, всегда субъективно; как было показано в главе I, мы всегда соотносим то, что слышим или читаем, со своими интересами и потребностями. Но здесь имеет место соотнесение особого рода. Ведь художественный текст, как уже говорилось, не связан с практической деятельностью адресата. И несмотря на это, читая книгу, которая действительно его захватывает, читатель не только соотносит с собой, но и переносит на себя ее содержание, частично отождествляя себя с тем или иным персонажем. «Описания тогда хороши и действуют на читателя, — писал Л.Н. Толстой, — когда читатель сливается душой с описываемым, а это бывает только тогда, когда описываемые впечатления и чувства читающий может перенести на себя» 31. И в этом заключено, может быть, самое важное, что есть в литературе и что, в частности, отличает художественное познание от научного.
В отличие от науки, которая дает нам «на выходе» абстрактное знание в форме общих понятий, искусство вообще и художественная литература в частности создает «живую модель» отрезка воображаемой действительности, содержание которой отнюдь не сводится к абстрактным сущностям и которая ни в коем случае не должна восприниматься как простая иллюстрация общей идеи. Как заметил Г.В. Плеханов, «если писатель вместо образов оперирует логическими доводами, или если образы придумываются им для доказательства известной темы, тогда он не художник, а публицист, хотя бы он писал не исследования и статьи, а романы, повести или театральные пьесы» 32.
Искусство добывает и дает нам не логическое или, точнее, не только логическое знание о человеке и человечестве. Общие идеи, которые можно извлечь из произведения (например, положение такого-то общественного класса, такие-то процессы, происходящие в обществе, истинность или ложность той или иной философской, общественной или этической концепции и т.п.), конечно, очень важны, но не в них то главное, что составляет ценность художественного текста, в конце концов, «человечество обладает и более прямыми путями для их получения, нежели искусство» 33.
Ценность произведения искусства состоит в том, что оно дает лам возможность вслед за автором, так сказать, влезть в шкуру персонажей, воплощающих какие-то общезначимые черты и свойства, проиграть в воображении их судьбу, сделать ее как бы достоянием собственного опыта, не только понять, но и прочувствовать на себе (хотя и в ослабленной, безопасной для личности форме), что значит быть Жюльеном Сорелем, Эммой Бовари, Анной Карениной или Константином Левиным, со всем тем типичным и общезначимым, что они собой представляют (по-французски здесь надо было бы написать ип Julien Sorel, une Emma Bovary...).
Отсюда специфическая конкретность художественного повествования. Если следователь подробно опишет в обвинительном заключении, как ветер гремел листами железа на крышах и как метались полосы света и тени от качающихся фонарей, ему поставят в упрек эти «ненужные художества». В повести же такие детали могут оказаться очень существенными. Мы все помним поразительную фразу героя Камю: ... j'ai tué à cause du soleil, и ведь в ней есть определенная правда! Но и независимо от того, какую роль погода или иное обстоятельство могло сыграть в развертывании событий, повествование должно давать какие-то конкретные детали изображаемого, чтобы читатель мог это все пережить в воображении.
Однако читательское сопереживание возможно лишь тогда, когда возникает резонанс между личностью героя и личностью автора, с одной стороны, и личностью читателя — с другой. При этом условии читатель привносит в содержание текста элементы своего личного опыта — возникает подтекст, содержанием которого являются не только какие-то стороны описываемого объекта или события, но и читательские эмоции, созвучные эмоциям персонажа и (или) автора. С другой стороны, частичное отождествление читателя с героем, при том что герой в каком-то отношении типичен, а его история закономерна (он ведь живет в упорядоченном мире художественного вымысла), приводит к тому, что читатель порой находит в книге ответы на собственные проблемы, книга начинает говорить ему о нем самом (а есть ли для человека более интересная тема?), и он сам приобщается к царящей в ней закономерности.
Необходимой предпосылкой и первоисточником читательского сопереживания является сопереживание авторское. С точки зрения психологии творчества художественный текст можно рассматривать как интуитивно конструируемую модель какого-то участка действительности и мира в целом, результат мысленного проигрывания в чем-то типичной и актуальной, по мнению автора, коллизии; ясно, что для построения такой модели совершенно необходимо, чтобы автор поочередно ставил себя на место хотя бы основных персонажей, иначе он не смог бы определить линию их поведения, их слова и поступки, не говоря уже об их внутреннем мире. Недаром Флобер, как известно, сам испытал явные симптомы отравления, когда описывал смерть Эммы Бовари.
Итак, мы можем сказать, что художественный текст несет читателю чувственно-конкретный образ воображаемого отрезка действительности, за которым стоит некое общезначимое содержание, воспринимаемое читателем не в виде абстрактных формул, а в своих конкретных проявлениях, непосредственно действующих на его воображение и так или иначе затрагивающих его личность, его систему ценностей. Конечно, живое восприятие художественного произведения не исключает логического осознания общих идей, извлекаемых из текста, и их формулирования в понятиях социологии, психологии, этики и т.п. Более того, интерпретация текста не может без этого обойтись. Но было бы ошибкой сводить все содержание произведения к этим идеям, тем более что содержание художественного текста вообще не сводимо к знанию или представлению о его референтном пространстве.
§ 38. Коммуникативное содержание художественного текста — авторское миросозерцание
Выше, в главе I, мы говорили о том, что содержание высказывания складывается из двух аспектов: номинативного, описывающего референтную ситуацию, и коммуникативного, отражающего те или иные параметры самого коммуникативного акта. Те же два аспекта содержания обнаруживаются, естественно, и в целом тексте. Применительно к художественному тексту мы можем сказать, что в нем содержится не только образ или модель определенного отрезка мира (номинативное содержание), но и отображение присущего автору взгляда на мир (коммуникативное содержание), который определяет то, что мы назвали в главе I истолкованием референтной ситуации, т.е. само изображение воспроизводимой реальности.
Отображение в тексте авторского миросозерцания — это, в сущности, то, что мы определили в § 29 как общий коммуникативный подтекст, отвечающий на вопрос, как адресант выглядит в глазах получателя в свете всей той информации, которую он сообщает о референтной ситуации, о коммуникативной ситуации и о себе. Однако там мы имели в виду главным образом прагматическую речь и образ адресанта как носителя роли и субъекта определенной деятельности, преследующей определенные цели, которые адресат должен учитывать и с которыми он должен сообразовывать свое поведение. Здесь же, в художественном тексте, адресант, т.е. автор, выступает прежде всего как носитель определенного миросозерцания, с которым мыслящий читатель соотносит свою модель мира, свою систему ценностей. Лучше всех сказал об этом Л.Н. Толстой:
«Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художественное произведение составляет одно целое, потому что в нем действуют одни и те же лица, потому что все построено на одной завязке или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев, — мы ищем и видим только душу самого художника. Если же это старый, уже знакомый писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой? а «ну-ка, что можешь ты сказать мне еще нового? С какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?» И потому писатель, который не имеет ясного, определенного и нового взгляда на мир, и тем более тот, который считает, что этого даже не нужно, не может дать художественного произведения» 34.
«Самобытное нравственное отношение автора к предмету, то новое, что говорит художник о том, как надо смотреть на нашу жизнь», это и есть миросозерцание художника, его персональная и неповторимая модель мира. Она не сводится к философским, общественным, этическим, политическим взглядам автора; как писал Н.А. Добролюбов, «напрасно стали бы мы хлопотать о том, чтобы привести это миросозерцание в определенные логические построения, выразить его в отвлеченных формулах. Отвлеченностей этих обыкновенно не бывает в самом сознании художника; нередко даже в отвлеченных рассуждениях он высказывает понятия, разительно противоположные тому, что выражается в его художественной деятельности ... Собственный же взгляд его на мир, служащий ключом к характеристике его таланта, надо искать в живых образах, создаваемых им» 35. Иначе говоря, персональная и неповторимая авторская модель мира адекватно являет себя лишь в частных моделях отдельных отрезков действительности, конструируемых автором, в создаваемых им художественных текстах.
Надо полагать, что общая авторская модель мира, воплощаемая в тексте, не существует в полностью готовом виде до текста — она сама достраивается и уточняется в процессе построения частной модели (текста), подобно тому как концепция ученого достраивается и уточняется, по мере того как он излагает ее в статье или монографии. Более того, импульсом к созданию произведения может, видимо, служить как раз ощущаемая автором неполнота или противоречивость его модели мира. «Обнаруженное и осознанное противоречие служит своеобразным диалектическим мотором, приводящим в действие механизм творчества» 36.
Персональный и неповторимый характер авторской модели мира и определяемого ею образа конкретного отрезка действительности, данного в тексте, и составляет содержание такого признака художественного текста, как личностность, отмеченного нами в § 35. Чтобы лучше понять, в чем заключается эта персональность и неповторимость литературного произведения, вспомним еще раз следователя. В обвинительном заключении он описывает случившееся по заранее заданной схеме, в заранее заданных понятиях, как бы отвечая на заранее составленный список вопросов: под какую статью уголовного кодекса попадает то, что совершил подследственный, был ли его проступок преднамеренным, имел ли место предварительный сговор, какой ущерб нанесен, как характеризуется подследственный по работе и т.д. и т.п. Такого освещения событий от него требуют и ждут, таковы законы жанра (ролевые ожидания и ролевые предписания), и всякое проявление субъективности здесь подлежит осуждению. В идеале два, три или четыре следователя, имеющие равную квалификацию, должны были бы по одному и тому же делу составить примерно одинаковые обвинительные заключения.
Иное дело — писатель. Его роль не только не ограничивает, но и поощряет самобытное, оригинальное видение мира, собственный подход к материалу, собственные мерки, собственный язык, короче говоря, творческую свободу. Конечно, свобода художника относительна — само его творческое миросозерцание детерминировано эпохой, обществом, господствующими идеями, социальным положением, воспитанием, так что хочет того художник или не хочет, он выступает как представитель своего времени и определенного «идеологического пространства» — навязанной ему системы идей. С другой стороны, художник зависит как от тех, в чьих руках находится книгоиздательское дело и книготорговля, так и от публики (всякий адресант всегда учитывает ожидания и апперцепционные способности адресата, и писатель не составляет в этом смысле исключения). «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» 37.
Все это так, но и в этих рамках творческая свобода художника на много порядков выше, чем любого другого говорящего или пишущего человека, потому что он сам выбирает, о чем писать, сам конструирует референтное пространство текста и сам интерпретирует его, руководствуясь не навязанной ему извне программой и системой понятий, а своим внутренним ощущением, своей моделью мира, которая подсказывает ему подчас для него самого неожиданные решения (известно, например, что герои иной раз поступают совсем не так, как это первоначально планировал автор: Пушкин удивлялся замужеству Татьяны, а Вронский стал стреляться неожиданно для Толстого). И эта неповторимая, глубоко личностная модель мира, реализующаяся в тексте благодаря свободе художника от ролевых и непосредственно прагматических требований и ограничений, проявляющаяся во всем строе произведения — и в характерах, и в действии, и в композиции, и в способах изложения, и в стиле, — придает тексту единство и строгую упорядоченность, образ упорядоченности изображаемого мира. Она-то и составляет наиболее глубокий и наиболее трудный для анализа пласт художественного содержания.
Сугубо личностный характер художественного текста имеет важное следствие на уровне стиля: тенденцию к словесной образности. Это вполне естественно, поскольку оригинальные словесные образы, как мы об этом писали в другой книге, суть способы передать некое нетрадиционное и субъективно окрашенное содержание, для которого в языке нет готовых выражений 38.
Но было бы ошибкой считать, что словесная образность, вообще особенности языковой структуры являются основным отличительным свойством художественного текста. Нет, «красоты стиля» — это вторичный, производный признак; об этом наглядно свидетельствует тот факт, что насыщенность текста тропами и разного рода стилистическими приемами сама по себе еще не определяет его художественные достоинства, существуют, как известно, гениальные тексты (например, пушкинское «Я вас любил, любовь еще быть может...»), написанные предельно простым языком.
§ 39. Зачем нужна художественная литература
Теперь, в свете всего сказанного, мы можем попытаться определить, какую же общественную функцию (или функции) выполняет художественная литература, какую потребность или какие потребности она удовлетворяет. Мы все помним определение, согласно которому искусство (а значит, и литература) есть одна из форм общественного сознания 39. Очевидно, надо вдуматься в эту формулу и соотнести с ней то, что нам удалось установить относительно свойств художественных текстов.
Прежде всего необходимо твердо уяснить одну достаточно очевидную вещь: искусство есть не только специфический способ познания закономерностей мира, но и передачи познанного: то, что познано и зафиксировано в произведении художником, потенциально становится всеобщим достоянием — со-знанием. Так общество в лице своих членов познает и осознает самое себя. При этом, что тоже очень важно, передача художественного знания совершается не только в синхронии, от художника к его современникам, но и в диахронии, от поколения к поколению, что обеспечивает преемственность культуры.
Однако сказанное приложимо не только к художественной литературе, но и к самым различным текстам, предназначенным для широкого распространения, вообще к различным формам общественного сознания. Очевидно, для того чтобы понять своеобразие функции художественной литературы как формы общественного сознания, надо учесть специфику той информации, которую она несет.
В предыдущем параграфе мы говорили о том, что художественный текст моделирует не только социальное и психологическое пространство, которое он изображает, но и определенный способ восприятия действительности, общую авторскую модель мира, которая частично реализуется в произведении.
Однако художник не является в этом отношении монополистом — у каждого умственно сформировавшегося человека есть своя, пусть не вполне осознаваемая, невербализуемая, интуитивная модель мира; не столько, может быть, идея, сколько представление о мире, о человеке и о себе — о своем месте в мире и в обществе. Одни ее сознательно культивируют, у других она формируется более или менее стихийно, но потребность в такой модели ощущает, видимо, каждый. Она тесно связана с присущими личности потенциальными установками, реализующимися в поведении, в том, как субъект согласует свои индивидуальные потребности с миром, в первую очередь с другими людьми, какие цели он ставит перед собой и какие средства для их достижения избирает. По-видимому, можно сказать, что единство (иногда противоречивое!) модели мира и поведенческих установок, присущих субъекту, и составляет его личность.
Субъективная модель мира и себя в мире — личность в целом — складывается прежде всего в процессе общественной практики; при этом огромную роль играет общение (общественная практика, как известно, неотделима от общения). Как писал К. Маркс, «человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» 40. «В форме непосредственного отражения своей собственной индивидуальности, не опосредованного общением, самосознание индивида было бы невозможно» 41.
Однако субъективный опыт общения вынужденно ограничен; кроме того, в повседневной жизни мы непосредственно сталкиваемся всякий раз с единичными ситуациями и конкретными лицами, с частными случаями. С другой стороны, чисто абстрактное знание о человеке и обществе (психология, социология, история, этика) именно в силу своей абстрактности плохо согласуется с личным опытом в этой сфере, поскольку индивидуальное чувство, индивидуальное отношение человека к человеку всегда субъективно, порой противоречиво и несводимо к общим категориям (девушке, которая переживает свой первый в жизни серьезный роман, кажется, что никогда ни с кем ничего подобного не случалось). Таким образом, для формирования социально и культурно полноценной личности необходимо некое синтетическое знание, которое совмещало бы в себе частное и общее, конкретное и абстрактное. Такое знание и несет искусство (а на ранних этапах человеческой истории — различные формы синтеза науки, религии и искусства).
Художественная литература неизмеримо расширяет нравственный кругозор личности. Об этом очень хорошо писала М.Н. Нечкина, виднейший советский историк: «Художественный образ действительно могущественно расширяет жизненный опыт человека — опыт в особой форме. Он не только обогащает его видением других жизней, широким представлением о своих современниках, познанием разных социальных слоев, но и других эпох, стран, не тех, в которых живет человек. Ясно, расширение такого опыта не заменимо ничем другим: ни научной книгой о чем-то новом, ни грудами цифр, ни кучей справочников. Опыт этот не только познание неведомого ранее, это восприятие целого потока глубоких чувств, нравственных проблем, продумывание с новых точек зрения жизненных решений — решений героев произведения или собственных жизненных поступков. Это, следовательно, богатейшее накопление и нового познавательного, эмоционального и этического опыта» 42.
Мы осознаем себя и учимся искусству человеческих отношений, как ролевых, так и личностных, в общении не только с реальными людьми, но и с литературными персонажами. Онегин, Татьяна, Печорин, Григорий Мелехов, Остап Бендер и многие, многие другие — это все наши общие знакомые, богатые и самобытные характеры, психологически для нас не менее реальные, чем живые люди, убедительные в своей конкретности и неповторимости, непосредственно воздействующие на воображение, но при этом открытые нашему сознанию, как редко бывают открыты реальные люди (мы знаем не только, что они делают, но и что они думают) и, в довершение всего, заряженные общей идеей, открывающие нам нечто новое в человеке и в нас самих. В определенном смысле близкие нам по духу литературные персонажи — это больше, чем знакомые; это роли (уже не столько социальные, сколько психологические), которые нам самим довелось в воображении сыграть, наряду с теми, которые мы играли и играем в реальной жизни. Иначе говоря, художественная литература дает не только пассивный, но и квазиактивный опыт, в первую очередь нравственный и эмоциональный.
Однако в ряду наших общих знакомых по литературе, участвующих в формировании личности каждого из нас, не менее важное место, чем герои, занимают авторы — не только потому, что герои созданы ими, но главным образом как носители того самобытного взгляда на мир, который воплощается во всем произведении. Здесь действует тот же принцип, но на более высоком уровне: я осознаю себя как личность, строю или достраиваю свою персональную модель мира, сопоставляя себя с другим, свою модель — с его моделью. В этом смысле образ автора, складывающийся в моем представлении, еще более уникальное явление, чем образ героя, потому что личность другого нигде не отражается так полно и концентрированно, как в конструируемом писателем мире.
Итак, зачем нужна художественная литература каждому отдельному человеку, можно считать более или менее ясным. Остается выяснить, зачем она нужна обществу. Ответить на этот вопрос уже легче. Во-первых, для того чтобы успешно развиваться, общество нуждается в социально и культурно полноценных личностях, способных на активное социальное действие. Приведем еще один отрывок из статьи М.Н. Нечкиной. В этом отрывке речь идет о том, что было бы с человеком, если бы из исторического процесса вдруг целиком выпало искусство: «Из его души исчезнут сотни моральных проблем и высохнет море глубоких человеческих чувств. Разительно уменьшится то, что он может дать своей эпохе. Он, собственно, не будет в полном смысле слова функционировать как человек своего времени. Он потеряет право на вход в эпоху и будет мельтешить в ней, как сор, кружащийся на поверхности потока, лишь по той простой причине, что при входе в эпоху никто не спрашивает пропусков. В том, кто вошел зря, а кто — по праву, будет разбираться уже следующая эпоха. Следовательно, историческое действие современного человека глубоко обусловлено усвоением им культурных ценностей, накопленных человечеством» 43.
Высказывается и такое мнение, что искусство вообще является механизмом воспроизводства и реализации «специфически человеческих отношений, желаний, эмоций, поступков, целей, форм и т.д.» 44, т.е., проще говоря, что только благодаря искусству человек становится человеком.
Есть еще один существенный момент, который обеспечивает литература (наряду с другими формами идеологии): это связь между людьми. Для общества очень важно, что герои и авторы суть общие знакомые, это формирует общий культурный фонд, ставит общие проблемы, создает определенное духовное единство (последнее в полной мере возможно, как мы знаем, лишь в бесклассовом обществе). Таким образом, литература выступает как мощное средство формирования социально детерминированной личности и тем самым как средство создания и поддержания национально-культурной общности как в синхронии, так и в диахронии, общности современников и преемственности поколений. И если в синхронии литература делит сегодня свои общественные функции с кино и главным образом телевидением, то ее роль в обеспечении связи между поколениями по-прежнему огромна, и здесь ей вряд ли что-нибудь может составить серьезную конкуренцию.
Наконец, нельзя забывать и то, что, создавая и поддерживая национально-культурную общность, литература в то же время соединяет различные культуры, устанавливает между ними своеобразный диалог, где каждая культура лучше осознает себя в общении с другой и одновременно обогащает себя чужими достижениями, что в конечном счете «могущественно содействует единству развития человечества» 45.
§ 40. О литературных родах
До сих пор мы говорили о художественных текстах как о четко заданном и нерасчлененном множестве. Но на самом деле художественная литература отнюдь не является чем-то единым и раз навсегда установленным; указанные в предыдущих параграфах свойства в той или иной мере присущи очень широкому и нечетко очерченному классу речевых жанров, внутри которого наблюдается существенное разнообразие, причем и набор этих жанров, и их ведущие признаки, и границы класса в целом весьма различны в разных культурах и в разные исторические эпохи. Тем не менее во всем этом многообразии (описание которого, естественно, не входит в наши задачи) обнаруживаются некоторые относительно устойчивые подклассы или подмножества жанров, связанные с определенными параметрами литературной коммуникации.
Еще с античных времен поэзия в широком смысле слова, т.е. художественная литература в современном понимании, делится на три рода — эпос, лирику и драму. Что именно должно лежать в основе этого деления, впервые сформулированного Аристотелем, и по сей день не вполне ясно; в частности, дискутируется вопрос, какие признаки — формальные или содержательные — надо считать ведущими 46. Не входя в суть этих дискуссий и ни в коем случае не стремясь дать исчерпывающую характеристику каждого литературного рода, мы попытаемся лишь наметить очевидные дифференциальные признаки, необходимые и достаточные для первичного расчленения множества «художественная литература» на основные подмножества, соответствующие традиционно выделяемым родам.
Таких признаков у нас будет два: один связан с коммуникативной ситуацией и, в частности, с адресантом художественного сообщения, а второй — с референтным пространством текста, т.е. с объектом художественной модели.
1. Явное наличие / видимое отсутствие единого субъекта речи (адресанта), ответственного за весь текст. Иначе говоря, предстает ли текст как монологическое в своей основе сообщение (хотя бы и включающее в себя элементы диалога), исходящее от названного или неназванного адресанта (повествователя или лирического героя) и: обращенное в типовом, наиболее частом случае непосредственно к читателю, либо же адресант как бы устранен, собственно авторское слово отсутствует, а текст складывается как воспроизведение общения каких-то лиц (персонажей), в котором истинному адресату (читателю, зрителю) формально отводится роль стороннего наблюдателя. По этому признаку эпос и лирика совместно противостоят драме 47.
2. Наличие / отсутствие фабулы (в иной терминологии — сюжета), представляющей самостоятельный интерес, т.е. является ли основным содержанием текста (хотя бы в первом приближении) некоторая последовательность событий, происходящих с какими-то персонажами, людьми или антропоморфными существами, или же основное содержание лежит в иной плоскости, в частности, в сфере субъективного переживания, необязательно связанного с какими-то событиями, развертывающимися во времени и пространстве. По этому признаку эпос и драма совместно противостоят лирике.
Сказанное можно представить в виде следующей таблицы:
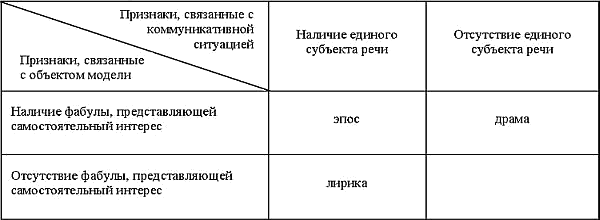
Пустая клетка в правом нижнем углу объясняется несочетаемостью соответствующих признаков: драма, в которой «жизнь ... как бы говорит от собственного лица» 48, предполагает определенную динамику, взаимодействие между персонажами, развертывающееся во времени и пространстве, то, отсутствие чего характеризует лирику. И если отдельные тексты, в какой-то мере совмещающие эти признаки, все же возможны (например, лирическое стихотворение в форме диалога, как это бывает у Блока), они во всяком случае не составляют самостоятельного литературного рода.
Деление на роды непосредственно и однозначно не связано с формой художественной речи, поэтической и прозаической: эпическое произведение может быть в стихах (эпическая поэма, баллада) и в прозе (роман, повесть, рассказ), равно как и драматическое. Однако лирика явно тяготеет к стихотворной форме, так как в последней коммуникативное содержание преобладает над номинативным: стихи не столько сообщают факт, сколько передают личностное, эмоциональное отношение к факту (который сам по себе может остаться «за кадром»). «В современной литературе стих связан прежде всего с лирикой, осуществляя «противоречащие» друг другу, но все же неразрывно взаимно связанные цели: возведение реальных личных переживаний автора в сферу искусства и точное воссоздание его подлинного неповторимого поэтического голоса» 49.
Помимо чистых образцов того или иного литературного рода, существует множество текстов и целых жанров, в той или иной мере соединяющих в себе признаки разных литературных родов. Так, в лирике нередко обнаруживаются элементы драмы, например в стихотворном послании, когда текст имеет определенного адресата, названного по имени, зашифрованного инициалами, или вовсе не названного; выше была упомянута и такая форма, как лирический диалог. В эпосе аналогичное явление также имеет место: это бывает, когда в качестве повествователя выступает не сам автор, а некий персонаж, рассказывающий свою историю другим персонажам. Еще ближе к драме такой жанр, как роман в письмах: он отличается от нее лишь письменной формой диалога (точнее, обмена монологами) и способом восприятия.
С другой стороны, в эпосе, как стихотворном, так и прозаическом, встречаются лирические элементы (например, так называемые лирические отступления в романах), а в лирике — элементы эпические, более или менее четко намеченная событийная канва (достаточно вспомнить, например, стихотворение Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...»). Однако существование таких текстов и жанров не опровергает самого деления литературы на роды; как справедливо замечает В.Е. Хализев, «словесное произведение, как правило, имеет доминантой или повествование о событиях, или их чисто диалогическое изображение, или же целостное эмоциональное размышление (медитацию)» 50.
Каждый литературный род включает в себя более мелкие подразделения. Так, в эпосе можно выделить прежде всего два больших подкласса: эпос поэтический и прозаический, прозаическую повествовательную литературу, которая в наше время занимает ведущее место в большинстве национальных культур. В прозаическом эпосе различают большие и малые формы — роман, с одной стороны, рассказ и новеллу — с другой. В русской литературе существует также повесть — форма, промежуточная между романом и рассказом. Во французской литературной традиции повесть специально не выделяется, вследствие чего понятия roman, récit и nouvelle там шире и неопределеннее, чем соответствующие понятия у нас (так, например, «Посторонний» А. Камю именуется романом, хотя вещь такого объема у нас скорее была бы определена как повесть).
В рамках нашего пособия практически невозможно охватить все три рода художественной литературы. В последующих главах мы будем заниматься в основном прозаическими повествовательными текстами, как наиболее характерными для литературы двух последних веков и наиболее часто используемыми в практике преподавания. При рассмотрении проблем фабульной организации текста (гл. III) будет использован также драматургический материал.
§ 41. Специфика художественного содержания и методика интерпретации текста
Выше, в § 37–38, мы говорили о несводимости художественного образа к представляемой им абстрактной сущности и авторского взгляда на мир — к совокупности философских, общественных и эстетических идей. Отсюда важный вывод: художественное содержание вообще неотделимо от структуры произведения. В одном из своих писем Л.Н. Толстой писал: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом (речь идет об «Анне Карениной». — К.Д.), то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала ... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения» 51.
Эту же мысль, но уже в современных понятиях, образно и точно сформулировал Ю.М. Лотман: «Создавая и воспринимая произведения искусства, человек передает, получает и хранит особую художественную информацию, которая неотделима от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга» 52. Сопоставляя научное знание и то содержание, которое несет искусство, Б.М. Рунин утверждает: «Содержание научного открытия, после того как оно сделано, может быть облечено в ту или иную форму. Художественное открытие не может быть выражено в другой форме без того, чтобы не стать другим содержанием» 53.
Но в таком случае возникает законный вопрос: возможна ли вообще интерпретация художественного текста как истолкование его смысла, если содержание текста не может быть адекватно выражено в иной форме?
На этот вопрос мы ответим так: интерпретация возможна и несомненно полезна, если она не претендует на то, чтобы подменить собой текст. Чтение самого лучшего путеводителя по Парижу или по Ленинграду не заменяет прогулки по городу; однако же путеводитель полезен — не только как комментарий, несущий необходимые фактические сведения о тех или иных достопримечательностях, но и как руководство к восприятию: он советует, на что обратить внимание, подчеркивает связи между объектами, которые мы сами могли бы упустить из вида; все остальное же, а именно живое впечатление (т.е. самое главное), дело воспринимающего город субъекта. В уже цитированном нами письме Л.Н. Толстого есть такие строки, имеющие самое прямое отношение к этой проблеме: «... для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесчисленном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений» 54. Иначе говоря, задача умной и тактичной интерпретации художественного, текста состоит в том, чтобы прежде всего объяснить «лабиринт сцеплений», т.е. структуру произведения, и показать, какие же элементы содержания, поддающиеся словесному изложению, вытекают из этой структуры и как они соотносятся между собой, не претендуя при этом на стопроцентное извлечение смысла.
Итак, художественное содержание текста заключено во всех его элементах: и в персонажах, и в их поступках, и в развязке — в действии в целом, — и в композиции, и в деталях, и в словесном стиле... Здесь все взаимосвязано, сцементировано, как говорил Л.Н. Толстой, «единством самобытного нравственного отношения автора к предмету», т.е. его собственным неповторимым взглядом на мир, который вносит порядок в хаос. Иначе говоря, художественный текст образует систему, где функция каждого элемента, его значимость, определяется всеми остальными.
Но всю систему в целом одновременно охватить нельзя. Здесь возникает то противоречие между линейностью речи и многоаспектностью референта, о котором мы говорили в § 8, ведь интерпретация текста — это речь о тексте, она по определению линейна, а текст, несмотря на свою видимую линейность, предстает как многомерный объект, обладающий сложной структурой. Конечно, интерпретация может повторять тот путь, который проходит читатель, — сопровождать, последовательно комментировать текст фразу за фразой, возвращаясь при необходимости назад, подчеркивая те или иные «сцепления». Так поступают, например, составители серии Classiques Larousse, в которой публикуются тексты, входящие в школьные программы. Такой метод хорош для интерпретации произведений малого объема — короткого стихотворения, прозаической миниатюры; однако и в этом случае после комментария необходимо обобщение.
Другой возможный путь, более экономный, заключается в том, чтобы выделить в системе текста основные ее уровни и рассматривать последовательно каждый из них, с тем чтобы потом как-то объединить получившиеся результаты — те фрагменты содержания, которые удастся сформулировать. Этого пути мы и будем в основном придерживаться.
Таким образом, очередная проблема заключается в том, чтобы вычленить важнейшие уровни системы текста. В предыдущих параграфах мы назвали два аспекта художественного содержания, соответствующие номинативному и коммуникативному аспектам содержания высказывания: саму «историю» и авторский взгляд на мир, который воплощается в повествовании. Однако второй аспект не имеет собственного плана выражения, если не считать прямых авторских сентенций и оценок (а они имеются далеко не во всяком тексте и не в них главное), он имплицитен и является важнейшей искомой величиной. Следовательно, служить исходным материалом для анализа он никак не может — начинать надо с непосредственно данного.
Что же является непосредственно данным в художественном тексте? Вопрос этот не такой простой, на него можно дать по меньшей мере два ответа. Можно сказать, что нам непосредственно дана последовательность языковых знаков, точнее, их означающих. И это будет правильно, как прав будет студент, если на экзамене по литературе начнет свой ответ на любой вопрос с провозглашения тезиса, что средства производства определяют производственные отношения. Несомненно, так оно и есть. Но зачем же подходить так издалека? Вынесем за скобки как само собой разумеющееся то, что читатель (а также интерпретатор) знает язык, на котором написан текст, умеет читать, умеет устанавливать связи между значениями соседних высказываний и т.д., и скажем — это и будет второй ответ, — что в художественном тексте нам непосредственно дан рассказ о каких-то событиях, случившихся с какими-то людьми, подобно тому как в отдельном высказывании нам дано описание какой-то референтной ситуации, сообщение о каком-то факте (событии).
В отдельном высказывании, в рамках его номинативного содержания, мы выделяли его денотативный аспект, отвечающий на вопрос «о чем идет речь?» и отсылающий к референтной ситуации, и десигнативный аспект, отвечающий на вопрос «что об этом говорится?», т.е. истолковывающий референтную ситуацию. В соответствии с этим в непосредственно данном содержании художественного текста следует различать саму «историю» — то, что случилось или якобы случилось с персонажами (куда входят, естественно, и сами персонажи), иначе говоря, референтное пространство текста, его денотативный аспект, — и то, как эта история излагается автором, т.е. фактически ее истолкование, — десигнативный аспект. В соответствии с традицией, первый мы будем называть фабулой, а второй сюжетом. Как и в отдельном высказывании, в художественном тексте можно также выделить уровень стиля, хотя, как будет показано в соответствующей главе, он подчинен сюжету и фактически представляет собой его подуровень.
§ 42. Фабула и сюжет
Эти понятия являются для нас ключевыми, поэтому их надо разъяснить подробнее. Начнем с классического определения: «Фабулой называется совокупность событий, связанных между собой, о которых сообщается в произведении. Фабуле противостоит сюжет, те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них... Фабула — это то, “что было на самом деле”, сюжет — то, “как узнал об этом читатель” 55».
Мы определили фабулу как референтное пространство художественного текста, однако между фабулой и референтным пространством обычного текста имеются существенные различия. Во-первых, фабула является результатом осуществляемого писателем свободного выбора определенного аспекта действительности — того, что в литературоведении называется темой. Осуществляемый писателем выбор свободен (и, следовательно, значим) потому, что писатель в своем творчестве, как уже говорилось, непосредственно не связан повседневной жизненной прагматикой — текст, который он строит, не призван удовлетворять каким-то практическим потребностям.
Во-вторых, фабула не результат отбора из числа готовых, имевших место в действительности «историй», а конструкт, «история», конструируемая творческим воображением художника. Зачем это нужно и почему возможно, об этом мы уже говорили в § 36: благодаря свободе художника от необходимости соблюдать точность факта, он может стремиться к высшей правде.
Из этого следует, что фабула еще «до сюжета» и независимо от него (хотя выделить ее из сюжета можно лишь искусственно) воплощает в себе определенное художественное содержание, авторский взгляд на мир. Писатель выбирает тему, которая его волнует и которая, как ему представляется, должна взволновать публику, и строит фабулу, которая моделирует его представление о мире и о человеке (в том числе и о своих читателях).
Если фабула — это воображаемая цепь событий, происходящих с персонажами, то сюжет — это то, что и как сообщается о фабуле, отражение, которое фабула получает в тексте, отражение частичное, выборочное — иначе и быть не может (см. § 8). Главное в сюжете — отбор фабульных элементов, подлежащих описанию. Но поскольку фабула не сводится к единичной референтной ситуации, а представляет собой цепь событий, которая может быть описана только в развернутом тексте, в последнем возникает аспект, который в отдельном высказывании не то что не существует, но не играет такой существенной роли; это порядок описания референтного пространства (фабулы), составляющий основное содержание понятия композиции. Как будет показано в дальнейшем, вопрос о порядке изложения фабулы допускает множество различных решений. И отбор элементов, и порядок изложения фабулы тесно связаны с такой категорией художественного текста, как точка зрения. Что это такое, будет подробно разъяснено в соответствующем месте; для того же, чтобы составить предварительное представление о ней, достаточно вообразить несколько фотографий одного и того же предмета, снятых с различных точек, ясно, что на этих фотографиях будут различные проекции объекта.
Сюжет, как способ отражения фабулы в тексте, отражает и авторскую позицию, в первую очередь представление автора о том, что в этой истории важно и, следовательно, должно получить эксплицитное выражение, а что не важно и может быть опущено. Здесь действуют те же закономерности, что и при формировании обычного высказывания (см. .§ 8), с той лишь разницей, что в обычном высказывании (тексте) отражается прагматически важное, а в художественном тексте — концептуально и эстетически существенное (эстетически существенным, как мы видели, может быть и прагматически неважное).
В тексте нам непосредственно дан сюжет, а фабулу мы восстанавливаем по тем ее элементам, которые названы в сюжете (иначе говоря, фабула на девять десятых складывается из референциального подтекста). Но для чего восстанавливать фабулу как нечто противостоящее сюжету? Зачем вводить это понятие?
Во-первых, как мы видели, само действие художественно значимо безотносительно к тому, как оно представлено в тексте, а рассматривать одновременно то и другое мы не можем. Есть и еще один резон вычленять фабулу как самостоятельный уровень.
В обычной жизни мы судим о человеке, сопоставляя то, что он говорит, как он толкует референтную ситуацию, с самой референтной ситуацией, точнее, с тем, что мы думаем о ней. Чтобы постичь своеобразие отбора, совершаемого автором в сюжете, и судить по этому об авторской модели мира, надо иметь материал для сопоставления. Ясно, что фабула оформляется в ходе повествования вместе с сюжетом и не существует вне его; но для того чтобы судить о сюжете, полезно представить себе ее как существующую независимо от сюжета и до сюжета, как нечто случившееся на самом деле и, следовательно, обладающее той полнотой, конкретностью и неисчерпаемостью, которые характеризуют настоящую, реальную жизнь.
Чтобы пояснить эту мысль, приведем один характерный пример. Во французской классической трагедии герои никогда не едят на сцене, да и упоминаний о еде там почти не найдешь. Это потому, что в те времена считалось, что такие тривиальные проявления человеческой натуры недостойны трагедии, удел которой — изображение величественного, высоких страстей, борения человеческого духа. Но эту особенность классицистической поэтики мы не могли бы вполне осознать, если бы мысленно не сопоставляли сценическую жизнь героев Расина и Корнеля с реальным человеческим существованием.
Таким образом, противопоставление фабулы и сюжета не прихоть литературоведов, а законный исследовательский прием. Фабула — это, как говорят, конструкт, домысел, но домысел полезный (как в математике полезны мнимые числа), тем более что он имеет определенное психологическое обоснование: ведь и обычный читатель домысливает, воображает существенно больше, чем написано в книге.
§ 43. Еще о методе
Итак, интерпретация текста как истолкование его художественного содержания предполагает раскрытие структуры произведения, ее анализ, который, однако, является не самоцелью, а средством постижения смысла. В ходе этого анализа мы прежде всего вычленяем в системе текста отдельные уровни и подуровни. Но как анализировать структуру каждого уровня? Как, не размениваясь на мелочи (хотя и говорят, что в искусстве мелочей не бывает), выявить наиболее значимые, ведущие элементы и при этом не потерять из вида целое, связи между элементами, образующие эту структуру? Наконец, как оценивать художественную значимость выявленных элементов и их сцеплений? Очевидно, нужен какой-то единый ведущий принцип, который был бы не привнесен извне, а отражал бы саму специфику художественных текстов.
Этот принцип вытекает из двух взаимосвязанных понятий, которые уже неоднократно фигурировали в наших рассуждениях, из понятия творческой свободы художника и выбора, в котором эта свобода реализуется (см. выше, § 38).
Любое художественное произведение можно рассматривать как результат некоторой последовательности актов выбора, осуществляемых художником на разных этапах порождения и на разных уровнях текста. В самом деле, прежде чем сесть за письменный стол, автор решает, о чем он будет писать. Этот первоначальный замысел может формулироваться по-разному: исходной точкой может послужить герой как психологический или социальный тип, общая морально-философская или социальная проблема, та или иная коллизия, общая фабульная схема... Но любое решение вопроса, о чем (или о ком) писать, объективно является актом выбора. Последующее уточнение и развитие первоначального замысла, воплощение его в характерах персонажей и в действии и окончательное оформление в слове необходимо предполагают длинную последовательность актов выбора, каждый из которых имеет более или менее общее (более или менее частное) значение, например выбор последовательности, в которой будут излагаться события, и выбор слова во фразе.
Таким образом, эти акты выбора не являются взаимонезависимыми: частные и последующие решения в определенных пределах — но не полностью! — предопределены общими и предыдущими. Так, скажем, при передаче речи того или иного персонажа выбор слова или выражения частично обусловлен и выбором способа передачи речи (прямая, косвенная или несобственно-прямая речь), и ранее намеченной линией действия, и личностью героя, короче говоря, множеством ранее принятых решений, в результате которых повествование дошло до данной точки (всем левым контекстом), а также еще не воплощенной частью замысла. При этом может случиться, что какие-то последующие акты выбора приведут к пересмотру предыдущих, хотя бы и лежащих на более высоких уровнях, — так первоначальный план нередко претерпевает весьма существенные изменения в ходе работы над произведением; об этом существуют многочисленные свидетельства самих писателей (два таких примера, касающиеся судьбы Татьяны Лариной и Вронского, были приведены в § 38).
Так или иначе, готовый текст предстает перед нами как сложная иерархически организованная система, в которой все связано и взаимообусловлено. При этом может создаться впечатление, что ни о каком выборе и говорить нельзя — настолько все элементы текста кажутся жестко подогнанными друг к другу. Самим автором, надо думать, далеко не каждый акт выбора осознается как таковой — какие-то из них кажутся единственно возможными решениями. В определенном смысле каждый акт выбора обусловлен множеством факторов — личностью автора, его мировоззрением и т.п. Но от этого объективно, для читателя и для исследователя, он не перестает быть выбором, поскольку, теоретически рассуждая, всегда могло бы быть иначе. Просто в результате получилось бы несколько иное произведение, а мы привыкли к тому, которое знаем, и не можем представить себе его иным.
Путь анализа не обязан повторять путь синтеза, но должен учитывать его закономерности. И если процесс порождения текста представляет собой иерархически организованную последовательность актов выбора, то, видимо, задача исследователя состоит в том, чтобы выявить, оценить и, главное, объяснить смысл, содержательную функцию тех из них, которые могут быть учтены и объяснены. Мы должны оценить то, что есть в тексте, с точки зрения того, что могло бы быть. Именно поэтому, в частности, полезно представить себе не только те элементы фабулы, которые отражены в тексте, но и те, которые оказались «за кадром» сюжета, только так мы можем выявить тенденции авторского выбора, в которых проявляется его видение мира. С другой стороны, для этого необходимо также иметь представление о тех решениях, которые в аналогичных ситуациях принимались другими писателями, как современниками, так и предшественниками. «Согласно традиции, идущей от Аристотеля, мы могли бы определить форму как выбор из разнообразия возможностей и «закрепление» этого выбора в материале, — писал М. Сапаров. — Форма значима для воспринимающего, т.е. является собственно формой лишь в том случае если в опыте субъекта «дано» многообразие, из которого она извлечена. Поэтому акт восприятия в известном смысле репродуктивен по отношению к творческому акту» 56.
Авторский выбор всегда значим, причем одновременно минимум в двух планах: каждый (или почти каждый) элемент текста, являющийся результатом выбора, «работает» одновременно на фабулу и на образ автора, на номинативное и на коммуникативное содержание. Так, например, любой поступок героя, поставленный в ряд других его поступков, о чем-то говорит, как-то его характеризует, несет в сопоставлении с другими поступками определенный референциальный подтекст. С другой стороны, то, что автор заставляет героя поступать так, а не иначе, характеризует уже автора, его представление о данном персонаже и о людях вообще, т.е. несет коммуникативный подтекст. Из этого следует, что каждый акт выбора, каждый элемент текста надо сопоставлять как с тем, что могло бы быть избрано автором в данной точке текста (иначе говоря, с другими членами парадигматического ряда), так и с другими элементами того же уровня, предыдущими и последующими, для того чтобы определить место и функцию данного элемента уже в синтагматическом ряду.
Несмотря на все различия, которые обнаруживаются между эпическими текстами разных эпох, разных литературных направлений и разных авторов, между ними существует и определенное родовое сходство. Оно проявляется хотя бы в наличии одних и тех же уровней — практически в каждом можно выделить фабулу, сюжет и стиль; это значит, что каждый писатель вынужден решать в какой-то степени сходные проблемы: кого сделать героем, к чему герой будет стремиться, что с ним будет происходить, чем все кончится, как, в каком порядке и какими словами обо всем этом рассказать и т.п. Из этого следует, что, несмотря на все разнообразие текстов, какой-то общий подход к ним все же возможен, опираясь на знание общих принципов построения текстов этого рода, можно наметить как бы набор вопросов, применимый к любому или почти любому эпическому тексту.
В этом и состоит задача последующих четырех глав. Мы попытаемся выявить, так сказать, основные узлы структуры повествовательного текста, присутствующие практически в любом произведении этого рода (подобно тому как у каждого автомобиля есть кузов, колеса и мотор), возможные конструктивные решения этих узлов, т.е. те ресурсы, которыми располагает художник при решении универсальных проблем творчества (не все, конечно, но наиболее часто используемые), и, наконец, потенциальную художественную значимость тех или иных решений (последнее на примерах из французской и отчасти русской литературы). Словом, мы попытаемся построить нечто вроде грамматики этого «языка», с тем чтобы иметь какую-то основу для оценки своеобразия отдельных текстов — тех художественных решений, которые в каждом случае были приняты автором и сделали этот текст тем, чем он является. Только так, опираясь на общеродовое, можно постичь, оценить и объяснить частное, неповторимое.
Мы начнем эту работу с фабулы. Такое решение представляется наиболее естественным хотя бы потому, что оно лучше всего соответствует спонтанному читательскому восприятию: ведь рядовой читатель, не филолог, прежде всего обращает внимание на событийную сторону текста. Кроме того, любые наблюдения, касающиеся любого другого уровня, не могут игнорировать фабулу — нельзя рассуждать о способе изображения чего бы то ни было, отвлекаясь от вопроса, что же именно этим способом изображено.
Глава III
ФАБУЛА
§ 44. Вопросы к фабуле
В фабулах литературных произведений разных эпох и народов, несмотря на все различия, обнаруживается нечто общее, определенный инвариант. В любом прозаическом повествовательном тексте мы находим каких-то людей (реже — какие-то одушевленные, психологически уподобленные человеку существа), с которыми происходит что-то интересное (с человеческой точки зрения, разумеется) 1.
Персонажи литературного произведения всегда или почти всегда приурочены, хотя бы формально, к какому-то времени и пространству — географическому, культурному, социальному.
Наконец, то, что происходит с персонажами, имеет свои причины, а сами они действуют, руководствуясь определенными мотивами.
Обращаясь к конкретному тексту, мы должны прежде всего уяснить, как же реализуется в нем общая схема, за отдельными разговорами, жестами, поступками персонажей, за отдельными описаниями и эпизодами увидеть общую линию действия, социально-психологическую характерность героев, морально-философские и социальные проблемы, закономерности, управляющие событиями. Иначе говоря, мы должны в первую очередь ответить или, точнее, найти в самой фабуле ответы на вопросы кто? где? когда? что делают? или что с ними происходит? почему? — те же, что и к членам предложения! Это сходство не случайно, так как приведенная к абстрактной схеме фабула очень напоминает семантическую структуру высказывания, где есть актанты, сир константы и предикат 2.
Но ответить на эти вопросы и связать друг с другом найденные ответы, осмыслить фабулу в ее внутренних синтагматических связях — это лишь часть работы, потому что мы должны также оценить указанные аспекты фабулы как акты авторского выбора, постараться ответить на гораздо более сложный вопрос, а именно что значит?, что автор рассказывает нам об этой эпохе, этой культуре, этой социальной среде, о таких героях, с которыми происходят именно такие события, и т.д. А для этого надо соотнести авторский выбор с другими возможными решениями, в первую очередь с наиболее распространенными в данную эпоху.
Нам предстоит теперь последовательно рассмотреть названные здесь аспекты фабульной схемы, показать наиболее типичные авторские решения и их потенциальную художественную значимость. При этом мы будем пользоваться примерами, заимствованными из литературы самых различных эпох и направлений. Но чтобы сделать наши рассуждения менее отвлеченными и показать, как эти элементы теории могут быть приложены к интерпретации единого конкретного произведения, мы периодически будем возвращаться к одному и тому же тексту, чтобы рассмотреть его в том аспекте, которому посвящен данный раздел. Этот текст будет использован аналогичным образом и в последующих главах.
В качестве такого образца мы возьмем рассказ Мопассана «В полях», он воспроизведен в конце этой книги. Для удобства отсылки к тексту его строки пронумерованы. Поэтому, прежде чем начинать следующий параграф, рекомендуется прочитать этот рассказ, пока просто прочитать.
§ 45. Время и место
Рассмотрение фабулы удобно начать с вопросов где? и когда?, ответы на них задают общие пространственные и временные рамки изображаемого, внешние границы фабульного пространства. Здесь можно наметить два основных типа решений, образующие две бинарные оппозиции: 1) теперь / когда-то и 2) здесь / где-то. И то, и другое определяется по отношению к автору: теперь — это эпоха, которой принадлежит сам автор и его читатели — современники, а когда-то — любая иная эпоха, чаще всего прошлое, но иногда и будущее. Аналогичным образом здесь — это страна, на языке которой пишет автор и к чьей культуре он себя причисляет, а где-то — чужое географическое и культурное пространство.
О чем чаще пишут: о своем или о чужом? Если обратиться к французской и русской литературе последних двух веков, то ответ, как будто, не должен вызывать сомнений: конечно, о своем — о своей стране, своей культуре, своем времени; достаточно вспомнить Бальзака — создателя «Человеческой комедии», Флобера — автора «Госпожи Бовари» и «Воспитания чувств», Мопассана, Золя, Роллана, Пруста, Мартен дю Гара, Жида, Дюамеля, Жионо, Арагона — автора «Современного мира», Сартра, Камю и многих, многих современных писателей. Такой же список легко составить и для русской литературы.
Да так оно, как будто, и должно быть — и писателя, и читателей в первую очередь должны занимать свои, современные проблемы. Исходя из этого, можно было бы считать теперь и здесь немаркированными членами оппозиций, подобно тому как в грамматических системах большинства языков теперь и здесь (наряду с я в оппозиции я/не я) рассматриваются как точки отсчета соответствующих категорий 3. Однако такое суждение было бы чересчур поспешным, так как оценка выбора пространственно-временных рамок действия может быть произведена только в контексте литературной традиции и творчества данного художника. А история литературы свидетельствует, что теперь и здесь, немаркированные члены соответствующих оппозиций как в языке, так и в новой и новейшей литературе, отнюдь не были нормой, скажем, для французской романтической прозы и еще меньше — для французской классической трагедии.
В самом деле, в классической трагедии решительно преобладают античные (древнегреческие и древнеримские) герои, вспомним «Федру», «Андромаху», «Британика», «Беренику» Расина, «Горация», «Цинну», «Смерть Помпея», «Эдипа» Корнеля, «Ифигению в Авлиде», «Антигону» и «Умирающего Геркулеса» Ротру. Реже встречаются герои, пришедшие из Библии («Эсфирь», «Гофолия» Расина), из европейского средневековья (например, «Сид» и «Дон Санчо Арагонский» Корнеля), с Востока («Баязет» Расина); французов же в трагедии нет — они появляются там лишь в следующем столетии, у Вольтера, причем не современные, а средневековые. Что касается французских романтиков (Гюго, Виньи, Мериме, Мюссе, ранний Бальзак, отчасти Стендаль), то они, с одной стороны, увлекались «экзотическими» странами (например, «Рене» и «Атала» Шатобриана, где действие происходит среди североамериканских индейцев, «Ган Исландец» Гюго, «Гусли» и «Кармен» Мериме и др.), а с другой — отдали солидную дань историчеческому роману («Собор Парижской богоматери» и «93-й год» Гюго, «Стелло» и «Сен-Map» Виньи, «Хроника времен Карла IX» Мериме, «Шуаны» Бальзака). Так что решительный поворот к «своей», французской современности и к социальной проблематике был в свое время новшеством, важным завоеванием формирующегося реализма.
Каким же может быть смысл обращения к чужому времени и чужому пространству? Ясно, что годного на все случаи ответа быть не может: мы знаем, что смысл всегда зависит от коммуникативной ситуации как в жизни, так и в искусстве.
Чужие, экзотические края регулярно возникают в литературе, начиная с античных времен («Одиссея») и вплоть до наших дней, прежде всего как место, где случается необычное, как пространство приключений, куда попадает и откуда потом возвращается (или не возвращается) герой. Первоначально это было, как правило, пространство фантастическое, географически не локализованное, полное опасностей, населенное чудовищами, нечистой силой, дикарями, разбойниками, пиратами. Такое пространство характерно для волшебной сказки, легенды (в частности, для некоторых Chansons degeste), житий святых, а также для позднегреческого авантюрного романа, средневекового рыцарского романа и т.д. Постепенно чужое пространство теряет свои фантастические черты, приобретает географическую определенность. В XVIII—XIX вв. дальние страны являются почти непременным атрибутом приключенческого романа (достаточно вспомнить Жюля Верна). В наше время мы присутствуем при возрождении фантастики, но уже на новой, научной (или псевдонаучной) основе.
Рассказ о необычайных приключениях в экзотических краях, помимо иных своих функций, которые, естественно, могут быть очень различны (ср., например, жития святых и современный научно-фантастический роман), в принципе может удовлетворять естественную потребность в экзотике, стремление к выходу из повседневности, тем более что пространство, где происходят приключения (а порой и чудеса), в реальной жизни, как правило, недоступно для читателя или слушателя. С другой стороны, иные, часто целиком придуманные миры, нередко используются для того, чтобы дать остраненный образ своей действительности, показать какие-то ее уродливые черты — таков общий смысл «Путешествий Гулливера» Свифта или «Острова пингвинов» Анатоля Франса (последний роман представляет собой своеобразную карикатуру на историю западной цивилизации). Наконец, в литературе романтизма экзотические страны служили материалом для освоения так называемого местного колорита — средств передачи национально-культурного своеобразия, что в те времена было новшеством. Поиск местного колорита здесь часто совмещается с поиском естественного, не испорченного цивилизацией человека; последнее имеет место у Шатобриана, отчасти у Мериме в «Кармен», у Стендаля в «Итальянских хрониках» и в «Пармской обители», у Пушкина в «Цыганах» и у ряда других.
Кроме того, в современной литературе, в том числе и во французской, появляются произведения, действие которых происходит в других странах, но при этом лишенные или почти лишенные авантюрно-экзотической установки (романы А. Мальро, прежде всего «Надежда», «Закон» Р. Вайяна, «Состояние дикости» Ж. Коншона и многие другие). В них отражаются контакты культур, процессы, происходящие в современном мире, в частности революционный процесс («Надежда» посвящена, например, гражданской войне в Испании), положение в развивающихся странах и т.п.
Обращение к другой эпохе в рамках своей культуры отражает чаще всего естественный интерес к национальной истории. Такой интерес часто возникает после какого-то большого исторического события и отвечает потребности не только осмыслить само это событие, но и выявить его истоки. Так, исторические романы французских романтиков, о которых упоминалось выше, отчасти представляли собой попытки понять, какие же процессы в прошлом привели в конечном свете к революции.
С другой стороны, литература, как известно, может обращаться и к будущему — это характерно в первую очередь для современного научно-фантастического романа. Этот жанр отражает естественное человеческое стремление предугадать грядущее, попытаться понять, к чему могут привести сегодняшние тенденции в развитии человечества (если, конечно, будущее не служит здесь простой декорацией для сногсшибательных авантюр космических суперменов, т.е. современным вариантом экзотического пространства приключенческой литературы 4).
Кроме общих, наиболее типичных решений вопроса о пространственных и временных границах фабулы, можно обнаружить случаи, когда указанные оппозиции как бы нейтрализуются. Такая нейтрализация имеет место тогда, когда эпоха и национальная культура (если она вообще определена) воспроизводятся сугубо условно, в частности, с явными преднамеренными или непреднамеренными анахронизмами. Так, если формально французская классическая трагедия обращается к историческому и «чужеземному» материалу, то по существу оппозиции теперь / когда-то и здесь / где-то в ней нейтрализуются в силу присущего классицизму стремления к всеобщности, универсальности. Точнее, для классицизма эти оппозиции практически не существуют, поскольку и Федра, и Ипполит, и Андромаха, и Пирр, и Гораций, и Куриаций, и Цинка, и Август мыслятся не столько как древние греки и римляне, сколько как люди вообще, так сказать, чистые инварианты героических персонажей, которые единственно достойны высокой литературы. Объективно же, для последующих поколений, герои классической трагедии — не древние и не люди вообще, а «маркизы в напудренных париках», по выражению Стендаля, т.е. люди XVII в., современники Корнеля и Расина.
Последнее, однако, выясняется лишь тогда, когда мы смотрим, как они действуют и как говорят, т.е. обращаемся к другим аспектам фабулы и к стилю. Из этого следует, что вопрос о пространственно-временных рамках фабулы достаточно сложен: формальная датировка и формальная локализация действия могут вступать в противоречие с самим действием и с поведением персонажей, и окончательное решение вопроса невозможно на первом этапе анализа, специально ему посвященном. Вообще предлагаемый здесь путь истолкования текста отличается той особенностью, что каждый последующий этап добавляет нечто более или менее существенное к тому, что было добыто на предыдущем этапе, так что окончательные результаты могут быть получены только, в самом конце пути. Это прямо вытекает из системного характера художественного текста, все элементы которого взаимообусловлены.
В заключение этого параграфа — два слова о пространственно-временных рамках мопассановского рассказа «В полях», с которым, мы, надеемся, читатель уже ознакомился. Совершенно ясно, что действие здесь происходит в современную автору эпоху, это вытекает прежде всего из того, что никаких указаний на временную дистанцию здесь нет, а также из реалий и поведения персонажей (последнее, впрочем, вполне ясно было современникам Мопассана, а не нам). Далее, не подлежит сомнению, что перед нами Франция, и, более того, если хорошенько вчитаться в текст, можно определить, что действие происходит в Нормандии — во-первых, в тексте есть указание, что деревня находится недалеко от курортного города, а во-вторых, крестьяне разговаривают на нормандском диалекте. Впрочем, здесь мы уже забегаем вперед. Пока остановимся на этом.
§ 46. Социальное пространство
Подобно тому как события, составляющие фабулу, развертываются в каких-то хотя бы формально определенных пространственно-временных рамках, они практически всегда имеют определенный социальный адрес: персонажи, как правило, приурочены к какой-то группе, являются носителями каких-то социальных статусов, причем последние чаще всего прямо названы в тексте. Так, уже в «Илиаде» и «Одиссее» каждый сколько-нибудь заметный персонаж получает социальную характеристику: Одиссей — царь Итаки, Гектор — троянский принц, Ахилл — сын Пелея, царя мирмидонян.
В средневековой французской литературе почти всегда указано, «кто есть кто», даже в «Романе о Лисе», где действуют животные, многие из них имеют определенный социальный статус: лев Нобль — король, медведь Брён — крупный феодал, волк Изенгрим — рыцарь среднего достатка, осел Бодуэн — придворный проповедник и т.д. Если же статус персонажа прямо не назван, он большей частью легко выводится из окружающих его реалий и из его поведения.
Все это тем более верно применительно к литературе нового и новейшего времени: трудно назвать персонажа эпического произведения, о социальном положении которого мы не могли бы сказать совсем ничего. Есть, правда, весьма многочисленные выбившиеся из социальной иерархии герои (например, Жиль Блаз у Лесажа или основные персонажи «Манон Леско» аббата Прево), но неопределенность или двойственность их социального статуса тоже социальная характеристика.
Поскольку в фабуле обычно имеется не один, а несколько персонажей (от двух до многих десятков и даже сотен), обладающих определенными социальными статусами и связанных определенными социальными отношениями, мы можем говорить о социальном пространстве текста. Социальное пространство — это тот круг, к которому принадлежит большинство персонажей и в котором развертывается действие.
В произведении может быть одно социальное пространство, это характерно, в частности, для классической трагедии и классической комедии, а также для произведений малых жанров, в частности для короткого рассказа. Но в романе их обычно бывает несколько. Так, в «Красном и черном» Стендаля перед нами последовательно провинциальная полукрестьянская-полуремесленная семья (отец Жюльена Сореля держит лесопилку), провинциальная дворянско-буржуазная среда (г-н де Реналь и его окружение, «высшее общество» Верьера), духовенство (семинария) и, наконец, высшая парижская аристократия (дом маркиза де ля Моля). Как правило, несколько социальных пространств, зачастую контрастно противостоящих друг другу, бывает в романах Бальзака (здесь достаточно вспомнить хотя бы «Отца Горио»). Читатель сам легко найдет другие примеры.
Но и тогда, когда в произведении изображается лишь один социальный круг, там достаточно часто оказывается персонаж, изначально принадлежащий к какому-то другому кругу. Почему — об этом будет сказано ниже. А проиллюстрировать это положение можно множеством примеров. Кстати, очень хороший пример дает рассказ Мопассана «В полях»; здесь основное социальное пространство — крестьяне, нормандская деревня, но во всей истории важную роль играют и богатые люди из города, которые приезжают в легкой коляске. Сходная в этом смысле ситуация обнаруживается в «Евгении Гранде» Бальзака, где в провинциальном, глубоко патриархальном буржуазном доме Гранде вдруг оказывается человек совсем иного круга и иного воспитания — кузен Шарль. Пример совсем из другой эпохи, уже из советской литературы — питерский рабочий Давыдов в донском казачьем хуторе («Поднятая целина» Шолохова).
Хотя в принципе автор волен изображать любую социальную среду, в каждой национальной литературе в каждую эпоху обнаруживаются определенные тенденции выбора, а иногда и жесткие, вполне эксплицитные нормы, связанные с теми или иными жанрами. Так, в теории и в художественной практике классицизма «высокие» жанры (трагедия, эпическая поэма, ода) четко противопоставлялись «низким» (комедия, сатира) не только по собственно эстетическим признакам, но и по изображаемому социальному пространству. «Материал для «высоких» жанров давал двор, жизнь и деяния монархов, принцев и высшей знати. Материал для «низких» жанров давал «город», т.е. жизнь и нравы городского населения» 5.
В значительной степени на основании специфики социального пространства возник в XVIII в. новый жанр, так называемая буржуазная драма, теоретиком которой был Дидро. Роман в эту эпоху тоже рассматривается, по определению Гегеля, как «буржуазная эпопея», и это определение в общем справедливо — в европейской литературе XVII—XVIII вв. (не говоря уже о более поздних временах) роман развивается как жанр демократический, свободный от сословных и иных ограничений классицистической поэтики.
Однако, несмотря на свою относительную демократичность, и роман (французский роман) все-таки всегда отдавал и до сих пор отдает предпочтение привилегированным, во всяком случае, образованным классам. Наиболее распространенным героем «серьезного» французского романа на современную тему остается интеллигент, человек мыслящий. И это естественно: ведь интеллектуальная литература обращается к интеллектуалам. Остальные же либо вовсе не читают, либо довольствуются глянцевыми журналами и детективами. Последних, впрочем, не чураются и образованные люди, удовлетворяя тем самым свой интерес к экзотическому для них социальному пространству и потребность в интеллектуальной игре.
Социальное пространство, к которому приурочены персонажи и действие, важный аспект фабулы, но не следует абсолютизировать его значение и подходить ко всем текстам прежде всего с социологических позиций. Сказать, что «Андромаха» — пьеса из жизни легендарных древнегреческих царей и героев, значит не сказать по существу ничего именно об этой трагедии Расина, потому что это характеристика не данного текста, а жанра и эпохи; никакого индивидуального своеобразия здесь нет, гораздо существеннее для Расина, например, то, что в центре его трагедий стоят, как правило, женские образы.
Социологическая оценка фабулы плодотворна и интересна там, где она актуальна для самого автора и читателей-современников. Так, например, социальная характеристика среды и героев имеет большое значение в реалистической литературе. В исследовании социального бытия и социально обусловленной психологии разных слоев тогдашнего общества заключается пафос творчества Бальзака. Позже Золя фактически впервые ввел во французскую литературу рабочий класс. Вот такие случаи, когда социальная принадлежность героев оказывается нетрадиционной, когда автор открывает для литературы или хотя бы только для себя и для своих читателей какие-то новые общественные группы, представляют наибольший интерес для интерпретации текста.
Как с этой точки зрения обстоит дело в новелле Мопассана? Исторические обстоятельства сложились так, что, в отличие от русской литературы XIX в., которая была тесно связана с деревней (достаточно назвать Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Л.Н. Толстого), французская литература активно осваивала городское пространство и долгое время почти совершенно игнорировала деревенское. Первый серьезный шаг в деле художественного освоения деревни сделал Бальзак своим поздним романом «Крестьяне». Таким образом, крестьянские новеллы Мопассана представляли собой если не открытие, то во всяком случае освоение малоисследованного тогда материала. Этим и определяется значимость выбора социального пространства в рассказе. Существенно, что крестьяне здесь изображены именно в своем, деревенском пространстве, по отношению к которому городское выступает как чужое, неизвестное. Итак, своя страна, своя эпоха, почти не исследованное социальное пространство — все это художественные решения, типичные для реализма.
§ 47. Противоречие как источник действия и членение фабульного пространства
Итак, мы рассмотрели возможные ответы на вопрос кто? в одном, социологическом аспекте. Этим аспектом характеристика героя и остальных персонажей отнюдь не исчерпывается; однако, прежде чем говорить о других сторонах этого компонента фабулы, необходимо рассмотреть ряд вопросов, связанных с самим действием, ведь персонажи имеют смысл и интересны нам в первую очередь как актанты, субъекты каких-то деятельностей, какого-то поведения. Человек определяет себя в действии, это верно и в жизни, и в литературе.
Как было сказано выше, практически любая фабула сводится к тому, что с человеком или с людьми происходит что-то интересное. А что бывает интересно читателю? Интересное в литературе должно быть созвучно тому, что волнует людей в жизни.
В жизни нас волнуют прежде всего противоречия, конфликтные ситуации с заранее неизвестным исходом. В этом, видимо, психологический смысл и интерес таких сугубо условных и отвлеченных от реальной жизни зрелищ, как футбольный и хоккейный матчи. Почему игрокам интересно играть, а зрителям — смотреть? В конце концов, от того, что мяч (шайба) пересечет или не пересечет какие-то условные линии и сколько раз это произойдет, в практическом плане ровно ничего не изменится! Игра интересна лишь потому, что она моделирует жизнь, жизненные конфликты, противоборства с их напряжением, их перипетиями, неожиданными поворотами. Так и в литературе — нам интересны человеческие противоречия и пути их преодоления. Поэтому в основе фабульного построения эпических текстов всегда какой-то конфликт, какая-то коллизия.
К этому можно добавить еще одно соображение. Если, как об этом говорилось выше, искусство несет гармонию в мир, преодолевает хаос, дает образ закономерного мира, то вполне естественно, что фабула строится вокруг какого-то «беспорядка», какого-то противоречия, которое вначале возникает, а затем закономерно разрешается. Готовая, а не добытая (причем дорогой ценой!) гармония не убеждает, нужно, чтобы она спорила с хаосом и побеждала.
Коллизия, лежащая в основе фабулы, как правило, имеет общественное — в широком смысле слова — значение. Интересен не сугубо единичный случай, не то, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем (у Гоголя это пародия на настоящий конфликт 6), а что-то такое, что может произойти со многими. Поэтому часто за героем — субъектом конфликтной ситуации — стоит какая-то группа, какой-то тип людей или тип отношения к миру, какое-то «пространство» (в том числе нередко, но далеко не всегда, социальное), противопоставленное другому. Как пишет Ю.М. Лотман, «в основе внутренней организации элементов текста, как правило, лежит принцип бинарной семантической оппозиции: мир будет члениться на богатых и бедных, своих и чужих, правоверных и еретиков, просвещенных и непросвещенных, людей Природы и людей Общества, врагов и друзей. В тексте эти миры... почти всегда получают пространственную реализацию: мир бедняков реализуется как «предместья», «трущобы»,: «чердаки», мир богачей — «главная улица», «дворцы», «бельэтаж». Возникают представления о грешных и праведных землях, антитеза города и деревни, цивилизованной Европы и необитаемого острова, богемского леса и отцовского замка» 7.
Как, на какие пространства членится микрокосм фабулы и соответственно какого рода конфликты в нем являются ведущими, составляет очень важную характеристику текста. Мы уже говорили в предыдущем параграфе, что социальная характеристика героев и среды имеет первостепенное значение для реализма, и в этом смысле рассказ Мопассана «В полях» дает классический пример двух противопоставленных друг другу социальных пространств — деревенского и городского. Но, как видно уже из только что приведенной цитаты, общее фабульное пространство текста может члениться и на совершенно иных основаниях. Так, например, пространство русской волшебной сказки отчетливо делится на два подпространства: «дом» и «лес» 8; в «Илиаде» противостоят друг другу греки (ахейцы) и троянцы; в «Песни о Роланде» — франки и сарацины; в «Окассене и Николетт» влюбленные (и те, кто им помогает) противостоят враждебному любви миру, в «Манон Леско» мир плутовства противостоит миру «порядочных людей», а в «Госпоже Бовари» романтические фантазии героини сталкиваются с буржуазной и вдобавок провинциальной повседневностью; в романах Мориака мир обычно членится на одержимых (ardents) и равнодушных (tièdes), но к этой оппозиции добавляется другая, более поверхностная, — между верующими и неверующими.
Вообще простая бинарная оппозиция далеко не всегда охватывает с достаточной полнотой структуру фабульного пространства текста, особенно если речь идет о произведении большом, многоплановом; да и в небольшом рассказе, как мы увидим чуть ниже, система противопоставлений бывает достаточно сложной. Кроме того, первоначальное деление фабульного пространства в ходе развития действия может быть опровергнуто, снято и заменено другим. Так, например, в «Современной истории» Анатоля Франса противопоставление монархистов республиканцам, вначале представляющееся основным, постепенно снимается и заменяется тем, которое отражает поляризацию французского общественного мнения в период дела Дрейфуса: с одной стороны, националисты, реакция, включающая как заговорщиков-монархистов, так и представителей высшей республиканской администрации, а с другой — прогрессивные силы страны; причем в трактовке Анатоля Франса реакционеры, как правило, глупы и слепы, рабы инстинктов и предрассудков, а прогрессисты, дрейфусары — мыслящие, внутренне свободные люди.
Важно понять, что членение фабульного пространства, т.е. задаваемая текстом система противопоставлений отдельных персонажей, людских групп, идей, принципов, мироощущений, — это одна из основополагающих характеристик произведения, в которой непосредственно проявляется авторский взгляд на изображаемый отрезок действительности и на мир в целом. И очень существенно, что эти оппозиции не навязываются писателю извне — автор должен сам выявлять и воплощать в фабуле ведущие противоречия, точно так же как он сам выбирает внешние рамки и социальное пространство действия.
Итак, на этом этапе интерпретации текста нам необходимо понять, во-первых, кто, кому (или чему), по какому признаку противостоит и, во-вторых, что значит, что авторское членение фабульного пространства именно таково.
Рассмотрим с этой точки зрения выбранный нами текст Мопассана. Как уже было отмечено, в этом тексте обнаруживается прежде всего четкая оппозиция двух социальных пространств: деревенского (оно же пространство бедняков) и городского (в данном случае пространство богатых и праздных людей). Реалистический и демократический характер такого членения фабульного пространства очевиден. В предыдущем параграфе мы говорили также, что для того времени изображение крестьянской среды было в известной степени новаторством. С другой стороны, мотив столкновения людей городской культуры с «людьми природы» во французской (да и не только во французской) литературе был уже в то время глубоко традиционным.
Но это столкновение не определяет собой всю фабулу, хотя и лежит в основе действия (в том смысле, что все начинается с него); ведь с определенного момента возникает новое противопоставление уже внутри крестьянского пространства — вражда между двумя семьями, а затем, в самом конце, конфликт внутри одной из семей. Эта вражда (а затем и внутрисемейный конфликт) возникает на этической основе: одна из семей считает, что соседи поступили аморально, уступив за деньги своего ребенка людям из города. К этой ссоре мы еще вернемся, а сейчас важно отметить сам факт того, что Мопассан, преодолевая традиционную схему, изображает крестьянское пространство, изнутри — не только внешнюю противопоставленность его городскому, но и его внутренние конфликты.
§ 48. Герой
Итак, в каждом эпическом тексте обнаруживается более или менее сложное членение фабульного пространства. Но оно существует не само по себе, а воплощается в персонажах — они выступают как носители разных противостоящих друг другу или совпадающих друг с другом статусов, позиций, устремлений.
Персонажи, если их несколько, обычно не одинаковы по степени внимания, которое им уделяется в тексте, и по той роли, которую они играют в событиях. Как правило, в каждом произведении имеется один или несколько персонажей, которые являются ведущими и по тому, и по другому признаку — героем или героями; рядом с ними есть персонажи второго плана, также играющие более или менее активную роль в развитии действия, но не стоящие в центре внимания автора и читателей; и, наконец, есть персонажи третьестепенные, более или менее эпизодические, играющие в основном роль окружения по отношению к герою или героям. Конечно, это деление не абсолютно: в большом романе, где сплетается несколько фабульных линий, персонажи могут меняться функциями — герой одной из линий может оказаться второстепенным персонажем в другой и наоборот; в таких отношениях находятся, например, Пьер Безухов, Андрей Болконский и Наташа Ростова.
Второстепенные персонажи занимают различные позиции по отношению к герою: одни выступают как союзники или помощники, другие — как противники 9; нередко встречаются ложные друзья (предатели) и неожиданные союзники (например, в «Капитанской дочке» соответственно Швабрин и Пугачев). В текстах с любовной интригой обязателен персонаж, воплощающий желаемое. Один персонаж может совмещать или выполнять последовательно две (и более) функции, например, сначала союзник, а потом противник, или наоборот.
Герой произведения (для простоты будем рассматривать наиболее распространенный случай, когда герой один) — это тот персонаж, о котором сообщается все существенное (с точки зрения данной фабулы), тот, кто чаще всех остальных выступает темой (в лингвистическом смысле слова) повествования. В рассказе о судьбе других, даже важных персонажей, тесно связанных с героем, могут быть пробелы, которые мы воспринимаем как нечто естественное; в судьбе же героя никак не заполненных больших лакун обычно не бывает.
Строго говоря, выбор героя — область не только фабулы, но и сюжета: если два персонажа играют в фабуле примерно одинаковую по важности роль, героем в принципе можно сделать как того, так и другого. Теоретически рассуждая, можно было бы переписать «Анну Каренину» или «Адольфа» Бенжамена Констана так, чтобы героями были соответственно не Анна и Адольф, а Вронский и Элеонора. Подобная трансформация, называемая конверсией, широко распространена в естественных языках: одну и ту же референтную ситуацию, где имеется не меньше двух актантов, можно описать при помощи минимум двух различных предложений, сделав темой (и одновременно подлежащим) либо одного, либо другого: Jean a vendu à Pierre son vélo ↔ Pierre a acheté à Jean son vélo 10. Первая фраза как будто взята из рассказа о Жане, а вторая — из рассказа о Пьере. Конечно, в результате такой трансформации вместо «Анны Карениной» получилось бы совершенно другое произведение, что лишний раз доказывает важность точки зрения повествователя. Но об этом позже.
Помимо того, что герой находится в центре авторского и читательского внимания, он обладает следующими свойствами:
1) герой — основной субъект конфликтной ситуации (коллизии), тот, кого исходное противоречие касается наиболее непосредственно; по определению В.Я. Проппа, герой — это человек, ощущающий «какую-то недостачу» 11; действительно, если понимать «недостачу» достаточно широко, то под эту формулу можно подвести любого литературного героя (читатель сам легко подберет примеры);
2) герой, как правило, активен, он является действователем, «агенсом» семантической структуры текста — отчасти поэтому он и находится в центре внимания; этот признак, однако, менее обязателен, чем первые два.
Интересную точку зрения высказывает по этому поводу Ю.М. Лотман. Он делит всех персонажей на два класса: неподвижных, привязанных к своему пространству, и подвижных; герой-действователь как раз и отличается подвижностью, обусловленной тем, что между ним и окружающим его пространством устанавливаются «отношения отличия и взаимной свободы» 12. «Подвижный персонаж отличается от неподвижных тем, что обладает разрешением на некоторые действия, для других запретные. Так, Фрол Скобеев (герой русской повести XVII в. — К.Д.) обладает другой нормой поведения, чем люди его окружения: они связаны определенными нравственными нормами, от которых Фрол Скобеев свободен. С их точки зрения, Фрол «плут», «вор», и его поведение — «плутовство» и «воровство»... Действующий герой ведет себя иначе, чем другие персонажи, и он единственный имеет на это право. Право на особое поведение (героическое, безнравственное, нравственное, безумное, непредсказуемое, странное, но всегда свободное от обязательств, непременных для неподвижных персонажей) демонстрирует длинный ряд литературных героев от Васьки Буслаева до Дон Кихота, Гамлета, Ричарда III, Гринева, Чичикова, Чацкого» 13.
Сходную мысль, имея в виду прежде всего отличие героя от его окружения, высказывает В.Б. Шкловский: герой — «человек не на своем месте» 14 (хотя он-то, может быть, как раз на своем месте, только другим до поры до времени кажется, что не на своем).
К. большинству известных литературных текстов идея особенности героя, его отличия от окружающей среды прикладывается довольно хорошо; список, который дает Ю.М. Лотман, можно было бы пополнить целым рядом как русских, так и французских героев; среди них нашли бы место и Жюльен Сорель, и Растиньяк, и Люсьен Шардон, и Эмма Бовари, и Жорж Дюруа, и Саккар, и Эварист Гамлен, и Жак Тибо, и Мерсо — герой «Постороннего», и многие другие. Может быть, поэтому среди литературных героев относительно много плутов и карьеристов (из только что названных больше половины принадлежит к последней категории), ведь и те, и другие отличаются тем, что стремятся выбиться из первоначально окружающего их пространства.
Не исключено также, что этим объясняется молодость подавляющего большинства героев: молодости свойственна социальная и иная подвижность, поиск. Наконец, с этим, несомненно, связано то обстоятельство, что действие очень многих произведений начинается с приезда героя в какое-то новое, чужое для него место (характерно, что делающие карьеру герои французских романов XIX в. чуть ли не все провинциалы, приезжающие в Париж). Приезжий по определению является чужим, не таким как все, в том пространстве, где он оказывается.
§ 49. Еще о герое как субъекте конфликта
Однако сказанное в предыдущем параграфе о герое следует уточнить. В частности, нуждаются в уточнении два пункта: то, как герой соотносится со своей средой, и его подвижность, на которой настаивает Ю.М. Лотман.
По-видимому, изначальная непохожесть героя на его окружение, «отношения отличия и взаимной свободы» между ним и окружающим его пространством не являются абсолютным правилом. Вполне возможно фабульное построение, при котором до начала действия герой как раз ничем не отличается от остальных персонажей. Можно назвать целый ряд персонажей такого типа; их, в частности, немало у Мопассана: таковы, например, Жанна из романа «Жизнь», господин Лантен из рассказа «Драгоценности», Эктор де Гриблен, герой рассказа «Верхом». Таков, несомненно, Акакий Акакиевич Башмачкин из гоголевской «Шинели», есть такие и у Чехова («Смерть чиновника», «Верочка» и др.).
Другая, связанная с этой оппозиция может быть построена по признаку активности или, точнее, инициативности героя: действие либо завязывается по его инициативе, либо же события, так сказать, обрушиваются на него помимо его воли. Второе характерно в первую очередь для таких построений, где герой вначале не отличается от своей среды. Действительно, во всех только что названных текстах герой играет в основном пассивную роль — он лишь так или иначе реагирует на события, в которые оказывается вовлечен. Но такая пассивность может быть характерна и для «странных» героев, например для героя «Постороннего» Камю, которому все безразлично: есть с хлебом или без хлеба, остаться в Алжире или ехать в Париж, жениться или не жениться...
Между двумя названными полюсами возможны какие-то промежуточные ступени, например случай, когда конфликт возникает не по инициативе героя, но по его вине. Так, в авантюрной повести Апулея «Золотой осел» (II в. н. э.) герой превращается в осла, конечно, не по своей воле, а по случайности — он по ошибке выпивает не то снадобье; однако его злоключения толкуются в повести не как простая случайность, а как наказание за легкомыслие и сластолюбие. А вот пример из совсем другой эпохи — «Воскресение» Л.Н. Толстого, где в основе фабульного действия лежит давняя вина героя — Нехлюдова, в свое время соблазнившего горничную Катюшу Маслову.
Любопытно, что элементы чего-то, похожего на вину, какие-то поступки, если не вызвавшие конфликт, то во всяком случае способствовавшие его возникновению, нередко можно обнаружить и в поведении вполне, казалось бы, безупречных и заурядных героев из числа «униженных и оскорбленных». Так, в большинстве упомянутых выше произведений с пассивными героями — и в «Шинели», и в «Смерти чиновника», и в двух названных рассказах Мопассана — герои в какой-то мере нарушают заповедь «Не садись не в свои сани»: Акакий Акакиевич шьет себе шинель не по чину, герой «Смерти чиновника» берет кресло в первых рядах партера, где генералы сидят, господин Лантен женится на слишком красивой для него женщине, а Эктор де Гриблен позволяет себе роскошь взять напрокат верховую лошадь. И то, что с ними происходит — казалось бы, чисто случайно! — подчеркивает закономерность: в том мире, в каком они живут, для маленького человека даже такие отступления от нормы социального поведения могут оказаться фатальными.
Однако пассивность героя, не проявляющего собственной инициативы, не следует преувеличивать: ведь и тогда, когда он лишь реагирует на не зависящее от него изменение внешних обстоятельств, у него в большинстве случаев есть какой-то выбор: он может поступить так или иначе. И, осуществляя этот выбор, совершая какой-то поступок (в этом смысле отказ от действия тоже поступок), герой реализует тем самым свою свободу (пусть посмертную, как у Акакия Акакиевича), в которой воплощена творческая свобода автора. Если же все жестко предопределено заранее, то поведение героя теряет коннотативную значимость: то, что герой поступает так, не значит уже ровно ничего, поскольку иначе он и не мог поступить.
Итак, кто же из персонажей является героем, кому или чему он противостоит и в силу чего, как он соотносится со своим пространством — вот очередная серия вопросов, на которые надо ответить, если мы хотим понять фабулу текста. Рассмотрим с этой точки зрения новеллу Мопассана. Поскольку вопросы непростые, этому придется посвятить отдельный параграф.
§ 50. О герое рассказа Мопассана «В полях»
Прежде всего надо ответить на вопрос: кто же из персонажей является героем (героями)?
В начале рассказа на эту роль как будто могла бы претендовать дама из города: именно она тот человек, который остро ощущает определенную недостачу — ей нужен ребенок. Но, получив желаемое, она исчезает из нашего поля зрения и появляется, да и то на короткое время, лишь в конце. Вообще, как мы установили выше, основной объект изображения в новелле — крестьянская среда, причем изображается она изнутри, а не извне; следовательно, эпизодически появляющаяся дама на роль героя не годится.
Согласно концепции Ю.М. Лотмана, некоторые элементы которой мы изложили выше, относительная свобода и подвижность героя реализуются в том, что он пересекает запретную для всех остальных границу, разделяющую два подпространства текста: «Подвижный персонаж — лицо, имеющее право на пересечение границы. Это Растиньяк, выбивающийся снизу вверх, Ромео и Джульетта, переступающие грань, отделяющую враждебные «дома», герой, порывающий с домом отцов, чтобы постричься в монастыре и сделаться святым, или герой, порывающий со своей социальной средой и уходящий к народу, в революцию. Движение сюжета 15, событие — это пересечение той запрещающей границы, которую утверждает бессюжетная структура» 16.
Следуя этой концепции, надо было бы признать героем Жана Валлена — того самого, которого купили и увезли в город и который возвращается двадцать лет спустя в коляске, с золотой цепочкой от часов на жилете. Но он не может быть героем по тем же причинам, что и дама — его приемная мать. То есть он мог бы быть героем другого произведения, возможно целого романа, о том, как взятый из деревни мальчишка превращается в этого самого молодого человека с золотой цепочкой, как складываются его отношения с приемными родителями, что он думает о своем положении, как этот «человек не на своем месте» ощущает себя в городском мире, и т.д. Но рассказ-то не об уехавших, а об оставшихся в деревне!
Тогда, может быть, герой новеллы — тот мальчишка, которого не отдали (хотя могли отдать) и который в самом конце уходит из дома — «пересекает границу»? Это уже ближе к истине. Но для героя, он, пожалуй, слишком поздно появляется на авансцене.
Пожалуй, наиболее точный ответ будет звучать так: героями рассказа являются семьи, обе семьи. Хотя вначале они ровным счетом ничем не отличаются от окружения (и почти не отличаются друг от друга), они, и только они, обладают теми признаками, которые, согласно нашему определению, отличают героя от других персонажей: они все время в поле зрения, они суть субъекты конфликтной ситуации и они действуют, пусть не по своей инициативе, но совершая при этом акт свободного выбора, определенный поступок: одна семья отказывается уступить ребенка (а могла бы согласиться), а другая соглашается (а могла бы отказаться). Этим они и отличаются от окружения. Если уж надо выбирать между семьями, то та, которая отказалась, в несколько большей степени может рассматриваться как герой рассказа, поскольку больше, чем другая, «испытывает недостачу»: помимо материальной нужды, от которой другая семья избавилась, она остро переживает конфликт, который возник между семьями.
Что же значит, что Мопассан берет именно таких героев и именно так организует исходный конфликт? Каков художественный смысл этих авторских решений? Пока на эти вопросы ответить трудно, надо будет внимательно проанализировать развитие фабулы, поведение персонажей, его мотивы и конечный итог — развязку. Сейчас же можно сформулировать лишь сугубо предварительные соображения. Крестьяне как будто предстают в этом рассказе как пассивная и до поры до времени внутренне однородная среда — и движение, и внутренние противоречия возникают в результате контакта с городским пространством. Кроме того, тот факт, что герои — семьи, может навести на мысль, что, с точки зрения автора, крестьяне в их «естественном» состоянии, до контакта с городом, еще не заражены тем индивидуализмом, который разъедает городскую буржуазную семью.
Из сказанного в этом параграфе следует сделать два вывода, важных для понимания не только самого рассказа, но и структуры фабулы вообще:
1. Героем литературного произведения может быть не только отдельный человек, но и группа персонажей.
2. Среди персонажей художественного текста нередко встречаются «двойники» — люди (или группы), в ряде отношений очень сходные друг с другом, но различающиеся в каком-то одном, весьма существенном. Они как бы проигрывают два варианта одной и той же судьбы — «двойник» героя показывает, что могло бы получиться, если бы герой пошел по другому пути (как в рассказе, который мы рассматриваем), или своей схожестью и одновременно несхожестью с героем подчеркивает различие. Так, в нашем литературоведении высказывалась мысль, что если бы в «Герое нашего времени» не было Грушницкого, Печорин мог бы быть принят за него, т.е. за пародию на самого себя, тогда как он настоящий.
А в «Утраченных иллюзиях» Бальзак дает сразу три варианта судьбы поэта: это Люсьен Шардон, главный герой, Эжен Лусто, бывший поэт, ставший продажным журналистом, т.е. прошедший до конца тот путь, по которому Люсьен делает первые шаги, и Даниэль д'Артез, сохранивший в чистоте свой идеал.
§ 51. Типы коллизий
Противоречие, испытываемое героем и лежащее в основе фабульного действия, полезно охарактеризовать еще с одной точки зрения. Герой кому-то или чему-то противостоит — это ясно. Но при этом борется он с враждебными силами один (пусть даже поддерживаемый своими личными союзниками) и только за себя или же в составе какой-то большой социальной группы за ее интересы? Преследует ли он свои сугубо личные цели, или его цели в общем совпадают с целями группы?
Коллизии того и другого типа, индивидуальные и коллективные, частные и общественные, можно обнаружить в литературе самых разных эпох. Общественные конфликты характерны в первую очередь для произведений о войне и революции. Думается, что примеры приводить нет надобности — каждый легко найдет их сам. Ясно, что общественные коллизии в литературе могут нести самую различную идеологическую нагрузку. Они имеют большое общественное звучание в те исторические эпохи, когда впервые осознается или с особой силой вновь переживается общность интересов народа или класса. Можно предположить, что такое звучание должно было иметь «Слово о полку Игореве», в котором выражается сознание единства русского народа и формулируется призыв к объединению княжеств против общего врага. Нет необходимости специально говорить о той общественной роли, которую сыграла советская литература в годы Великой Отечественной войны, а также французская литература Сопротивления. А для развития общественного сознания в последней четверти XIX — начале XX в. огромное значение имели произведения, которые ввели в художественную литературу тему борьбы рабочего класса, такие, как «Жерминаль» Золя и «Мать» Горького.
Что касается сугубо частных коллизий, то их всегда было много во всех жанрах французской литературы (кроме, пожалуй, эпической поэмы). В XVII—XVIII вв. они особенно типичны для «буржуазных жанров» — комедии и романа, а в XIX в. решительно преобладают и в прозе, и в драматургии, независимо от того социального пространства, которое изображается. Все это легко, объяснимо, так как индивидуальные коллизии, когда герой борется только за себя, непосредственно отражают жизненные конфликты, типичные для дореволюционной буржуазной среды и утвердившегося буржуазного общества. Поэтому, в частности, так характерны для французского романа XIX в. герои-карьеристы, враждующие со всем миром.
Не было бы недопустимым упрощением считать, что сугубо частный конфликт в литературе всегда имеет своей подоплекой «буржуазный индивидуализм», иначе нам пришлось бы зачислить в буржуазные индивидуалисты и Гамлета, и Дон Кихота, и Ромео и Джульетту, и Анну Каренину, и князя Мышкина, и Жана-Кристофа, и многих других, без которых человечество было бы духовно неизмеримо беднее. Нельзя забывать и то, что частный конфликт может иметь большое общественное звучание; классический пример тому — постановка «Женитьбы Фигаро» в 1784 г. в Париже, ставшая настоящей предреволюционной манифестацией.
Если сугубо индивидуальный конфликт — явление частое, то общественные коллизии в чистом виде встречаются относительно редко, они, как правило, осложнены индивидуальными. Уже в «Илиаде» на фоне общего конфликта — Троянской войны — разыгрывается частный — между Ахиллом и Агамемноном (Агамемнон отнял у него пленницу Брисеиду, и обиженный Ахилл перестал сражаться на стороне ахейцев); В «Песни о Роланде» противостоят друг другу не только франки и сарацины (общественный конфликт), но и (внутри лагеря франков) безрассудно храбрый Роланд и благоразумный Оливье, не говоря уже о предателе Ганелоне, замыслившем погубить Роланда. Со своим окружением постоянно конфликтует Григорий Мелехов — и тогда, когда он с белыми, и тогда, когда с красными. В романе Р. Вайяна «Бомаск», где основной конфликт — борьба рабочих с хозяевами предприятия, и в том, и в другом лагере есть персонажи, в некоторых отношениях противостоящие своему окружению; к ним относится и главный герой, по имени (точнее, прозвищу) которого назван роман.
Другая оппозиция, в определенном смысле подобная только что описанной, может быть сформулирована так: является ли конфликт целиком внешним или же, хотя бы в какие-то моменты действия, также и внутренним? Борется ли герой только с другими или также с самим собой?
Герой сказки обычно не знает сомнений и во всяком случае не терзается внутренними противоречиями; то же можно сказать, хотя и с некоторыми оговорками, о типичном герое авантюрного романа. Но в произведениях более сложной структуры уже с очень давних времен внутренний конфликт если не обязательный, то во всяком случае частый элемент фабулы.
Конфликт между субъективными чувствами и устремлениями, с одной стороны, и долгом, с другой, — непременный атрибут трагедии; примером мог бы служить любой текст Расина или Корнеля из названных в § 45. Внутренний конфликт — явление, типичное и для «серьезного» романа нового и новейшего времени. Пожалуй, именно колебания и сомнения примиряют нас с героями-карьеристами и делают их интересными, в какой-то мере даже близкими нам: Жюльен Сорель, не знающий сомнений и не преодолевающий себя на каждом шагу, был бы отвратителен.
Почему нас привлекают внутренние противоречия литературных героев? Почему «железобетонный» герой, никогда не колеблющийся, не сомневающийся в правильности своих решений и не испытывающий угрызений совести, обычно не волнует? Возможно, это объясняется тем, что внутренние конфликты вообще свойственны человеку, во всяком случае, подавляющему большинству людей, и это самое сложное, с чем нам приходится сталкиваться. Кроме того, они, надо думать, универсальны: обстоятельства, в которых протекает внешняя, практическая деятельность героя и сама эта деятельность, могут быть нам глубоко чуждыми; но субъективное переживание любой деятельности и ее результатов, в частности внутренне противоречивый по самой своей природе процесс принятия решения, протекает по каким-то единым схемам у людей разных эпох и культур. Конфликт между чувством и Долгом, переживаемый трагическим героем XVII в., может быть понятен и близок читателю XX в. Общечеловеческое содержание литературного образа проявляется прежде всего на уровне душевных движений.
А теперь, как обычно, два слова о коллизии (или о коллизиях) в рассказе Мопассана. Прежде всего, сколько их? Будем считать, что три: между людьми из города и крестьянами, между двумя семьями и, наконец, между сыном и родителями. Забегая несколько вперед, скажем, что главная из них — вторая; первая выступает как предпосылка ее возникновения, а третья — как окончательное разрешение. Как главную, так и обе ей подчиненные следует рассматривать как частные, хотя героями выступают семьи (как было сказано выше, общественный конфликт характеризуется вовлеченностью в него большой социальной группы — народа, класса, коллектива предприятия, экипажа корабля и т.п.).
Эти коллизии в основном являются внешними, по крайней мере, таково первое впечатление. Лишь в первой коллизии присутствует намек на внутренний конфликт: Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. He исключено, однако, что в дальнейшем нам придется пересмотреть это суждение. Поэтому с выводами пока подождем.
§ 52. Развитие фабульного действия. Эпизод и его структура
До сих пор мы рассматривали некоторые общие аспекты фабульной структуры, характеризующие произведение в целом, и почти не говорили о развитии действия. Но ведь фабула — это, по определению, последовательность событий, движение, динамика. Вот этим мы теперь и займемся.
Конечно, в различных текстах происходят самые разные события и развиваются они по-разному. Однако, несмотря на все различия, можно наметить некую общую, инвариантную схему фабульного действия, по отношению к которой конкретные фабульные построения конкретных текстов выступают как варианты.
Прежде всего, необходимо определить минимальную единицу фабулы. Подобно тому как любой текст состоит в конечном счете из отдельных высказываний, фабула представляет собой последовательность некоторых состояний персонажей и происходящих с ними событий (под событием здесь понимается какое-то существенное изменение, переход от одного состояния к другому). События и состояния, статические и динамические мотивы, по Б.В. Томашевскому 17, и являются элементарными единицами фабульного построения. Ц. Тодоров называет такие единицы повествовательными предложениями 18 (естественно, что каждое «повествовательное предложение» может быть описано не одним, а множеством предложений в обычном, лингвистическом смысле этого слова).
Однако, как уже говорилось выше, протяженный текст складывается не непосредственно из отдельных высказываний, а из более крупных речевых блоков, и чем текст протяженнее, тем эти блоки крупнее и сложнее по структуре. Аналогичным образом фабула складывается не непосредственно из «повествовательных предложений» (мотивов), а из более крупных единиц, в которые объединяются отдельные состояния и события. Ц. Тодоров называет их эпизодами 19 (хотя обычно это слово и во французском, и в русском языке употребляется в несколько ином смысле). Эпизоды обладают относительной законченностью и в общем достаточно легко и единообразно опознаются читателем. Так, например, «Сказка о рыбаке и рыбке» естественно раскладывается на 6 эпизодов: 1) поимка рыбки и отказ от выкупа; 2) получение корыта; 3) получение избы; 4) получение дворянства; 5) получение царского сана; 6) возвращение к разбитому корыту. Такие «планы текстов» составляют еще в начальной школе.
Фабула короткого текста может состоять из одного эпизода, как, например, в басне «Ворона и лисица» (как у Крылова, так и у Лафонтена). Отсюда важный вывод: эпизод — это и есть элементарная, простейшая фабула, и, следовательно, задача построения инвариантной структуры фабулы в значительной мере сводится к задаче построения инвариантной структуры эпизода.
Согласно концепции Ц. Тодорова, каждый полный и законченный эпизод состоит из пяти «повествовательных предложений» (мотивов):
1. Относительно устойчивое положение вещей, имеющее место до начала действия.
2. Событие (действие некоторой силы), нарушающее равновесие.
3. Неустойчивое состояние, возникшее в результате (2) и требующее разрешения.
4. Событие (действие противоположной силы), восстанавливающее нарушенное равновесие.
5. Новое равновесие — относительно устойчивое положение вещей, подобное, но не тождественное исходному 20.
Попробуем приложить эту схему к любому очередному эпизоду «Сказки о рыбаке и рыбке». Очевидно, что все они, кроме первого, построены по одной схеме. Возвращаясь домой, старик видит, что очередное требование старухи исполнено; создавшееся положение в принципе устойчиво и могло бы продолжаться неопределенно долго (недаром в 5-м и 6-м эпизодах есть слова «Вот неделя, другая проходит»). Этот мотив соответствует первому повествовательному предложению данного эпизода и одновременно последнему предложению предыдущего; такое сцепление эпизодов в протяженном тексте — вещь достаточно обычная. Следующий этап (мотив) состоит в том, что старуха выдвигает очередное требование и вновь посылает старика к рыбке. Это то событие, которое нарушает равновесие — второе повествовательное предложение, по Тодорову. Обремененный очередным поручением, старик идет к морю, кличет золотую рыбку и формулирует просьбу — это типичное состояние неуравновешенности, требующее разрешения и допускающее как минимум два возможных исхода (согласится рыбка или откажет?). Согласие в эпизодах 2–5 и отказ в эпизоде 6 («Ничего не сказала рыбка, / Лишь хвостом по воде плеснула / И ушла в глубокое море») составляет четвертое повествовательное предложение эпизода — событие, восстанавливающее равновесие. И наконец, состояние, возникшее в результате этого события, — пятое, заключительное предложение.
Такое построение типично не только для литературно-художественного повествования, оно обнаруживается и в газетной заметке, сообщающей о каком-то событии (см., например, текст, приведенный в § 33), и в бытовом рассказе, и даже в «текстах» и эпизодах нашего повседневного существования (равно как и в тексте истории человечества). В самом деле, полученное письмо или взятое на себя обязательство в определенном смысле нарушает равновесие — последнее восстанавливается после того, как мы на письмо ответили, обязательство выполнили. Вопрос требует ответа (вообще, стимул — реакции), отправление — прибытия, уход — возвращения, труд — вознаграждения, преступление — наказания...
Но интересным, достойным если не литературного повествования, то хотя бы бытового рассказа, каждый такой эпизод становится лишь тогда, когда на пути от события 1 к событию 2 (от предложения 2 к предложению 4 в схеме Тодорова) возникают какие-то препятствия, в силу которых ожидаемое событие 2 либо вовсе не наступает (поезд так и не прибыл, преступление осталось безнаказанным), либо из банального, естественного факта превращается в подлинное событие — то, что произошло, хотя могло и не произойти (несмотря на все препятствия, поезд все-таки прибыл, преступление все-таки не осталось безнаказанным). То есть, как мы уже говорили выше, интересно такое стечение обстоятельств, исход которого заранее не предопределен.
Из сказанного вытекает, что важнейшими в структуре эпизода (литературного или жизненного, все равно) являются события, динамические мотивы (предложения 2 и 4, по Тодорову) — завязка и развязка в традиционной литературоведческой терминологии; состояния же (предложения 1, 3 и 5) суть естественные предпосылки и следствия событий. Именно поэтому состояния нередко остаются «за кадром», особенно начальное и конечное. Необходимо также учесть, что в тексте порядок следования повествовательных предложений, составляющих эпизод или фабулу в целом, может быть изменен. Об этом речь пойдет ниже.
§ 53. От эпизода к фабуле
Из сказанного в предыдущем параграфе следует еще один важный вывод: подобно понятию текста (см. выше, § 34), понятие эпизода относительно — границы эпизода, вообще членение фабулы на эпизоды зависят от принятого исследователем масштаба. Так, в 5-м эпизоде «Сказки о рыбаке и рыбке» предложение 2 (старуха в очередной раз посылает старика к рыбке, чтобы та сделала ее вольною царицей) само представляет собой «микроэпизод»: ведь старик мог и отказаться! Он и пытается спорить, но в конце концов смиряется — последний мотив является развязкой этого микроэпизода.
Но если выделенный на каком-то среднем уровне эпизод поддается расчленению на эпизоды более низкого ранга, то, очевидно, возможна и противоположно направленная операция — стягивание нескольких эпизодов среднего уровня в один более высокого ранга. В конечном счете, не всегда, но достаточно часто вся фабула может быть представлена как единый эпизод, также состоящий из пяти «предложений». Применительно к «Сказке о рыбаке и рыбке» это может выглядеть так:
1. Жизнь героев до начала событий — от «Жил старик со своею старухой» до «Старуха пряла свою пряжу» (интересно, что эти строки не входят непосредственно ни в один из шести эпизодов). Это типичное для начала состояние равновесия.
2. Поимка рыбки и получение волшебной возможности удовлетворить любое (?) желание — событие, нарушающее начальное равновесие, завязка. Соответствует эпизоду 1 (до «Гуляй там себе на просторе»)
3. Возникшее в результате получения волшебной возможности состояние неравновесия с неопределенным исходом: как герои используют эту возможность? К чему это приведет? Это состояние охватывает эпизоды 2–5.
4. Старуха требует невозможного и в результате теряет все ранее приобретенные блага — событие, кладущее конец состоянию неопределенности, развязка. Соответствует эпизоду 6.
5. Конечное состояние — землянка и разбитое корыто, — как будто тождественное начальному, но отличающееся от него тем, что наступило после возвышения: возможности упущены, причем по собственной вине.
Теперь рассмотрим структуру фабулы рассказа Мопассана. Будем действовать в том же порядке, в каком рассматривали фабулу пушкинской сказки: сначала отдельные эпизоды, из которых она складывается, а затем общую структуру.
В рассказе четко выделяются два основных эпизода: один охватывает все, что происходит с момента первого появления людей из города до того момента, когда они увозят Жана Валлена, а второй имеет своим основным содержанием появление Жана Валлена двадцать лет спустя и все, что за этим последовало. При ближайшем рассмотрении первый эпизод распадается на два, имеющих сходную структуру:
I.1.1. Периодические появления госпожи д'Юбьер с мужем, ставшие привычными.
2. Неожиданное предложение госпожи д'Юбьер семейству Тюваш — завязка эпизода.
3. Переговоры; короткий момент неопределенности: отдадут? Не отдадут?
4. Окончательный отказ — развязка эпизода.
5. Состояние после отказа — госпожа д'Юбьер с еще большей силой, чем до начала действия, «испытывает недостачу».
I.2.1. Состояние, возникшее в результате отказа соседей отдать ребенка (I.1.5).
2. Предложение господина д'Юбьера другой семье — завязка эпизода.
3. Момент неопределенности.
4. Согласие Валленов и оформление договора — развязка эпизода.
5. Господин и госпожа д'Юбьер увозят Жана Валлена; оба семейства остаются.
Теперь рассмотрим второй эпизод.
II.1. Двадцатилетнее состояние вражды между соседями — результат I.1. и I.2.
2. Появление молодого Валлена в легкой коляске после двадцатилетнего отсутствия и сердечная встреча с родителями. Для Валленов это развязка, причем счастливая.
3. Момент неопределенности: как же будут реагировать соседи?
4. Бунт молодого Тюваша и его уход.
5. Родители остаются одни (это уже «за кадром»).
Как и действие «Сказки о рыбаке и рыбке», всю фабулу рассказа легко можно представить в соответствии с той же пятичастной схемой:
1. Жизнь обеих семей до начала действия; это начальное положение вещей подробно описано в большом куске текста, не входящем, строго говоря, ни в один эпизод.
2. Обе семьи поочередно получают предложение продать ребенка людям из города; одна семья отказывается, другая соглашается (эпизоды I.1 и I.2).
3. Состояние неравновесия: кто же прав? Что выйдет из этой странной сделки?
4. Благополучное возвращение Валлена и бунт молодого Тюваша.
5. Конечное состояние, итог: тот, которого продали людям из «чужого пространства», благополучно возвращается в обличье богатого господина из города (как Иванушка-дурачок, ставший царевым зятем), а тот, которого не отдали, бросает престарелых родителей и уходит куда глаза глядят.
Операция, которую мы произвели с фабулой «Сказки о рыбаке и рыбке» и «В полях», аналогична тому, что в лингвистике текста называют свертыванием. Считается, что путем свертывания можно выявить основную мысль текста, его «концепт» (если, конечно, свертывание проведено корректно). Это справедливо применительно к нехудожественному тексту; но когда мы имеем дело с произведением художественной литературы, сведение фабулы к простой схеме — это лишь промежуточный этап интерпретации, потому что, во-первых, содержание текста отнюдь не сводится к фабуле и, во-вторых, сама эта схема никак не исчерпывает содержания фабулы.
Но в таком случае зачем она вообще нужна? Смысл этой операции выявится в полной мере, когда мы займемся сюжетом. Однако уже сейчас можно сказать: сведение фабулы к абстрактной схеме полезно тем, что выявляет общее направление действия. Моряку (а также тому, кто идет по его следам) нужны карты разного масштаба, в том числе и мелкомасштабные, не дающие подробностей, но охватывающие большие пространства акватории, — по ним прокладывается генеральный курс. Писателю такой картой служит план, который он обычно составляет до того, как садится писать. Мы же этот план вынуждены составлять сами, руководствуясь готовым текстом.
Итак, общее направление развития действия в рассказе Мопассана выявлено. Как же следует понимать рассказанную нам историю?
К ответу на этот вопрос мы еще не готовы хотя бы потому, что еще не пытались понять, почему действие развертывается так, а не иначе, и, в частности, что движет поступками персонажей. Пока мы можем констатировать только, что фабульное построение рассказа в известной мере нетрадиционно, так как на каждом новом этапе развития действия возникает новый, достаточно неожиданный конфликт с новыми участниками, который, однако, вполне естественно вытекает из предыдущего.
§ 54. О двух типах движения фабулы
В предыдущем параграфе было сказано, что достаточно часто вся фабула может быть представлена как единый эпизод. «Достаточно часто» — значит не всегда. Признак сводимости / несводимости фабулы текста к единой общей схеме помогает разграничить два типа фабульного построения, которые можно условно назвать недискретным и дискретным — по аналогии с двумя способами построения сложной фразы 21.
Начнем с дискретно организованной фабулы, так как этот тип проще и хронологически предшествует другому. Такая фабула строится как последовательность более или менее независимых друг от друга эпизодов, связанных друг с другом лишь единым героем. По выражению Г.Н. Поспелова, эпизоды сочетаются здесь по собственно временному, хроникальному принципу. «В волшебных сказках, в рыцарских и плутовских романах приключения героя в одном месте, в одних обстоятельствах сменялись его приключениями в других местах — при других обстоятельствах, и весь сюжет представлял собой «цепочку» приключений» 22. Типичный пример такого построения являет собой «Жиль Блаз» Лесажа. Фабула такого типа принципиально бесконечна — к уже имеющимся всегда можно добавить новые эпизоды. Аналогичным образом текст легко поддается сокращению — отдельные эпизоды можно убрать практически без ущерба для восприятия остальных. Поэтому дискретную фабулу можно также назвать открытой.
Ясно, что такое построение нельзя свернуть в один эпизод, подобно тому как мы это сделали со «Сказкой о рыбаке и рыбке» и рассказом Мопассана. Для открытой фабулы можно построить лишь очень абстрактную схему типа: «X был беден, но предприимчив; после ряда приключений он стал богатым и добился места в обществе». Нет нужды доказывать, что подобная схема не имеет реальной объяснительной силы.
Недискретная фабула — Г.Н. Поспелов называет ее концентрическим сюжетом 23 — отличается от дискретной наличием главного конфликта, которому прямо или опосредованно подчинены все важнейшие эпизоды, причем последние не просто сополагаются друг с другом, а сами строятся по иерархическому принципу. Главный конфликт, как правило, завязывается в начале произведения и получает свое разрешение в конце. При такой структуре фабульного действия механическое добавление или упразднение каких-то эпизодов уже невозможно — сама фабула как уровень текста обладает внутренней завершенностью (ср. выше, § 33). В силу этого такую фабулу можно назвать закрытой. Как закрытая фабула сводится к единому эпизоду, мы видели в предыдущем параграфе.
Не следует, однако, думать, что оппозиция «открытая фабула / закрытая фабула» носит абсолютный характер и позволяет легко разбить все реальные тексты на два класса. Закрытая фабула в чистом виде характерна лишь для драмы и для рассказа — все действие текстов этих жанров, как правило, легко укладывается в пятичастную фабульную схему. Что же касается фабулы романа, в том числе и романа современного, то она чаще всего сочетает в себе черты того и другого типа построения (с преобладанием закрытой фабулы в литературе XIX—XX вв.) и далеко не всегда поддается свертыванию.
Последнее отчасти объясняется тем, что, в отличие от рассказа и театральной пьесы, фабула которых обычно строится на одном конфликте, тянет одну линию действия 24, большой роман часто представляет нам не единую линию событий и состояний, а пространство, населенное множеством персонажей, в котором параллельно разыгрывается несколько конфликтов. В результате если фабулу таких романов, как «Милый друг» или «Госпожа Бовари», еще можно представить как единый «эпизод», то произведения, подобные «Войне и миру» или «В поисках утраченного времени», таким попыткам решительно противятся.
Из этого, однако, не следует, что попытки такого рода бесполезны: фабульная схема не самоцель, а один из способов постичь художественное своеобразие конкретного текста; это, как мы уже говорили, мелкомасштабная карта, позволяющая усмотреть генеральный курс и в сопоставлении с этим генеральным курсом оценить своеобразие реального пути развития действия.
§ 55. О жизнеподобии фабульного действия
Развитие фабульного действия и само фабульное пространство характеризуются еще одним важным признаком — теми законами, по которым совершаются события и живут персонажи, в частности степенью бытового правдоподобия происходящего.
Выше, в § 19, говоря об общих принципах речевого поведения, мы упомянули принцип правдоподобия, согласно которому содержание речи должно соответствовать присущему данной культуре представлению о том, что бывает и чего не бывает в мире. Однако принципиальная нереферентность художественной литературы и свобода, которой пользуется автор при конструировании фабулы, приводят к тому, что применительно к художественным текстам принцип правдоподобия отчасти теряет свою силу, — законы, действующие в фабульном пространстве текста, далеко не всегда совпадают с теми, которым подчиняется реальная жизнь.
Фантастические образы и мотивы — невиданные существа, невозможные ситуации, волшебные предметы, чудесные превращения, персонажи, наделенные сверхъестественными способностями, и т.д. и т.п. — широко представлены в литературе и в фольклоре всех времен и народов. Миф, волшебная сказка, героический эпос, народные сказания, жития святых, рыцарский роман, фантастический гротеск от Рабле до наших дней, социальная утопия, научная фантастика — вот далеко не полный перечень жанров, использующих невероятное и небывалое. Ясно, что художественный смысл фантастических образов и ситуаций в столь различных текстах не может не быть различным. В рамках нашего пособия невозможно даже вкратце осветить эту тему 25; поэтому мы ограничимся лишь некоторыми замечаниями и соображениями, касающимися главным образом литературы нового и новейшего времени.
В принципе во французской литературе, в отличие, например, от немецкой и англосаксонской, фантастический элемент используется преимущественно в игровом, условном ключе — он не рассчитан на то, что читатель всерьез поверит в него — и непосредственно сосуществует с реальностью в пределах одного и того же текста. Это характерно уже для творчества Рабле, в котором нашла свое выражение народная смеховая культура, старая карнавальная традиция сближения противоречий и снижения высокого 26.
Откровенно условными и подчиненными философской проблематике соответствующих текстов являются фантастические образы и мотивы в «Философских повестях» Вольтера. Два великана, обитатели Сириуса и Сатурна, из повести «Микромегас» и их путешествие в космическом пространстве нужны автору только для того, чтобы подчеркнуть мысль об относительности человеческих представлений о себе, о своей планете и о своей мудрости. Фантастическая страна Эльдорадо из повести «Кандид» — это типичная просветительская утопия, противопоставленная «цивилизованным» странам Старого и Нового Света, где царят жестокость, несправедливость и произвол. Само нагромождение невероятных приключений и случайностей в «Кандиде» служит автору аргументом в философском споре, в ходе которого разоблачается вселенский оптимизм и идея «божественного промысла».
Сходную функцию выполняет фантастика в таких романах Анатоля Франса, как «Остров пингвинов» и «Восстание ангелов». В частности, «Остров пингвинов» — это философский гротеск, пародия на историю, где «преступления, страдания и безумства», из которых, по выражению автора, складывается история любого народа, представлены в сатирически гиперболизированной форме, начиная с самой завязки: жители острова на самом деле даже не люди, а пингвины, по случайности ставшие людьми 27.
В таком же, в сущности, ключе написан якобы научно-фантастический, а по сути гротескно-философский роман П. Буля «Планета обезьян», описывающий полет на некую отдаленную планету, где люди — типичные представители «общества потребления» — настолько деградировали, что уступили свое место человекообразным обезьянам. По возвращении на Землю (как и полагается, согласно теории Эйнштейна, через 300 земных лет) герой с ужасом убеждается, что такая же эволюция постигла население нашей планеты ...
Несколько иначе используется фантастический элемент в творчестве М. Эме: в фабульное пространство текста вводится некое фантастическое допущение, а затем действие развивается в полном соответствии с «нормальной» логикой, по законам реальности. Так, в рассказе «Талоны на жизнь» воображен правительственный указ о введении карточной системы на время жизни (рассказ написан во время войны): «общественно бесполезным элементам» отводится, в зависимости от категории, от 10 до 20 дней в месяц, остальное же время они пребывают в небытии. Этот указ вполне закономерно порождает целый ряд непредвиденных и порой забавных, а порой и драматических ситуаций. В частности, возникает черный рынок, где «производительные элементы» (рабочие), нуждаясь в деньгах, продают свои талоны богатым людям, некоторые из которых ухитряются таким образом прожить 40, 50, 100 и даже тысячу дней в месяц. В конце концов правительство вынуждено отменить свой декрет. Очевидно, что здесь при помощи фантастической гипотезы исследуется вполне реальная действительность.
Вообще, если исключить архаические формы фантастики — те, что обнаруживаются в мифе, фольклорной волшебной сказке и т.п. — можно, видимо, утверждать, что нарушения жизненного правдоподобия в фабуле чаще всего выполняют функции, близкие к функциям тропов — гиперболы, метафоры, сравнения; сопоставляя рассказанные нам «странности» с реальной жизнью, мы по-новому смотрим на эту реальность, открываем за привычными формами ее проявления нечто неожиданное и часто нелепое. Короче говоря, в новой литературе фантастика выступает как остраненный образ действительности. И в этой функции она получает все более широкое распространение — достаточно вспомнить в этой связи так называемый «магический реализм» в латиноамериканской литературе (главным образом, в творчестве Г. Гарсии Маркеса), а также ряд произведений советской литературы, использующих элементы фантастики.
§ 56. Движущие силы фабулы
Из вопросов к фабуле, сформулированных в § 44 — кто? где? когда? что происходит? почему? — у нас пока остался почти незатронутым последний. Между тем этот вопрос имеет первостепенное значение для понимания смысла фабулы и текста в целом, поскольку движущие силы фабульного действия, включая в это понятие мотивы поступков действующих лиц, моделируют закономерности, управляющие миром вообще и человеческим поведением в частности. В этом аспекте, как и в большинстве остальных, реальные тексты являют большое разнообразие; мы можем, однако, наметить несколько типовых решений, характерных для разных эпох и разных литературных направлений.
В древнегреческом мифе и в опирающейся на миф литературе роль движущей силы фабулы часто играла судьба, рок. Таков, например, миф об Эдипе. Сначала родителям Эдипа, а потом ему самому было предсказано, что он убьет своего отца и женится на собственной матери. И все, что делают сначала родители, а затем сам Эдип для того чтобы избежать этой страшной участи, силой обстоятельств приводит лишь к тому, что пророчество исполняется.
Сниженным вариантом судьбы является случайность. Она безраздельно господствует в греческом авантюрном романе II—VI вв. н. э. («Эфиопика» Гелиодора, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Херей и Каллироя» Харитона и др.). Все, что ни происходит с героями — встреча, внезапная любовь, бегство, кораблекрушение, чудесное спасение, нападение пиратов, плен, тюрьма, продажа в рабство, вплоть до финального соединения влюбленных в браке, — все свершается по воле случая, по принципу «вдруг» и «как раз» 28. Когда, бежав из дома, Клитофонт и Левкиппа приезжают в гавань, там как раз обнаруживается отплывающее судно; в другом эпизоде Клитофонта уже собираются казнить, как вдруг появляется религиозная процессия в честь богини Артемиды, возвещающая начало торжеств, во время которых надлежит воздерживаться от казней, и т.д. и т.п. Аналогичную роль играют сверхъестественные силы — боги, демоны, маги и волшебники, которые постоянно вмешиваются в действие и, наряду со случаем, определяют судьбу героев. «Сами герои в авантюрном времени, конечно, действуют — они убегают, защищаются, сражаются, спасаются, — но они действуют как физические люди, инициатива принадлежит не им; даже любовь неожиданно посылается на них всесильным Эротом. С людьми в этом времени все только случается ...» 291
Такое отсутствие инициативы со стороны героев как в мифе, так и в позднегреческом авантюрном романе тесно связано с отсутствием индивидуализации действующих лиц. В царстве судьбы и случая нет места подлинной человеческой индивидуальности. «Какой характер у Эдипа, в сущности, неважно, — заметил Т. Манн в «Волшебной горе», — он может быть любым». В самом деле, характер человека как в жизни, так и в литературе проявляется прежде всего в поступках, являющихся результатом осознанного или неосознанного выбора, реализующих определенную степень свободы (об этом мы уже говорили в § 49). Если же все или почти все поступки героя являются вынужденными, если на его месте любой другой вел бы себя так же, то о характере говорить не приходится: герой выступает лишь как «антропоморфная фабульная функция», т.е. как актант ряда предикатов-событий (чаще пациенс, чем агенс), наделенный лишь самыми общими элементарными человеческими устремлениями. Здесь четко проявляется взаимозависимость между такими аспектами фабулы, как тип героя, движущие силы действия и степень индивидуализации персонажей.
Случайность нередко играет важную роль и в литературе нового времени, причем не только в авантюрном жанре. Частый мотив в европейском романе XVIII—XIX вв. — случайное выпадение героя из того круга, которому он принадлежит по рождению, и случайное же возвращение в этот круг после ряда испытаний. Так построены, например, «История Тома Джонса, найденыша» Филдинга, «Оливер Твист» Диккенса, «Человек, который смеется» Гюго и др. Строго говоря, элемент случайности присутствует практически в любом фабульном построении, в том числе и в реалистической литературе XIX—XX вв. В конце концов, Анна Каренина могла бы и не встретить Вронского, господин и госпожа д'Юбьер могли бы и не заехать в ту деревню, Мерсо мог бы и не оказаться на пляже в тот день... «Случайность вообще есть одна из форм проявления необходимости, и как таковая она может иметь место во всяком романе, как она имеет место и в самой жизни» 30, — писал по этому поводу М.М. Бахтин.
Однако роль и удельный вес случайности в реалистической литературе уже иные: случайность выступает здесь не как главная движущая сила фабульного действия, а именно как форма проявления необходимости, как «пусковой механизм» процесса, в дальнейшем развертывающегося закономерно. В соответствии с этим в фабуле реалистического произведения элемент случайности обычно присутствует в завязке; развязка же закономерно вытекает из действия; согласно современным эстетическим взглядам, она может и должна быть неожиданной, но не случайной.
Что же служит альтернативой случаю, сверхъестественным силам или судьбе в литературе, не прибегающей к таким мотивировкам фабульного действия? М.M. Бахтин на этот вопрос отвечает так: «В более реальных человеческих временных рядах (разной степени реальности ) моментам греческой инициативной случайности соответствуют моменты... человеческих ошибок, преступления (отчасти уже в романе барокко), колебаний и выбора, инициативных человеческих решений» 31. Таким образом, основной движущей силой фабульного действия становятся сами персонажи — их поступки, в первую очередь, образуют события или приводят к событиям, составляющим основное содержание фабулы, даже если первый толчок дан какой-то внешней, не зависящей от человека силой, как это бывает в фабуле с пассивным героем (см. выше, § 49).
Здесь, однако, необходимо сделать одно уточнение. То состояние, устойчивое или неустойчивое, которое возникает после события и в результате его, зависит, конечно, не только от поступка персонажа, но и от окружающей обстановки, от законов пространства, в котором действует герой. И то, как соотносятся между собой цели персонажей и результаты их поступков, составляет важную характеристику авторской модели мира, являющей себя в тексте. Предельный случай несовпадения между тем и другим мы находим в мифе об Эдипе — в этой концепции мира судьба всемогуща. Однако трагический разлад между замыслом и результатом действия нередко обнаруживается и в новейшей литературе, в той или иной мере он имеет место всякий раз, когда история «плохо кончается».
Но как бы ни соотносились цели персонажей с результатами их поступков, когда мы имеем дело с текстом, оставляющим герою определенную свободу действия, неминуемо возникает вопрос, почему он поступает так, а не иначе. Так вопрос о движущих силах фабульного действия оборачивается вопросом о мотивах поведения героя и прочих персонажей и в конечном счете вопросом о характере, о концепции «внутреннего человека», присущей авторской модели мира и воплощенной в данных героях. В самом деле, если в царстве судьбы и случая характер героя не играет существенной роли — художественно значим образ события, а не человека 32, — то в мире, где все или во всяком случае многое зависит от «инициативных человеческих решений», эти последние должны иметь какое-то характерологическое обоснование.
Вопрос о различных концепциях характера, присущих литературам разных эпох, жанров и направлений, чрезвычайно сложен и практически необозрим в рамках такого пособия, как наше 33. Поэтому мы ограничимся здесь лишь очень кратким перечислением важнейших этапов развития этой категории в европейской литературе, начиная с классицизма.
§ 57. Концепции характера в литературе
Как всякий художественный образ, литературный характер представляет собой единство общего (инвариантного) и индивидуального, и специфика той или иной литературной концепции характера, той или иной модели человеческой личности, нашедшей свое воплощение в литературе, в значительной мере определяется соотношением того и другого начала, а также уровнем, на котором строится инвариант.
В эстетике классицизма, нормативной во всех своих проявлениях, понятие абстрактной, но при этом сословно дифференцированной этической нормы лежит и в основе изображения характера. Герой трагедии предстает прежде всего как носитель определенного типа страсти, понимаемой как некая раз навсегда установленная, надличностная и всегда равная самой себе психическая сущность; эта страсть вступает в конфликт с другой страстью или с абсолютной этической нормой — долгом (политическим, национальным, семейным), так что характер героя является функцией этого конфликта и фактически исчерпывается им 34. Характер в комедии строится по тому же принципу, с той лишь разницей, что господствующие страсти, воплощенные в персонажах, суть страсти «низкие», т.е. человеческие пороки, явные отклонения от нормы. Таковы скупцы, честолюбцы, лицемеры, распутники и прочие, столь многочисленные у Мольера и его преемников 35 (интересно, что в комедиях Мольера образы второстепенных персонажей, в частности слуг, иногда бывают значительно более полнокровными, чем образы главных героев).
Таким образом, в классицистической модели личности общее, инвариантное решительно преобладает над индивидуальным; при этом сам инвариант мыслится как общечеловеческий. Ясно, что такой герой не подвержен изменению и развитию, он «сплошь завершен и закончен» 36. При этом у героя трагедии нет несоответствия между внешним и внутренним — «в нем все открыто и громко высказано» 37 (герой комедии в этом смысле сложнее, потому что он нередко обманывает, но жертвами обмана становятся другие персонажи, а не зрители и не он сам, так что в конечном счете он тоже лишен глубины).
Романтический характер выступает в определенных отношениях как антитеза классицистического. Это прежде всего самоценная и неповторимая личность. «Романтизм имеет дело не с типологической суммой свойств, не с механизмами и пружинами поведения, но с метафизически понимаемой целостностью души» 38.
Таким образом, индивидуальное начало здесь решительно преобладает над общим, по крайней мере в теории. Романтический герой — это человек, живущий напряженной внутренней жизнью, стремящийся к идеалу, к бесконечному и отвергающий при этом всяческие нормы, исповедующий безграничную свободу и суверенность личности. По определению Гегеля, «подлинным содержанием романтического служит абсолютная внутренняя жизнь, а соответствующей формой — духовная субъективность, постигающая свою самостоятельность и свободу» 39. Это в равной степени относится к писателю-романтику и к его герою.
Стремясь к недостижимому идеалу, романтический герой остро переживает разлад между высокой мечтой и низкой действительностью, ощущает вечную неудовлетворенность и, как правило, находится в конфликте не только со своим окружением, но и с самим собой, поскольку сам в своем реальном бытии не вполне соответствует идеалу — его одолевают пороки и страсти 40. Отсюда противоречивость мотивов его поступков и самого его поведения.
Любопытно, что, будучи по замыслу неповторимыми личностями, романтические герои различных писателей и даже различных национальных литератур в сущности похожи друг на друга — вырабатывается определенный стереотип романтической личности, что, видимо, можно объяснить абстрактностью романтического идеала и унаследованной от предыдущих эпох заданностью представлений о слагаемых характера, вообще о психических свойствах и явлениях.
Качественно новым этапом в развитии литературного характера было создание реалистической модели личности 41 (хотя говорить о единой модели здесь можно только на очень высоком уровне обобщения). Пафос реалистической литературы XIX в. заключается прежде всего в объяснении действительности, в поисках обусловленности явлений жизни человека. Обусловленность характера и поведения, «от самой широкой, исторической и социальной, до обусловленности мельчайших душевных движений в позднем психологическом романе» 42 — вот основное свойство реалистической концепции человеческой личности и ее отличие от всех предыдущих.
На ранней стадии реализма, в творчестве Стендаля и Бальзака, на первый план выступает историческая и социальная детерминированность героя. «В каждом поступке и помысле Жюльена Сореля отражена его социальная и историческая природа — пробивающего себе дорогу человека третьего сословия, молодого плебея 1820-х годов, завороженного образами Революции и Империи. Исторической ситуацией определены и окрашены свойства Жюльена: плебейская гордость и ненависть к власть имущим, пылкий нрав и расчетливый ум, честолюбие, вынужденное лицемерие» 43.
В дальнейшем, уже начиная с романов Флобера, обусловленность характера и поведения становится более сложной, более дифференцированной — прямая обусловленность сменяется опосредованной и многосторонней. Возникают различные уровни детерминации поведения — биологический, социальный, характерологический, ситуативный, даже ассоциативный, когда какая-то мелкая деталь окружающей обстановки, связываясь в сознании героя с тем или иным элементом прошлого опыта, направляет его мысли и поступки в иное русло. Поведение человека изображается уже не как прямое и однозначное следствие однозначных же мотивов, в свою очередь обусловленных свойствами социально-детерминированной личности, а как равнодействующая множества разнонаправленных импульсов — осознанных, полуосознанных и бессознательных. «Реализм XIX в., с его пристальным интересом к обусловленности поведения, показал, что аналогичные действия могут иметь разные мотивы, что одно и то же побуждение может в зависимости от обстоятельств привести к разным последствиям» 44.
Открытие возможности и даже обычности несоответствия между побуждениями и поступками, чувствами и поведением порождает особый интерес к внутреннему миру персонажей. В психологическом романе XIX—XX вв. характер героя определяется уже не только и не столько поступками, сколько тем, как его поступки соотносятся с внутренними побуждениями — последние становятся как бы самостоятельным уровнем структуры его личности.
Чем пристальнее и глубже исследуется обусловленность поведения персонажей, тем явственнее обнаруживается его непредсказуемость, его несводимость к идеальной художественной модели. Если, например, главные герои романов Тургенева «наделены твердо очерченным характером с очень устойчивыми свойствами, заявляющими о себе в каждом высказывании, поступке, жесте персонажа» 45, то у Л.Н. Толстого «человек... не ограничен своим характером» 46. Характер героя перестает быть постоянной величиной — он обретает подвижность, текучесть. Конечно, определенная непредсказуемость, т.е. свобода поведения, присуща и персонажам Тургенева, и даже героям классицизма, равно как и неподвижным персонажам, которые, наряду с подвижными, имеются и у самого Толстого, в любом случае характер героя открывается читателю постепенно, по мере восприятия текста, и окончательно складывается лишь тогда, когда перевернута последняя страница. Однако принципиальная разница между подвижным и неподвижным характером есть, ее очень хорошо объясняет Ю.М. Лотман (опять-таки на примере героев «Войны и мира»): «Изменяясь, Ростов не становится «другим человеком», то есть не совершает поступки, которых он прежде не совершал в тексте, не мог совершить в соответствии со структурой типа. Андрей или Пьер становятся каждый раз «другим человеком», то есть совершают поступки, которые прежде были для них невозможными» 47.
Углубление психологического анализа, укрупнение его масштаба, преимущественное внимание к отдельным побуждениям таит в себе определенную опасность — опасность потери единства личности, разрушения характера, поскольку на этом уровне обнаруживается не столько индивидуальное, сколько общечеловеческое и безличное. Лицо нельзя рассматривать только в микроскоп — индивидуальные черты пропадают. Именно к такому результату пришли теоретики и практики так называемого «нового романа» во Франции, в частности Н. Саррот, считающая, что характер — это миф, от которого следует освободиться, и последовательно осуществляющая этот тезис в своих романах.
Данный в этом параграфе обзор важнейших концепций человеческой личности, воплощенных в литературе нового и новейшего времени, очень схематичен и отнюдь не претендует на полноту. Мы надеемся, однако, что читатель сумеет использовать приведенные нами сведения хотя бы как ориентиры, которые помогут ему осмыслить художественную специфику изображения человека в тех конкретных текстах, с которыми ему придется иметь дело.
§ 58. Побуждения, поступки и характеры в рассказе Мопассана
Вернемся теперь к персонажам рассказа «В полях», с тем чтобы в свете сказанного в двух предыдущих параграфах попытаться понять мотивы их поведения, представить себе их характеры и стоящую за ними авторскую концепцию данных социальных типов и человеческой личности вообще. Конечно, короткому рассказу или новелле 48 не свойствен подробный психологический анализ; однако Мопассан, один из величайших мастеров этого жанра, как правило, не ограничивается внешней канвой событий и так или иначе дает нам понять, из каких побуждений вытекают поступки его персонажей. Иначе говоря, психологический анализ присутствует если не в тексте, то в подтексте его рассказов.
Прежде всего отметим очевидное: как уже говорилось выше, персонажи рассказа имеют четкий социальный адрес — крестьяне суть крестьяне и ведут, насколько мы можем об этом судить, обычную для того времени крестьянскую жизнь, а люди из города, г-н и г-жа д'Юбьер, видимо, знатного происхождения (на это указывает частица де перед фамилией 49) и явно богаты, о чем свидетельствуют как некоторые детали вроде собственного выезда и золотой цепочки у приемного сына, так и предложение, с которым они обращаются поочередно к обоим семействам: простой подсчет показывает, что приобретение ребенка должно им обойтись приблизительно в 50 тысяч франков, а это по тем временам солидная сумма (напомним для сравнения, что в начале своей карьеры Жорж Дюруа в качестве мелкого чиновника в управлении железных дорог получает 1500 франков в год, т.е. 125 в месяц). Словом, социальный адрес и тех, и других не простая этикетка, а содержательная характеристика, непосредственно проявляющаяся в их образе жизни. Мы помним, что, по определению Энгельса, реализм предполагает изображение типичных характеров в типичных обстоятельствах. Обстоятельства повседневной жизни персонажей рассказа несомненно можно назвать типичными.. А характеры?
Начнем с госпожи д'Юбьер, поскольку именно от нее исходит инициативное решение, лежащее в основе всего действия. Основной мотив ее поведения определяется неудовлетворенной потребностью в материнстве — собственных детей у нее нет, от чего она явно страдает. Отсутствие детей переживается ею так остро еще потому, что от природы эта женщина наделена страстным, импульсивным характером. Но — и это очень характерно как для рассказа, так и для творчества Мопассана в целом — эта природная составляющая ее личности подкреплена и усилена условиями социальной среды, к которой она принадлежит. В этом отношении особенно показательны две авторские характеристики: получив отказ, г-жа д'Юбьер обращается к мужу avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits» (стр. 75–76) 50 и дальше: «... elle demanda... avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre» (стр. 85–86). Совершенно очевидно, что эта женщина привыкла к тому, что она может все себе позволить, не только в плане чисто материальном, но и моральном.
Здесь необходимо остановиться на этической стороне дела. Конечно, г-жа и г-н д'Юбьер никого не обманывают и не принуждают — крестьяне вольны отказаться от их предложения (что и делает семейство Тюваш). Более того, условия сделки, которую они предлагают крестьянам, для последних несомненно выгодны, так как позволяют выбиться из нужды и при этом материально обеспечить будущее сына. Однако в целом их действия аморальны, по крайней мере с христианской точки зрения, т.е. с точки зрения той морали, которую они исповедуют. Ведь поступок матери, без крайней нужды продающей свое дитя, безусловно заслуживает осуждения, и, предлагая такое родителям, люди из города тем самым вводят их в соблазн, подбивают на дурное дело. И делают они это в силу тех свойств характера и воспитания жены, о которых мы говорили выше, а также, несомненно, в силу той общей атмосферы аморальности и вседозволенности, которую мы знаем по другим произведениям Мопассана и его современников (здесь достаточно вспомнить «Милого друга»).
Таким образом, характер и поведение госпожи д'Юбьер очень четко — для сегодняшнего читателя, может быть, даже слишком прямолинейно — вытекают из природных свойств ее личности и условий среды; биологическое и социальное, внутреннее и внешнее — все тесно связано, согласовано, взаимообусловлено. При этом госпожа д'Юбьер не одинока — она воплощает определенный социально-психологический тип, открытый Мопассаном, разные варианты которого часто встречаются в его рассказах и романах. Это тип богатой, красивой, избалованной, чувственной женщины, для которой не существует запретов, которая свои капризы возводит в ранг закона, не считаясь ни с чем и ни с кем.
Однако — и это очень показательно для того времени и той социальной среды — каприз взбалмошной женщины не выливается в импровизацию, в какой-нибудь безрассудный акт вроде похищения ребенка; нет, с родителями заключают вполне буржуазную коммерческую сделку, заверенную у нотариуса, с четко сформулированными условиями, в которых оговаривается все, даже возможность отказа покупателей от приобретенного товара (стр. 65–66). Типичные характеры в типичных обстоятельствах; по отношению к чете д'Юбьер этот принцип несомненно соблюден, хотя само событие — покупка ребенка — в те времена, надо думать, отнюдь не было частым явлением.
Теперь посмотрим, как изображены крестьяне. Определяющий момент, на фоне которого нужно рассматривать все их поведение, — это бедность и каждодневный изнурительный труд, ценой которого они обеспечивают свое скудное существование. С этого начинается рассказ, этому посвящена почти шестая часть его объема. Бедность, тяжкий труд, а также относительная многодетность (свои и соседские с утра до вечера под окнами) объясняют, хотя бы отчасти, отсутствие не только чувствительности, но и избирательного отношения к потомству у отцов и в какой-то степени даже у матерей (стр. 8–9).
Очень существенно, что до момента выбора обе семьи совершенно идентичны или, точнее, зеркально подобны друг другу (три дочери, один сын в одной семье, три сына и одна дочь — в другой). Эта идентичность придает всему рассказу характер своего рода социально-психологического эксперимента: как поведет себя та и другая семья в ситуации соблазна, конфликта противоположно направленных побуждений, притом что социальные факторы поведения в обоих случаях одни и те же? И как сложится их дальнейшая судьба? То, что семьи ведут себя по-разному, лишний раз свидетельствует, что идея полной, стопроцентной детерминированности характера и поступков средой чужда Мопассану и вообще противопоказана литературе. «Человек не может действовать, то есть жить, не полагая себя свободным. Без этой рабочей гипотезы и литература, исследующая его душевную жизнь, не может делать свое дело» 51.
Каковы же мотивы, определяющие поведение той и другой семьи (точнее, той и другой матери, поскольку отцы здесь играют скорее пассивную роль)? Существенно, что первая реакция тех и других одинакова — отказ. Почему? Во-первых, предлагаемая сделка противоречит нравственной норме и естественному материнскому чувству (c'est pas des choses qu'on d'mande à une mère, ça!... Ce s'rait une abomination). А во-вторых, мальчик — это ведь будущий работник, опора семьи. Это последнее соображение открыто высказывается Валленами (ça travaillera dans quéqu'z'ans, ct'éfant), но, может быть, и другой семье оно не чуждо — недаром автор дал им трех дочерей и одного сына; следовательно, сын представляет для них особую ценность.
А почему Валлены в конце концов соглашаются? Очевидно, в этом случае соблазн обеспечить себе относительно безбедное существование оказался сильнее, и они, вступая в сделку, предложенную людьми из города, оказываются их достойными партнерами — требуют юридических гарантий, торгуются, выговаривают себе лишних двадцать франков в месяц. Такова жизнь! В какой мере их нужно за это осуждать? Конечно, мать, продающая своего ребенка, — это противоестественно. Но есть и смягчающие обстоятельства. Ведь они отдают сына не в рабство и не в услужение, а в богатую семью, где он должен быть принят как родной; причем будущие приемные родители даже не требуют, чтобы он навсегда забыл настоящих. На это, правда, можно возразить, что мать и отец соглашаются на сделку лишь после того, как г-н и г-жа д'Юбьер обещают им пожизненную ренту и, следовательно, думают не столько о благополучии сына, сколько о собственной выгоде.
Но главное смягчающее обстоятельство — это, конечно, бедность. Говоря о проблеме вины и моральной ответственности в творчестве писателей-детерминистов, Л.Я. Гинзбург справедливо замечает, что в реалистическом романе XIX в. преобладает «гуманистическая тенденция снимать ответственность с угнетенных и слабых и оставлять ее за угнетателями, вообще за сильными мира сего, — хотя детерминированы и угнетатели. Мопассановские крестьяне не виноваты в жестоких и уродливых чертах своего быта, но этого никак нельзя сказать о мопассановских буржуа — от «честных мерзавцев», изображенных в раннем рассказе «Пышка», до омерзительного мужа героини романа «Жизнь», до торжествующего подлеца Дюруа («Милый друг»)» 52.
Итак, почему же одна семья отказалась отдать ребенка, а другая согласилась? Однозначного ответа автор не дает: может быть, действительно потому, что у Тювашей был всего один сын, а у Валленов — три (вполне возможно, что, если бы г-жа д'Юбьер захотела девочку, семьи поменялись бы ролями); может быть, дело в том, что во второй раз г-н и г-жа д'Юбьер повели себя более дипломатично (стр. 94–95)... Во всяком случае, вряд ли причиной отказа Тювашей были только родительские чувства и нравственные принципы. Они отказались, но в принципе тоже могли бы согласиться — об этом свидетельствует последняя фраза эпизода: Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus.
Но, пожалуй, наиболее интересен в психологическом отношении второй эпизод рассказа — ссора семей, то ожесточение, с которым добродетельная мать поносит на всех углах поддавшихся искушению соседей и восхваляет собственную стойкость. Почему она так ярится? На этот вопрос в порядке исключения автор дает прямой и недвусмысленный ответ: Les Vallin vivotaient à leur aise, grâce à la pension... La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Но только ли в зависти дело? Сама ее зависть приобретает столь острую форму, надо думать, потому, что «счастье было так возможно, так близко». В глубине души, сама себе в том не признаваясь, она, видимо, жалеет, что упустила такую возможность, и, обличая порочность соседей и превознося собственную добродетель, пытается убедить в первую очередь саму себя в том, что поступила правильно. Отчасти ей это даже удается: La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot.
Но эта психологическая победа приводит к непредвиденным и трагическим для семьи последствиям. Charlot... élevé avec cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l' avait pas vendu. И для него появление Жана Валлена в облике уверенного в себе и довольного собой человека из другого, недосягаемого мира — это страшный удар: то, что он привык считать достоинством и благом — его участь непроданного — обернулось унижением излом: j'aimerais mieux n'être point né que d'être c'que j'suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Je m'suis dit: v'la c'que j'serais maintenant. Зависть, досада, ощущение, что он стал жертвой чудовищной несправедливости судьбы, — все это требует выхода; он ищет виновных и, естественно, находит их в лице родителей. С ними он беспощаден и несправедлив, потому что не хочет и не может судить их по их намерениям, а судит только по результатам.
В последней сцене рассказа очень хорошо видно, как неожиданно для него самого в нем возникает и укрепляется мысль об уходе. Он начинает с упреков; затем, подстегнутый оправданиями матери и отповедью отца, впервые заговаривает об уходе, но пока еще в теоретическом плане, в условном наклонении — как о наказании, которого, по его мнению, родители заслуживают; дальше — больше, он возбуждается от собственных слов, и предположение превращается в намерение, причем он представляет свой уход уже чуть ли не как акт милосердия по отношению к старикам (стр. 183–185). Он сам толком не понимает, что его гонит из дома, но чувствует, что остаться было бы невыносимо: Non, c't'idée-là, ce serait trop dur.
Таким образом, и в изображении крестьян Мопассан выступает как писатель-реалист: ведущим фактором их поведения является социальное начало, которое смыкается в данном случае с элементарно биологическим. Их побуждения диктуются в основном простейшими жизненными потребностями, и не только быт, но и вся их жизнь достаточно жестока и бездуховна. С этим связана и некоторая безликость, взаимозаменяемость крестьянских персонажей; можно сказать, что Мопассан смотрит на них глазами этнографа — его интересуют не столько отдельные лица и характеры, сколько нравы данной разновидности человеческого рода в целом.
Думается, однако, что Л.Н. Толстой был неправ, утверждая, что Мопассан представлял людей из народа «в виде полуживотных, движимых только чувственностью, злобой и корыстью» 53, — к разбираемому нами рассказу это во всяком случае не приложимо. Конечно, обобщенный облик крестьянина в творчестве Мопассана не слишком привлекателен; в этом смысле мопассановские крестьяне четко противостоят идиллическим пейзанам из повестей Жорж Санд («Чертова лужа», «Маленькая Фадетта» и др.) — носителям патриархальных добродетелей. Но полуживотными их все-таки не назовешь. В общем они не лучше, но и не хуже многих других, в частности буржуа. При этом их побуждения и поступки не лишены внутренней сложности и противоречивости; есть, в частности, несомненная глубина, общечеловеческая правда и подлинный трагизм в коллизиях, переживаемых семьей Тюваш (подробнее об этом будет сказано ниже).
Новелла — не психологический роман, сам жанр диктует существенные ограничения. Но и в этом жанре Мопассан выступает как достойный продолжатель флоберовско-толстовской традиции.
§ 59. Развязка как итог
Художественная значимость развязки — последнее из того, что нам надлежит рассмотреть в главе о фабуле. Само понятие развязки уже было введено в § 52: оно в общем соответствует четвертому предложению в структуре эпизода по Тодорову, т.е. развязка — это фабульное событие, которое разрешает конфликт, кладет конец состоянию неустойчивости, возникшему в результате другого, предшествующего ему по времени события, нарушившего привычный порядок жизни (завязки). Можно говорить, следовательно, о развязке эпизода и о развязке фабулы в целом. В этом параграфе речь пойдет лишь о развязке фабулы. Необходимость этого разговора определяется тем, что развязка фабулы обладает особой художественной значимостью — она подводит итог всему фабульному действию.
Подлинная развязка присуща только закрытой фабуле, характеризующейся наличием одного главного конфликта (см. выше, § 54). В тексте же, построенном как цепь относительно автономных эпизодов, общей фабульной развязки как таковой нет, хотя каждый эпизод (в том числе и последний) имеет свою частную развязку. Общая развязка, однако, возможна и необходима при смешанном построении фабулы, когда относительно независимые друг от друга эпизоды все-таки развиваются в определенном направлении, имеют в перспективе определенную цель (как это бывает, например, в авантюрном романе).
Чем же определяется особая значимость развязки? Она непосредственно вытекает из самой сути художественного текста, из того, что в художественной литературе за единичными по видимости явлениями всегда стоят сущности. Если в судьбе героя в какой-то мере отражаются закономерности мира, то ее итог обретает силу философского обобщения. «Если герой умирает, — пишет Ю.М. Лотман, — мы воспринимаем произведение как оканчивающееся трагически. Если же он женится, совершает великое открытие или улучшает производственные показатели своего предприятия, — как имеющее счастливый конец. При этом не лишено интереса, что переживание конца текста как счастливого или несчастливого включает в себя совершенно иные показатели, чем если бы речь шла о подлинном событии. Если нам, рассказывая о действительном историческом факте, имевшем место в прошлом веке, сообщают, что главное действующее лицо в настоящее время уже скончалось, мы не будем воспринимать это сообщение как печальное: нам заранее известно, что человек, действовавший сто лет тому назад, сейчас не может не быть мертв. Однако стоит избрать то же самое событие предметом художественного произведения, как положение коренным образом меняется. Текст заканчивается победой героя, и мы воспринимаем рассказ как имеющий счастливый конец, текст доводит повествование до его смерти, и наше впечатление меняется.
В чем же здесь дело?
В художественном произведении ход событий останавливается в тот момент, когда обрывается повествование. Дальше уже ничего не происходит, и подразумевается, что герой, который к этому моменту жив, уже вообще не умрет, тот, кто добился любви, уже ее не потеряет, победивший не будет в дальнейшем побежден, ибо всякое дальнейшее действие исключается.
Этим раскрывается двойная природа художественной модели: отображая отдельное событие, она одновременно отображает и всю картину мира, рассказывая о трагической судьбе героини — повествует о трагичности мира в целом. Поэтому для нас так значим хороший или плохой конец: он свидетельствует не только о завершении того или иного сюжета, но и о конструкции мира в целом» 54.
Но дело, конечно, не сводится к хорошим или плохим концам — закономерности мира, моделируемые текстом и утверждаемые как итог его развязкой, могут иметь и большей частью имеют более определенный характер. Так, например, пышное бракосочетание Дюруа с дочерью миллионера в финале «Милого друга» символизирует торжество беззастенчивого хищника и недвусмысленно возводит якобы частный случай в закон: само общество воспитывает, поощряет и возносит к вершинам власти таких, как Дюруа 55. Развязка «Госпожи Бовари» — самоубийство героини и сами обстоятельства ее смерти — утверждает крах романтических иллюзий и торжество буржуазной пошлости. Конец «Анны Карениной» несет мысль о невозможности для женщины построить свое счастье, преступив законы божеские и человеческие...
Конечно, такие формулировки весьма приблизительны и отнюдь не исчерпывают авторскую мысль (об этом достаточно много говорилось выше, см. § 37–38, 41); с ними можно спорить, их можно и нужно дополнять и уточнять. Развязка может быть и принципиально неоднозначной, намеренно двусмысленной (как, например, в пьесе Сартра «Мертвые без погребения»). Она может быть приглушенной, растянутой. Вообще итоговая, моделирующая функция конца в значительной степени зависит от меры неопределенности, которую он снимает: если эта мера невелика, если заранее ясно, чем все должно кончиться (так, в «Княжне Мери» мы заранее знаем, что Печорина не убьют на дуэли), то и само событие, завершающее фабулу, теряет свою значимость, а читательский интерес переносится на что-то другое, например на мотивы поведения героя или на его реакцию. Но в любом случае мы должны задать себе вопрос: что значит, что фабула завершается так, а не иначе?
Рассмотрим же с этой точки зрения развязку рассказа «В полях». Автор этой книги при первом чтении рассказа воспринял ее как достаточно неожиданную. Конечно, читательское ожидание — вещь достаточно субъективная. Здесь было бы интересно проделать эксперимент — дать людям, ранее не читавшим рассказ, первые две трети текста (первый эпизод, включая момент отъезда г-на и г-жи д'Юбьер) и попросить их ответить на вопрос: чем эта история, по их мнению, должна закончиться? Мы убеждены, что большая часть опрошенных предскажет иной конец, а именно, что Валлены и (или) госпожа д'Юбьер так или иначе поплатятся за заключенную сделку. Такой исход в большей степени соответствовал бы нашему нравственному чувству, которое отказывается признать эту сделку нормальной, в силу чего для нас более естественным разрешением этического конфликта, воплощенного в ссоре между семьями, было бы наказание «виновных».
У Мопассана же все наоборот: судя по некоторым деталям (о них позже), ни для приемных, ни для настоящих родителей сделка не повлекла за собой никаких неприятных последствий. Наказана же другая семья, и наказана предельно жестоко. Мало того, что ненавистные соседи торжествуют, — удар наносит собственный сын, ради которого (так они, по крайней мере, считают) родители отказались от обеспеченного существования. И уходит он в тот момент, когда его помощь особенно нужна. Иначе говоря, рушится не только сознание собственной правоты, чувство морального превосходства над соседями и «над всей округой», которое мать сама себе внушила и которым жила двадцать лет, — рушатся одновременно и материальные устои их существования.
Это в полном смысле слова трагическая развязка, заставляющая вспомнить как шекспировского короля Лира, пущенного по миру собственными дочерьми, так и Эдипа, тщетно пытавшегося избежать своей участи: мать хотела сохранить сына, не отдала его людям из города, а через двадцать лет он сам уходит именно потому, что в свое время его не отдали. Судьба? Но за этой судьбой, за единичным и исключительным случаем — историческая и социальная закономерность: уход крестьянских детей в города, разрушение патриархальной деревенской семьи. А может быть, и вообще трагедия отцов и детей? Что ж, развязка поддается и такому истолкованию.
За что же наказана семья Тюваш? Очевидно, за поступок, соответствующий нравственным нормам (каковы бы ни были глубинные мотивы этого поступка). Получается, что сама жизнь подтверждает правоту неправых. И отсюда вывод: мир, в котором живут герои рассказа, устроен так, что безнравственный поступок объективно выгоднее, чем нравственный. Этот вывод вполне совпадает с основной мыслью многих других произведений Мопассана, в том числе «Милого друга» (см. выше, с. 139); в нем — принципиальное неприятие и осуждение буржуазного общества и его законов.
Но Мопассан не был бы Мопассаном, если бы все сводилось к этому. Казалось бы, осуждение безнравственной среды, в которой закономерно торжествует порок и терпит поражение добродетель, должно быть тем сильнее, чем безусловнее нравственность поведения одних персонажей и безнравственность других. Но этого, как мы видели, в рассказе нет; мы не можем безоговорочно осудить Валленов, равно как и признать безупречным поведение Тювашей (особенно после того, как г-н и г-жа д'Юбьер увезли ребенка). Казалось бы, все просто: на одном полюсе — корысть, а на другом — родительская любовь. Но, во-первых, мы видели, что не только это чувство определило решение матери Шарло, и не так уж она была тверда в своем решении; а во-вторых, может быть, истинная родительская любовь и бескорыстная забота о благополучии сына как раз и требовали (в тех условиях, конечно), чтобы мать рассталась с ним, принеся ему в жертву собственные родительские чувства? На такие соображения наводит счастливая для Валленов развязка всей истории. И хотя они руководствовались иными мотивами, результат объективно тот же!
Каков же вывод? Поскольку общество явно безнравственно (а возможности построения иного общества Мопассан не видел) и, с другой стороны, чистота мотивов даже нравственного по видимости поступка не безусловна, не лишается ли смысла и ценности само понятие нравственности? За эту мысль, более или менее явно присутствующую в его романах и во многих его рассказах, Мопассана сурово осуждал Л.Н. Толстой, в целом положительно относившийся к его творчеству. По его мнению, Мопассан был лишен «первого, едва ли не главного, условия достоинства художественного произведения, правильного, нравственного, отношения к тому, что он изображал, т.е. знания различия между добром и злом» 56.
Думается, что этот отзыв чрезмерно строг 57. Мопассан все-таки не лишен «знания различия между добром и злом», и не его вина, что в мире, в котором он жил, и с его умением проникать в тайные пружины человеческих поступков судить о добре и зле становилось все труднее и труднее.
§ 60. Еще о фабуле и сюжете
Проделанный нами обзор основных аспектов фабулы художественного текста, и в особенности разбор фабулы рассказа «В полях», как будто наводит на мысль, что этот уровень структуры произведения несет основную часть его художественного содержания. Действительно, рассматривая только фабулу мопассановского рассказа, мы, по сути дела, на три четверти выполнили работу по интерпретации этого текста. Но всегда ли дело обстоит так?
Нет, далеко не всегда. То, что в этом случае нам удалось уже на первом этапе работы сделать столь далеко идущие выводы, объясняется прежде всего спецификой жанра новеллы — тем, что в новелле значима в первую очередь именно фабула, а остальные уровни не имеют самостоятельного значения и работают на нее. Это свойство текста — преимущественная ориентированность на референтное пространство, явное преобладание номинативного содержания над коммуникативным — иногда называют прозрачностью (transparence) 58. Среди литературных жанров максимальной прозрачностью обладает драма, где адресат (зритель или читатель) как бы непосредственно воспринимает фабульное действие. Что же касается эпоса, то здесь типичным примером прозрачного текста (помимо новеллы) может служить детектив. Считается также, что проза вообще прозрачнее, чем поэзия.
Большая или меньшая прозрачность эпического текста — характеристика не фабулы, а сюжета. Забегая вперед, скажем, что это свойство, типичное для новеллы вообще, в высшей степени присуще рассказу «В полях». Но было бы неправильно считать, что содержание, извлеченное нами из фабулы рассказа, сохранилось бы в неприкосновенности, если бы эта история была рассказана иначе, другими словами, — многое из того, о чем мы говорили и что составляет часть фабулы (например, характер госпожи д'Юбьер), выявляется вполне только при анализе сюжета и даже стиля (что будет показано далее). Это мы и имели в виду, говоря, что сюжет и стиль работают на фабулу. Выше (в § 45) уже было отмечено, что в ходе интерпретации текста, последовательно обращающейся к различным его уровням, нередко приходится возвращаться назад, чтобы уточнить сделанные ранее выводы; в иных же случаях, для того чтобы не дробить мысль, удобнее забежать вперед, предвосхитить какие-то данные последующего этапа анализа, как мы это сделали здесь.
Так или иначе, фабула, т.е. история, рассказанная в тексте, не исчерпывает художественного содержания последнего даже в том случае, когда текст максимально прозрачен; сама эта прозрачность есть характеристика сюжета и в конечном счете важный компонент образа автора.
Глава IV
КОМПОЗИЦИЯ
§ 61. Метонимичность как основа сюжета
Выше, в § 42, мы определили сюжет как отражение, которое фабула получает в тексте. Там же было сказано, что это отражение может быть лишь частичным, выборочным, как любое словесное описание любой референтной ситуации (референтного пространства). Таким образом, отношение сюжета к фабуле подобно отношению фабулы к миру: и в том и в другом случае это отношение части к целому, метонимия. «Искусство всегда разделяет предметы и дает часть вместо целого, дает черту вместо целого, и, как бы оно ни было подробно, все равно оно представляет собою как бы пунктир, изображающий линию... Мы выбираем отдельные черты, чтобы передать общее. Если мы подробно развиваем какую-нибудь частность, то эта частность опять-таки заменяет общее, передает не столько о своем состоянии, а о значении своего состояния» 1.
В самом деле, если рассматривать фабулу как воображаемую последовательность состояний и событий, якобы существующую до текста и независимо от текста, мы должны приписать ей все основные свойства реальной действительности. Так, мы должны признать, что фабула непрерывна, как непрерывно само время, являющееся одной из форм существования материи. Между тем речь — любая речь — способна отразить непрерывное течение фабульного действия только в виде дискретной последовательности высказываний и более крупных единиц текста, описывающих отдельные точки или отрезки развертывающейся ситуации и оставляющих в тени промежутки между ними. Непрерывное передается прерывно — именно это имеет в виду В.Б. Шкловский, говоря, что искусство представляет собою как бы пунктир, изображающий линию: В этом отношении литературное повествование можно уподобить киноизображению: как известно, на пленке фиксируется ряд последовательных «точечных» состояний движущегося объекта, отделенных друг от друга интервалами порядка 1/40 секунды (пунктир вместо непрерывной линии); сменяя друг друга на экране со скоростью 36 кадров в секунду, эти статические изображения, в силу особенностей нашего зрительного аппарата, создают иллюзию непрерывного движения.
Но если в кино частота смены кадров фиксирована раз и навсегда, то в литературном повествовании характеристики пунктира, заменяющего сплошную линию фабульного действия, могут быть весьма различными не только в различных произведениях, но и в пределах одного и того же текста. Это связано с очень важным свойством нашего мышления и речи — способностью обобщать, отвлекаясь от частностей, в результате чего один и тот же (по длительности) промежуток фабульного времени, например год или неделя, может составить материал нескольких сот страниц, а может быть отражен всего в одной фразе. Для того чтобы лучше представить себе, насколько неравномерно фабульное время может отражаться в сюжете, рассмотрим с этой точки зрения рассказ Мопассана «В полях».
В тексте можно выделить 8 сюжетных отрезков, соответствующих 8 этапам развития фабулы:
1. Статическое описание быта двух крестьянских семей до начала действия: неопределенный промежуток фабульного времени (~ 1 год) — 25 строк текста.
2. Первое появление г-на и г-жи д'Юбьер: 5–10 минут фабульного времени — 15 строк.
3. Второй визит г-жи д'Юбьер: ~ 30 минут фабульного времени — 3 строки.
4. Последующие визиты, которые становятся обычными: неопределенный промежуток фабульного времени (несколько недель?) — 3 строки.
5. Центральная сцена рассказа — переговоры г-на и г-жи д'Юбьер с обеими семьями: ~ 1 час фабульного времени — 74 строки.
6. Период между заключением сделки и появлением Жана Валлена в родной деревне: ~ 20 лет фабульного времени — 24 строки.
7. Появление Жана Валлена в деревне и его встреча с родителями: 2–3 часа фабульного времени — 19 строк.
8. Ссора Шарло с родителями и его уход из дома (вечер того же дня): 20–30 минут фабульного времени (может быть, меньше) — 31 строка.
Аналогичные замедления, ускорения и пропуски обнаруживаются и внутри каждого отрезка (читатель легко убедится в этом сам).
Очевидно, что такая разительная неравномерность в передаче фабульного времени объясняется прежде всего различной насыщенностью разных временных промежутков жизни героев событиями, важными с точки зрения основного конфликта; в литературе, как и в жизни, иной раз бывает так, что за десять минут происходит больше, чем за предыдущие или последующие десять лет; естественно, что рассказ об этих десяти минутах займет намного больше времени, чем о годах, в течение которых ситуация остается стабильной или меняется незначительно. Такие малонасыщенные событиями периоды фабульного времени могут быть переданы в нескольких строках, как это сделано в рассказе Мопассана, либо даже вовсе опущены (в последнем случае необходимые для понимания интриги сведения о каких-то фактах, имевших место за это время, имплицируются другими фактами, относящимися к предыдущему или последующему периоду).
С другой стороны, даже очень короткий промежуток фабульного времени — скажем, несколько секунд или десятков секунд — может дать материал для нескольких страниц текста, как это имеет место, например, у М: Пруста в сцене, когда герой-повествователь впервые встречается с госпожой де Германт: почти мгновенный процесс узнавания растянут здесь на много строк. Это объясняется тем, что любое, даже самое простое, практически одномоментное действие или событие может быть расчленено на отдельные составляющие. Аналогичный прием, постоянно используемый в практике спортивных телерепортажей, — замедленный повтор наиболее острых моментов состязания. Время и его событийное наполнение тоже можно рассматривать как бы под микроскопом.
Проблема отражения фабулы в словесном повествовании осложняется тем, что фабулу, равно как и любой событийный ряд в реальной действительности, можно уподобить линии, как это делает В.Б. Шкловский, только в самом первом приближении. На самом деле, она всегда объемна и многоаспектна — в каждый момент своего развертывания фабула потенциально содержит в себе множество различных референтных ситуаций, имеющих место одновременно. Так, в конце центральной сцены рассказа Мопассана мы читаем:
Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin.
Les Tuvache, sur leur porte, les regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus.
Очевидно, что в фабуле оба эти действия происходят в одно и то же время — именно так их можно было бы представить в кино или на сцене, — тогда как в литературном повествовании, в силу линейности речи, их можно описать только последовательно, сначала одно, потом другое. При этом какие-то иные аспекты фабулы, иные референтные ситуации, имевшие место в данный момент развертывания действия, остаются вообще не зафиксированными. Так, например, весьма вероятно, что родители ребенка в этот момент тоже находились где-то поблизости, что-то делали, как-то проявляли себя, но об этом в тексте не сказано ни слова.
Сказанное можно проиллюстрировать следующей схемой:
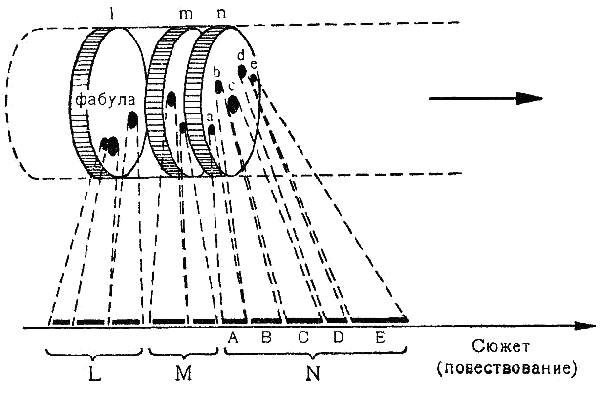
Здесь n — синхронный срез фабулы, определенный момент развития действия; N — соответствующий ему фрагмент сюжета (повествования); a, b, c, d, e — референтные ситуации, вычленяемые повествователем из n; А, В, С, D, Е — высказывания (или более крупные отрезки текста), описывающие a, b, c, d, e. Предыдущие отрезки фабульного времени l и m представлены в повествовании аналогичным образом. Чем больше референтных ситуаций выделяется в каждом отрезке, тем длиннее соответствующий фрагмент повествования. Из этого следует, что передача одновременных событий и состояний останавливает фабульное действие.
К такому же результату приводят и всевозможные авторские отступления. Известно, что художественное повествование далеко не всегда сводится к непосредственному представлению фабульного материала — событий, лиц, предметов и т.д. Хотя в целом эпические жанры определяются такими признаками, как конкретность референтного пространства и представляющий характер сообщения (см. выше, § 35), во многих текстах, например у Гюго, Бальзака или Роллана, значительное место отводится разного рода рассуждениям по поводу обстановки, поступков действующих лиц и т.п. Ясно, что, пока автор философствует, проповедует или проводит исторические параллели, действие не движется вперед. Таким образом, соотношение между фабульным временем и объемом текста зависит не только от насыщенности фабульного времени событиями и от степени подробности их передачи, но и от количества и объема авторских отступлений.
Однако все возможные выходы художественного текста за пределы фабулы не ставят под сомнение метонимичность как общий принцип построения эпического повествования. Из всей массы фактов, в совокупности составляющих фабулу, какие-то находят свое отражение в тексте, а какие-то иные отбрасываются. Изначально непрерывное фабульное действие передается отдельными отрезками, и каждый такой отрезок представлен отдельными вычленяемыми из него референтными ситуациями. Какие же аспекты фабульного материала воспроизводятся в повествовании? На какие отрезки членится фабула, в каком порядке они излагаются, с какой степенью подробности? Каковы принципы этого отбора и комбинирования и что стоит за ними? На эти и некоторые другие вопросы нам надлежит ответить, разбирая тот уровень структуры текста, который мы называем сюжетом.
§ 62. Проблема отбора фабульного материала
Мы начнем с первого из вопросов, поставленных в конце предыдущего параграфа, — с вопроса об аспектах фабулы, которые получают непосредственное отражение в тексте.
Очевидно, что в этом отборе всегда обнаруживается определенная закономерность, определенная тенденция.
Тенденцию в отборе отдельных сторон фабульного материала удобно показать на примере двух текстов одного жанра, излагающих идентичную или почти идентичную фабулу. Наилучший материал для такого сопоставления дают басни. Возьмем «Le Corbeau et le Renard» Лафонтена и «Ворону и Лисицу» Крылова — тексты настолько хорошо известные, что их можно не приводить.
Между ними есть чисто фабульные расхождения, например, в соответствии с грамматическим родом и фольклорной традицией, у Лафонтена персонажи — «мужчины» (maître Corbeau и maître Renard), a у Крылова — «женщины»; у Лафонтена лисица (точнее, лис), получив сыр, морализирует («apprenez que tout flatteur / Vit au dépens de celui qui l'écoute»), а у Крылова просто удирает и т.д. Но нас сейчас интересуют те различия, которые обнаруживаются в изложении фактически совпадающего фабульного материала, и здесь главное, что бросается в глаза, это конкретность русского текста и абстрактность французского: у Крылова вороне «бог послал кусочек сыру», т.е. она его случайно нашла, а у Лафонтена на этот счет ничего не сказано; у Крылова ворона взгромоздилась на ель и собирается позавтракать, а у Лафонтена ворон сидит на неизвестно каком дереве и просто держит сыр в клюве; у Крылова подробно описано, как лисица подходит к дереву и как обращается к вороне («Плутовка к дереву на цыпочках подходит / Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит, / И говорит так сладко, чуть дыша...»), а у Лафонтена даются голые факты: «Maître Renard, par l'odeur alléché, / Lui tint à peu près ce langage».
Другое различие между текстами, тесно связанное с первым, это существенно большая динамичность русского текста по сравнению с французским. У Лафонтена персонажи с самого начала занимают исходную позицию, у Крылова же действие начинается раньше и последовательно развивается: сначала ворона нашла сыр, затем взгромоздилась на ель, собралась позавтракать, затем призадумалась... Еще больше динамики в изображении поведения лисицы: в 6 строках 9 предикатов, называющих последовательно совершающиеся действия, тогда как у Лафонтена их всего два.
Таким образом, здесь налицо как бы привативная оппозиция: текст Крылова последовательно выявляет такие аспекты фабулы, как конкретные особенности поведения, характеризующие персонажей, и динамику развития действия, тогда как Лафонтен эту сторону дела игнорирует.
Как мы увидим ниже, эти две установки соответствуют двум принципиально различным «стратегиям повествования», которые, в свою очередь, определенным образом соотносятся с такими большими литературными направлениями (методами), как реализм и классицизм.
Еще один пример. Если сопоставить прозу двух великих современников, основоположников критического реализма во французской литературе — Бальзака и Стендаля, то среди многих прочих особенностей их творчества нам бросится в глаза пристрастие Бальзака к зримым, конкретным деталям обстановки и повседневного бытия действующих лиц — длинные патетические описания сельского или городского пейзажа, улиц, домов, внутреннего убранства комнат, одежды персонажей, их привычек и т.п. По сравнению с заполненным вещами миром Бальзака, фабульное пространство у Стендаля кажется просторным, даже пустоватым, его проза более напоминает графику, нежели живопись; обстановка описывается — скупо и точно — чаще всего лишь постольку, поскольку она важна для развития действия и(или) воспринимается сознанием героя.
С другой стороны, в романах Стендаля (особенно в «Красном и черном») практически на каждой странице мы найдем размышления персонажей, переданные чаще всего в форме внутреннего монолога. Главный герой, будь то Жюльен Сорель, Фабрицио дель Донго или Люсьен Левен, постоянно рассуждает сам с собой, анализирует происходящее и в особенности собственное поведение. По сравнению с персонажами Стендаля, бальзаковские герои кажутся менее рассудочными, во всяком случае, менее склонными к самоанализу (свои мысли, вернее сказать, свою философию они обычно высказывают кому-то, в доверительном или общем разговоре). Конечно, можно считать, что это внутренние свойства тех и других, т.е. различия на уровне фабулы, однако, исходя из нашей концепции, вернее будет сказать, что Стендаль в значительно большей мере, чем Бальзак, интересуется содержанием сознания персонажей в каждый данный момент развития фабульного действия. Это тот аспект фабулы, который получает у него преимущественное отражение в тексте.
Указанные тенденции в отборе фабульного материала в прозе Стендаля и Бальзака очень точно резюмирует М.Н. Эпштейн, автор глубокой и тонкой по мысли статьи о творчестве того и другого писателя: «Стендаля интересует больше всего мир внутри человека, Бальзака — мир вокруг человека» 2. Этим, вероятно, объясняется тот факт, что современный читатель охотнее читает Стендаля, чем Бальзака: «мир внутри человека» за полтора столетия все-таки изменился гораздо меньше, чем «мир вокруг человека».
До сих пор мы говорили об общих тенденциях в отборе фабульного материала, свойственных тому или иному литературному направлению, либо тому или иному автору. Но проблема отбора фабульного материала имеет еще один аспект: выбор конкретной детали в конкретной точке повествования — такой, например, как легкая коляска госпожи д'Юбьер или золотая цепочка на груди Жана Валлена, приехавшего в родную деревню («В полях», стр. 26–27 и 146–147). Эта сторона дела также чрезвычайно важна, но мы рассмотрим ее несколько ниже, так как она тесно связана с некоторыми иными закономерностями построения эпического текста.
§ 63. Два типа повествования в эпической прозе
Различия в отборе фабульного материала, обнаруженные нами выше у Лафонтена и Крылова, являются частными проявлениями двух основных тенденций в изображении фабульного времени и фабульного пространства, двух противостоящих друг другу типов повествования, которые наблюдаются в эпической литературе. Эти типы повествования суть рассказ и показ. Проиллюстрируем их примерами, заимствованными уже не из басен, а из подлинно эпических текстов.
1. En entrant à Paris, je pris un fiacre, quoique je n'eusse pas de quoi le payer: je comptais sur les secours que j'allais solliciter. Je me fis conduire au Luxembourg, où j'envoyai avertir Tiberge que j'étais à l'attendre. Il satisfit mon impatience par sa promptitude. Je lui appris l'extrémité de mes besoins sans nul détour. Il me demanda si les cent pistoles que je lui avais rendues me suffiraient, et, sans m'opposer un seul mot de difficulté, il me les alla chercher dans le moment, avec cet air ouvert et ce plaisir à donner qui n'est connu que de l'amour et de la véritable amitié (L'abbé Prévost).
2. Vers sept heures, la chienne se dressa en grondant. On avait sonné. Mme de Fontanin s'élança dans le vestibule; elle voulait ouvrir elle-même. Mais c'était un jeune homme barbu qu'elle ne connaissait pas... Un accident?
Antoine se nomma; il demandait à voir Daniel avant que celui-ci ne partît pour le lycée.
— C'est que, justement... mon fils n'est pas visible ce matin. Antoine eut un geste étonné:
— Pardonnez-moi si j'insiste, Madame... Mon frère, qui est un grand ami de votre fils, a disparu depuis hier, et nous sommes affreusement inquiets.
— Disparu? Sa main se crispa sur la mantille blanche dont elle avait voilé ses cheveux. Elle ouvrit la porte du salon; Antoine la suivit.
— Daniel non plus n'est pas rentré hier soir, Monsieur. Et je suis inquiète, moi aussi. Elle avait baissé la tête; elle la releva presque aussitôt: D'autant plus qu'en ce moment mon mari est absent de Paris, ajouta-t-elle (Martin du Gard).
В примере 1 обо всем происходящем рассказано очень обобщенно, без каких-либо подробностей. Место действия только обозначено; элементы пейзажа, описания обстановки отсутствуют не только в этой сцене, но и практически во всем романе. Главное же, что в этом отрывке происходит — встреча героя с другом и его обращение к нему с просьбой о помощи, — не воспроизведено, а пересказано, причем передана лишь самая суть, результат. Приведенный отрывок в 9 строк охватывает, по меньшей мере, полтора часа фабульного времени.
В примере 2 все выглядит иначе: продолжительность фабульного действия, отраженного в существенно более длинном отрывке, не более трех минут. Текст фиксирует жесты, детали (например, ворчание собаки), а разговор персонажей, составляющий основное содержание и этого отрывка, почти целиком передан в форме прямой речи, без каких-либо пропусков, примерно так, как это делается в драме.
Тип повествования, обнаруживающийся в примере 1, мы назовем собственно эпическим; другой тип повествования, образцом которого может служить пример 2, будем именовать квазидраматургическим (т.е. почти драматургическим, приближающимся к драме). Они противостоят друг другу по нескольким взаимосвязанным признакам:
1. По способу передачи фабульного времени.
Собственно эпический тип повествования дает в относительно небольших по объему текстах или кусках текста большие промежутки фабульного времени, часто весьма насыщенные событиями. Так, в романе аббата Прево «Манон Леско» 7–8 лет достаточно бурной и разнообразной жизни героев (точно определить продолжительность фабульного действия невозможно) умещаются на двух сотнях страниц текста. При этом в произведениях, тяготеющих к этому типу повествования, масштаб передачи фабульного времени меняется относительно нерезко; во всяком случае, больших временных пробелов обычно не бывает.
В противоположность эпическому, квазидраматургический тип повествования дает в больших по объему кусках текста малые промежутки фабульного времени, так, в пятисотстраничном романе Сартра «Зрелый возраст» действие продолжается всего 50 часов. В случае же необходимости охватить большой промежуток фабульного времени последнее дается отдельными сценами, промежутки между которыми (как правило, во много раз более длительные, чем сами эти сцены) либо вообще остаются «за кадром», либо кратко резюмируются. Примером такого построения может служить уже разобранный нами с этой точки зрения рассказ Мопассана.
2. По степени охвата и конкретности представления фабульного пространства и фабульного времени.
Собственно эпическое повествование вычленяет из фабулы только одну линию, отражает только существенное — то, что имеет прямое отношение к развитию действия, отбрасывая все остальное. При этом фиксируемые действия и события (процессы) не членятся на мелкие составляющие, а даются общим планом. Отрывок из «Манон Леско», приведенный в начале параграфа, очень характерен как в том, так и в другом отношении. Этими свойствами и объясняется емкость собственно эпического повествования, его способность вместить в относительно короткий текст большой промежуток фабульного времени.
Квазидраматургическое повествование излагает воспроизводимые сцены из жизни героев со множеством подробностей, далеко не всегда имеющих прямое отношение к основной линии развития действия (так, например, с точки зрения основного конфликта рассказа «В полях», представляется совершенно несущественным тот факт, что в предпоследней сцене мать Жана Валлена стирала передники в момент, когда сын вошел в дом после двадцатилетнего отсутствия). Расчленению, конкретизации подвергаются также фиксируемые процессы, события и действия, по крайней мере, те, которые представляются важными. Так передан, например, разговор г-на и г-жи д'Юбьер с семейством Тюваш: ведь, теоретически рассуждая, его можно было бы резюмировать одной фразой: Ils proposèrent aux Tuvache d'adopter leur cadet, en leur pro-mettant une rente de cent francs par mois, mais ceux-ci refusèrent net.
3. По степени эксплицитности сущностных характеристик и оценок.
Собственно эпическое повествование оперирует чаще всего словом, непосредственно называющим сущность или дающим оценку тому или иному явлению.
Je lui parlai d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi (L'abbé Prévost).
Il leur échappa mille traits qu'il ne m'est pas permis de rapporter, et qui marquaient bien le dérèglement de leurs mœurs (A.-R. Lesage).
Квазидраматургическое повествование часто прибегает, вместо прямого наименования сути происходящего, к конкретной детали, которая выступает как знак некоей неназванной сущности.
Художественная деталь играет настолько большую роль в литературе, особенно в современной, а умение читать такого рода знаки настолько важно для интерпретации художественного текста, что на этом вопросе надо остановиться специально.
§ 64. Художественная деталь как знак
По свидетельству А.С. Лазарева-Грузинского, в ту пору начинающего писателя, А.П. Чехов советовал ему: «Желая описать бедную девушку, не говорите: «по улице шла бедная девушка» и т.п., а намекните, что ватерпруф ее был потрепан или рыжеват, — и картина выиграет» 3.
У Пушкина в седьмой главе «Евгения Онегина» есть такие строки:
Был вечер. Небо меркло. Воды
Струились тихо. Жук жужжал.
Об этих строках В.Б. Шкловский писал: «... жук обозначает тишину, рассеянность, заменяет многое, но сам по себе не является темой, цельностью, характером.
Жук — это нарочно выделенный звук лета» 4.
Иначе говоря, жук — это знак тишины и лета, как порыжевший ватерпруф — знак бедности.
Знаки такого рода могут быть более или менее конвенциональными. Так, например, кашель как знак болезни или дрожащие руки как знак волнения персонажа давно стали штампами. Порыжевший ватерпруф — обновление традиционного знака бедности, каким является поношенная одежда. В противоположность им, жук у Пушкина — вполне оригинальный образ.
С семиотической точки зрения художественная деталь такого рода представляет собой знак-признак, внешнее проявление какого-то состояния, качества, процесса, хотя бы потенциально доступное наблюдению, — такое, что его можно изобразить на сцене или на экране. Это может быть физиологическая реакция, жест, предмет обстановки (например, «лимон весь высохший, ростом не более лесного ореха» или «графинчик... весь в пыли, как в фуфайке» в доме Плюшкина), одежда (например, халат того же Плюшкина), характерное слово или действие и т.п. Деталь может отсылать к неназванной сущности более или менее независимо от контекста и иметь одно и то же означаемое в разных контекстах, но чаще она получает или хотя бы уточняет свое значение только в рамках данного произведения (так, например, уже упомянутый халат Плюшкина осмысляется как знак крайней скупости в контексте соответствующей главы «Мертвых душ», тогда как вне его он мог бы быть воспринят как знак бедности). Говоря о художественной детали, полезно вспомнить то, что было сказано в § 18 о референциальном подтексте. Осмысление художественной детали и есть частный случай восприятия подтекста.
Повторяющаяся деталь (или однородные детали) создает лейтмотив, который может стать образом или символом основной художественной идеи произведения либо его части. Хрестоматийный пример этого — «Человек в футляре» А.П. Чехова. В начале рассказа мы читаем:
«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши и, когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и, когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний».
Несколько ниже:
«И мысль свою Беликов тоже старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера, или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него элемент всегда сомнительный, что-то недосказанное и смутное».
После этого мотив футляра неоднократно повторяется, а в конце рассказа, уже после смерти героя, возникает вновь в таком контексте:
«— А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? ... Видеть и слышать, как лгут ... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!»
Здесь вполне конкретная деталь поведения героя (точнее, серия однородных деталей) становится сначала символическим образом его характера и социальной сущности, а затем переосмысливается как символ существования служащей интеллигенции в эпоху безвременья. Метонимия превращается в развернутую метафору, смысл которой уже не сводим к абстрактному понятию типа «бедность», «скупость» или «патологическая боязнь открытых пространств».
Можно было бы привести множество примеров разнообразных литературных деталей, как чисто метонимических, имеющих локальное и легко формулируемое значение, так и более сложных, подобных только что разобранному случаю. Мы ограничимся разбором тех, что содержатся в приведенном выше (в § 63) отрывке из Мартен дю Гара, а затем, уже в отдельном параграфе, рассмотрим важнейшие детали рассказа «В полях».
В отрывке из «Семьи Тибо» таких явно значимых деталей пять:
1. Vers sept heures, la chienne se dressa en grondant. On avait sonné.
Несколькими строками выше сказано, что г-жа де Фонтанен провела ночь в кресле. Упоминание о реакции собаки на звонок, предшествующее прямой номинации факта (последняя дана к тому же в плюсквамперфекте), означает, что г-жа де Фонтанен сначала восприняла рычание собаки и лишь затем осознала, чем оно вызвано; из этого следует, что она спала.
2. Mme de Fontanin s'élança dans le vestibule; elle voulait ouvrir elle-même.
Эта деталь поведения матери свидетельствует о ее беспокойстве за сына — случай достаточно простой.
3. — C'est que, justement... mon fils n'est pas visible ce matin.
Содержание и стиль этой реплики говорят о замешательстве г-жи де Фонтанен и о ее сдержанности, нежелании посвящать постороннего человека в свои дела.
4. — Disparu? Sa main se crispa sur la mantille blanche dont elle avait voilé ses cheveux.
Жест явственно выражает эмоцию.
5. Elle avait baissé la tête; elle la releva presque aussitôt: D'autant plus qu'en ce moment mon mari est absent de Paris, ajouta-t-elle.
Пауза и жест, предшествующие упоминанию об отсутствующем муже, наводят на мысль, что здесь тоже кроется какая-то «болевая точка». Внимательный читатель сблизит эту фразу с другой, фигурирующей в предыдущей сцене: Mme de Fontanin avait l'expérience de ces mensonges-là; mais de Daniel, son Daniel, un mensonge, le premier! A quatorze ans, déjà?, которая, в свою очередь, была подготовлена в предыдущей главе отзывом г-на Тибо об отце Даниеля: Le père, en tout cas, est un sauteur... Итак, художественная деталь — это прежде всего средство выразить общее через частное, конкретное. «Эстетическая природа детали художественной заключает в себе естественное противоречие между частным положением ее в системе многочисленных элементов и компонентов произведения и устремлением сказать больше, чем она — как реалия — представляет, неявной претензией на обобщение, на целостный захват предмета, образа, идеи» 5.
Но, по существу, то же самое можно сказать о художественном образе вообще — специфика последнего, как мы видели (см. § 36), заключается в единстве общего и частного, отвлеченного и чувственно-наглядного, причем непосредственно данным, «означающим» является именно частное. Из этого следует, что художественная деталь и есть художественный образ, точнее, особая разновидность его, располагающаяся на ином, более низком уровне, чем такие элементы фабулы, как персонажи, события, ситуации. Так мы лишний раз убеждаемся, что принцип «общее в частном и через частное» пронизывает всю структуру художественного текста.
§ 65. Детали обстановки и поведения персонажей в рассказе Мопассана
В тексте рассказа можно выделить 5 основных групп художественных деталей, каждая из которых имеет общее означаемое (на самом деле, их больше, но на этом этапе исследования некоторые из них, в частности характерные особенности речевого поведения персонажей, непосредственно отражающиеся в стиле, еще не могут быть учтены).
1. Les deux chaumières étaient côte à côte... (стр. 1)
Chaque ménage en avait quatre. (стр. 3)
Devant les deux portes voisines... (стр. 3–4)
Les deux aînés avaient six ans et les deux cadets quinze mois environ; les mariages, et ensuite les naissances, s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. (стр. 4–7)
Смысл этих деталей ясен: одинаковость крестьянских семей — героев рассказа, о художественной функции которой уже говорилось в предыдущей главе (см. § 58).
2. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas; et les deux pères confondaient tout à fait — и далее до конца абзаца (стр. 8–11).
Эти детали свидетельствуют одновременно о близости двух семей и об умеренности родительских чувств в той и в другой, особенно у отцов.
3. Весь четвертый абзац рассказа (стр. 15–25) — подробное описание семейных трапез, включающее даже рецепт ежедневного супа (pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demichou et trois oignons) и сведения о меню воскресного обеда. Сюда же следует добавить:
Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux (стр. 91–93).
La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié... (стр. 175–176)
Общий знаменатель этих деталей, образующих лейтмотив, — еда. То, что еда постоянно выделяется, дается крупным планом (на один лишь 4-й абзац приходится около 6% общей длины текста), говорит прежде всего о важности этой стороны жизни для обеих крестьянских семей. Сама эта важность, а также то, что и как они едят, создает впечатляющий образ бедности.
С этой группой можно сблизить еще две детали, также рисующие повседневный быт крестьян:
Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe (стр. 50).
La vieille mère lavait ses tabliers; le père infirme sommeillait près de l'âtre (стр. 151).
To, что крестьяне заняты или едой, или грубой домашней работой, создает общее впечатление приземленности их существования, ограниченности его сугубо материальными заботами.
На этом фоне особую значимость получает уже приведенная деталь: La bonne femme pleurait dans son assiette... (стр. 175–176)
To, что, слушая попреки сына, она плачет в тарелку, но продолжает есть, подчеркивает сказанное выше о месте еды в жизни крестьян: еда — священнодействие, которое нельзя прерывать. В этой связи уместно, пожалуй, вспомнить миниатюру И.С. Тургенева «Щи», где крестьянка, потерявшая единственного сына-кормильца, в самый день похорон истово хлебает щи из котелка и на вопрос барыни, как она может есть в такой день, отвечает:
— Вася мой помер... Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные.
С другой стороны, то, что при таком отношении к еде мать Шарло, продолжая хлебать суп, половину расплескивает, очень точно и экономно передает ее потрясение, ее обиду — все то, о чем мы говорили выше, в параграфе, посвященном развязке рассказа.
4. Четвертая группа деталей характеризует г-жу д'Юбьер. Эти детали рассеяны по всему первому эпизоду рассказа (стр. 26–120) и также образуют лейтмотив образа. Мы назовем лишь наиболее характерные:
... une légère voiture s'arrêta brusquement... (стр. 26)
Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants... (и далее до конца абзаца, стр. 36–39)
... elle... partit au grand trot (стр. 40)
... elle... s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra du gâteaux... et joua avec eux comme une gamine... (стр. 41– 43)
Mme d'Hubières, éperdue, se mit à pleurer... (и далее до конца абзаца, стр. 74–76)
Mme d'Hubières, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite; et, comme elle voulait enlever 1'enfant, elle donna cent francs en cadeau... (стр. 113–116)
Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. (стр. 117–118) Тут, в частности, важно то, что она уносит ребенка невзирая на его рев.
В этих деталях — все то, что было отмечено выше (см. § 58) в характере г-жи д'Юбьер: ее страстность, импульсивность, порывистость, а также избалованность.
5. Последняя группа деталей наименее многочисленна — вся она содержится в двух фразах:
Il prenait vingt et un ans, quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs (стр. 145–147).
Забегая несколько вперед, скажем, что эта сцена увидена глазами Шарло Тюваша, это ему бросаются в глаза блестящая коляска и золотая цепочка от часов, он воспринимает приехавшего как «молодого господина». Здесь важны не только явные признаки богатства, но и стиль поведения, в частности жест, которым Жан Валлен помогает приемной матери выйти из коляски, — жест, обличающий в нем человека из другого, недоступного мира.
Таковы важнейшие детали, обнаруживающиеся в тексте рассказа. Переложенные на язык абстрактных понятий, они как будто мало что добавляют к уже установленному выше, в разделе о фабуле. Это не должно нас удивлять или разочаровывать: детали работают на фабулу, и, говоря в предыдущей главе о персонажах, о мотивах их поступков и об их характерах, мы имплицитно опирались на детали. Однако то, что у Мопассана все это не столько рассказано, сколько показано, передано совершенно конкретными чертами, в которых проявляются условия жизни, характеры, установки, настроения персонажей, заставляет читателя не просто понять, но увидеть и самому прочувствовать их жизнь и их драмы. Очевидно также, что те характеристики персонажей и ситуаций, которые мы попытались здесь сформулировать, не исчерпывают ни тех, ни других: начиная жить в воображении читателя, персонажи и ситуации обретают, хотя бы частично, полноту и неисчерпаемость бытия.
§ 66. Еще о двух типах повествования
Собственно эпическое и квазидраматургическое повествование редко реализуются в чистом виде: как во французской, так и в русской литературе мы почти не найдем произведений, которые бы целиком, от начала до конца, были выдержаны либо в одной, либо в другой манере. Обычно текст сочетает в себе элементы рассказа и показа; при этом обнаруживается такая закономерность: квазидраматургическое повествование, как правило, соответствует наиболее напряженным, переломным моментам фабулы (предложениям 2 и 4, по Тодорову, см. § 52), тогда как собственно эпическое повествование используется для рассказа об относительно спокойных, промежуточных отрезках фабульного времени. Это четко прослеживается в новелле Мопассана, где ключевые сцены даны очень подробно, в драматургической манере, а двадцатилетний промежуток между основными событиями рассказан в немногих словах.
Различные тексты сочетают рассказ и показ в разных пропорциях, отдавая более или менее явное предпочтение тому или другому типу повествования и реализуя его более или менее последовательно. Наиболее чистые и последовательно выдержанные образцы собственно эпического повествования обнаруживаются в классицистической прозе — у мадам де Лафайет, аббата Прево, Фенелона, Мариво, Лесажа. Как отмечалось исследователями, этой прозе в высшей степени свойственно единство действия — она сообщает читателю только то, что имеет прямое и непосредственное отношение к основной фабульной линии; ей чужды отступления, подробные описания, детали, портретность. При этом события излагаются здесь обобщенно, дается не столько сам процесс в его протекании, сколько результат (см. пример из Прево, приведенный в § 63). Даже «крупные планы» — относительно подробно описанные сцены, в частности важные для развития действия диалоги, переданные прямой речью, — даже они, по существу, не столько воспроизводят, сколько резюмируют сказанное.
Квазидраматургическое повествование характерно в первую очередь для новой и новейшей литературы, начиная приблизительно с Флобера. Типичный образец повествования такого типа — «Семья Тибо» Р. Мартен дю Гара, роман, представляющий собой длинный ряд почти драматургически построенных сцен, в которых ведущее место занимает диалог, причем каждая такая сцена охватывает, как правило, сугубо ограниченный промежуток фабульного времени. Квазидраматургическое повествование преобладает также в романах Л. Арагона, Ж.-П. Сартра, А. Лану, Р. Кено, А. Труайа, М. Бютора и многих других французских писателей XX в., хотя конкретные формы его достаточно различны; в частности, в произведениях ряда авторов ведущее место занимает не диалог, а воспроизведение потока сознания персонажей (подробнее об этом см. в § 87). В целом можно утверждать, что квазидраматургическое повествование если и не господствует безраздельно, то все же явно преобладает в современной литературе.
Чем же можно объяснить пристрастие классицизма к собственно эпическому повествованию и тяготение новейшей литературы к квазидраматургическому? Сам этот факт наводит на мысль, что выбор типа повествования — это не вопрос чисто литературной техники, что за каждым из названных типов стоит определенная эстетическая позиция.
Дело здесь в том, что собственно эпическое повествование дает нам фабулу не непосредственно, а в преображенном, обработанном виде: события пропущены через сознание повествователя, которое выявляет в них все существенное и только существенное, устанавливает причинно-следственные связи и произносит суд над событиями и их участниками. Естественно, что такой тип повествования выступает как норма в эпоху классицизма, которая, как известно, стремилась вскрывать во всем абстрактные сущности, возводить конкретные явления к общим категориям и судить обо всем с точки зрения абстрактного разума.
В противоположность собственно эпическому, квазидраматургическое повествование представляет читателю якобы сырую, необработанную последовательность фактов, которая, как в драме, должна говорить сама за себя. Голос повествователя, господствующий в собственно эпическом повествовании, здесь как бы устранен или приглушен — читатель сам должен делать выводы и выносить оценки. Мы понимаем, что эта непредвзятость, отсутствие явной тенденции на самом деле иллюзорны — скрываясь за событиями и персонажами, автор все равно творчески интерпретирует действительность, вершит суд над ней, хотя и иными средствами, и ведет читателя туда, куда он хочет его привести. Но видимость объективности, а также в ряде случаев открытые возможности различных истолкований фабулы действительно присущи квазидраматургическому повествованию.
В этом — в отказе от морализаторства, в предоставлении читателю большей свободы интерпретации изображаемого — и состоит смысл квазидраматургической манеры. Поэтому она и характерна для французской литературы послефлоберовского периода — времени, когда постепенно меняется представление о роли художника в обществе, когда в глазах публики и своих собственных глазах писатель перестает быть пророком, учителем жизни, а сама публика начинает все более и более критически относиться к открытой проповеди в искусстве.
Думается, что нет нужды специально рассматривать здесь с этой точки зрения новеллу Мопассана «В полях»; из всего сказанного выше (в частности, о передаче фабульного времени и о роли художественной детали в этом тексте) вытекает, что она явно тяготеет ко второму типу повествования, хотя сам жанр новеллы настоятельно требует единства действия (ограниченность объема препятствует широкому охвату фабульного пространства) и, следовательно, скорее предрасполагает к рассказу, чем к показу. Видимо, поэтому в новелле Мопассана, как уже говорилось, есть эпически построенные отрывки; однако своей сдержанностью, приглушенностью авторского голоса, выразительностью деталей, отсутствием прямых оценок и какого бы то ни было намека на морализаторство — тем, что составляет самую суть квазидраматургического повествования, — «В полях» может служить образцом этой новой манеры, родоначальником которой во французской литературе был учитель Мопассана Гюстав Флобер.
Характерные примеры прозы, объединяющей в своем строе рассказ и показ, дают романы и повести Бальзака. Бальзак продолжает традицию собственно эпического повествования в том смысле, что в его прозе сознание и голос повествователя присутствуют практически в каждой фразе 6. Как отмечали и французские, и советские исследователи, у Бальзака автор постоянно комментирует и оценивает происходящее, рассуждает о поступках персонажей, возводит конкретные факты к общим категориям — философским, этическим, эстетическим. В этом — установка на поучение, на раскрытие истин, поддающихся логическому формулированию и имеющих самостоятельную научную ценность. Но, с другой стороны, бальзаковское изображение фабульных событий, обстановки и персонажей необычайно конкретно, полнокровно, насыщено множеством живописных деталей, что сближает его с квазидраматургическим повествованием.
Сам Бальзак отдавал себе отчет в этой двойственности своей манеры и, усматривая в современной ему литературе два основных направления — «литературу идей» и «литературу образов», — причислял себя к сторонникам «литературного эклектизма». В известной статье о «Пармской обители» Стендаля он писал: «... je me range sous la bannière de l'éclectisme littéraire par la raison que voici: je ne crois pas la peinture de la société moderne possible par le procédé sévère de la littérature du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'introduction de l'élément dramatique, de l'image, du tableau, de la description, du dialogue me paraît indispensable dans la littérature moderne» 7.
В русской литературе XIX в. поразительный по своей мощи синтез того и другого типа повествования осуществил Л.Н. Толстой.
Соотношение рассказа и показа — очень важная характеристика художественного текста, определяющая многие аспекты его структуры. Как и в других разделах этой книги, мы отнюдь не претендуем на полное освещение данной проблемы и надеемся лишь, что сказанное здесь о двух основных типах повествования даст читателю необходимые ориентиры, поможет ему оценить с этой точки зрения тексты, которые ему предстоит интерпретировать самостоятельно.
§ 67. Порядок следования компонентов текста.
Фабульное время и порядок рассказывания
Как уже говорилось выше, нерасчлененная в принципе фабульная действительность оказывается представленной в тексте отдельными отрезками — сценами, которые отражают фабульные события и ситуации и объединяются в более крупные текстовые единицы — эпизоды. При этом каждая из сцен, в свою очередь, складывается из отдельных более мелких кусков, отражающих какие-то одновременные или последовательно сменяющие друг друга факты.
Поскольку речь линейна, в ходе формирования текста встает вопрос о его синтагматической организации, т.е. о порядке следования эпизодов внутри целого произведения или его части, сцен внутри эпизода, отдельных более мелких компонентов повествования внутри сцены. Аналогичным образом в кино, после того как все предусмотренные сценарием планы отсняты, начинается период монтажа — последовательное соединение материала в единое протяженное целое, кинематографический текст. Известно, что монтаж чрезвычайно ответственный этап, от которого во многом зависит будущий фильм, поскольку один и тот же материал можно смонтировать по-разному и фактически сделать из него множество разных фильмов.
В литературе синтагматическая организация текста, иначе говоря, взаимное расположение отдельных его кусков, как правило, не составляет отдельного этапа творческого процесса; но само это расположение может и должно рассматриваться как результат некоторой совокупности актов выбора, имеющих не меньшее художественное значение, чем монтаж в кино.
Здесь у читателя может возникнуть законный вопрос: разве последовательность сцен и эпизодов не диктуется естественной последовательностью событий в фабуле? И если так, то можно ли говорить о свободе выбора?
Во-первых, фабульная хронология не может определить последовательность компонентов текста, отражающих те элементы фабулы, которые имеют место одновременно. Так, например, если нам нужно описать, что делал в какой-то момент фабульного времени герой и что делала в тот же момент героиня, а также что происходило тогда же в какой-то другой точке фабульного пространства, мы, очевидно, можем начать и с одного, и с другого, и с третьего.
Но события, происходящие одновременно в разных частях фабульного пространства, как правило, имеют свою протяженность. Предположим, что в какой-то фабуле имеют место две строго одновременные непосредственно не связанные друг с другом событийные последовательности. Так, в романе Р. Вайяна «Закон» мы читаем (многоточия соответствуют элементам статического описания, которые опускаются):
Le bal se termina à trois heures du matin. Francesco Brigante débrancha sa guitare électrique et la rangea dans la grande boîte noire, doublée de soie violette... Il refusa d'aller au bar des Sports avec ses camarades du Cercle de jazz...
Francesco rentra chez lui et posa la boîte à guitare sur la desserte...
Matteo Brigante jeta un bref regard sur son fils... se remit à écrire.
Francesco ne dit pas bonsoir à son père... Il passa dans l'antichambre, prit des partitions... Il rentra dans la salle à manger, s'assit en face de son père et commença de lire les partitions, passant de l'une à l'autre, revenant à celle-ci, à celle-là.
И тремя страницами ниже:
A la fin du bal, le directeur de l'agence de la Banque de Naples est rentré chez lui avec sa femme. Elle boudait, parce qu'il a dansé plusieurs fois avec Giuseppina. Il s'est assis, pendant qu'elle se déshabillait en silence. Quand elle a été au lit:
— Je vais, a-t-il dit, fumer une cigarette sur la place.
— Tu vas rejoindre cette fille! s'est-elle écriée.
— Je te dis que je vais fumer une cigarette sur la place. J'ai bien le droit de prendre l'air, non?
Il est allé rejoindre Giuseppina.
Допустим, что нам каким-то образом удалось точно соотнести каждое движение, каждый факт той и другой событийной последовательности со шкалой фабульного времени, которая должна быть единой для обоих рядов, и получить в результате следующую схему:
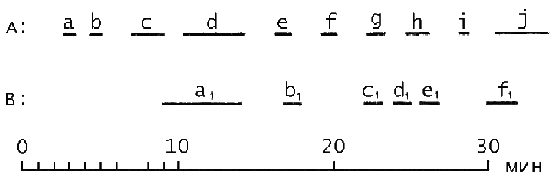
Отрезки a, b, с, d... обозначают подлежащие отражению факты последовательности A, а отрезки a1, b1, c1, d1 ... — факты последовательности В.
Следуя фабульной хронологии, мы должны были бы отразить соответствующий отрезок фабульного времени, очевидно, так: a, b, с, а1, d, e, b1, f, c1, g, d1, h, e1, i, f1, j; причем строго соблюсти эту хронологию нам бы все равно не удалось, так как а1 и d, e и b1, с1 и g, равно как и некоторые другие отрезки последовательностей A и B, полностью или частично синхронны, а мы должны излагать их последовательно. Но главное — это то, что повествование скорее всего получилось бы бессвязным. Попробуем совместить таким образом хотя бы начало того и другого отрывка из Вайяна:
Le bal se termina à trois heures du matin. Francesco Brigante débrancha sa guitare électrique et la rangea dans la grande boîte noire... Il refusa d'aller au bar des Sports avec ses camarades du Cercle de jazz... A la fin du bal, le directeur de l'agence de la Banque de Naples est rentré chez lui avec sa femme... Francesco rentra chez lui et posa la boîte à guitare sur la desserte. Le directeur s'est assis, pendant que sa femme se déshabillait en silence. Matteo Brigante jeta un bref regard sur son fils... se remit à écrire. Quand elle a été au lit:
— Je vais, a dit le directeur, fumer une cigarette sur la place.
Бессвязность или, во всяком случае, странность получившегося текста объясняется тем, что факты каждого событийного ряда (a, b, с, d... и а1, b1, с1, d1....) не просто следуют друг за другом, а образуют единое последовательно развивающееся действие, где каждый последующий факт обусловлен предыдущими, так что понять смысл с в отрыве от a и b невозможно.
Отметим попутно, что сконструированный нами текст обладает еще одним, достаточно неожиданным и первоначально не запланированным свойством: если все-таки отнестись к нему как к связному и мысленно расчленить две объединенные в нем событийные последовательности, создается впечатление, что текст намекает на какие-то особые отношения то ли между Франческо и женой директора банка, то ли между этой женщиной и Матео Бриганте, то ли между кем-то из Бриганте, отцом или сыном, и директором банка. К этому вопросу мы вскоре вернемся.
Таким образом, при наличии в фабуле одновременных событийных рядов или хотя бы отдельных фактов возникает неустранимое противоречие между фабульной хронологией и принципом связности текста, согласно которому между референтными ситуациями, описываемыми в следующих друг за другом высказываниях, должна быть какая-то связь (см. выше, § 19); иначе говоря, возникает противоречие между фабульным временем и фабульным пространством: либо то, либо другое должно подвергнуться расчленению.
В мировой литературе известны тексты, в которых повествование более или менее регулярно (либо эпизодически) подчиняется не требованию единства действия, а фабульной хронологии, свободно совмещая в едином повествовательном ряду факты, относящиеся к разным событийным последовательностям. То, что при этом получается, очень похоже на искусственно сконструированный нами отрывок, соединяющий две различные сцены романа «Закон». К такой технике иногда прибегали в 20–40-е гг. нашего века Ж. Ромен, автор цикла романов «Люди доброй воли», Ж.-П. Сартр (в романе «Отсрочка») и американский романист Дж. Дос Пассос, Смысл ее заключается прежде всего в том, чтобы подчеркнуть одновременность событий, происходящих в разных местах (ср. подобный монтаж в кино), а также внутреннюю связь между двумя или несколькими формально не связанными фабульными линиями.
Однако в подавляющем большинстве случаев указанное противоречие разрешается скорее в пользу фабульного пространства, точнее, достигается своеобразный компромисс: сначала, как мы видели в примере из Вайяна, описывается одна сцена, один событийный ряд — a, b, с, d..., а затем другой — a1, b1, c1, d1 ... (при этом точные координаты во времени того или иного факта, как правило, не нужны; существенна лишь их последовательность внутри данного ряда). Ясно, что переход от конца одного событийного ряда к началу другого, приблизительно одновременного, т.е. переход от j к a1 (см. схему на с. 160), означает возвращение повествования назад, к началу соответствующего отрезка фабульного времени, в котором заключены обе событийные последовательности.
Так сам факт многомерности фабулы, с одной стороны, и линейности повествования — с другой, уже предрасполагает к нарушению естественной последовательности в рассказе о событиях, в результате чего в почти любом повествовании обнаруживаются более или менее заметные возвращения назад (ретроспекции) или забегания вперед (проспекции) 8.
А вот несколько иной случай: в приведенном выше примере из Вайяна возвращение назад наблюдается даже внутри одного событийного ряда: A la fin du bal, le directeur de l'agence de la Banque de Naples est rentré chez lui avec sa femme. Elle boudait, parce qu'il a dansé plusieurs fois avec Giuseppina. Это небольшое нарушение фабульной последовательности вызвано необходимостью объяснить некоторый факт, имеющий место в данный момент развития действия, какими-то предыдущими фактами. Таким образом, здесь тоже строгая фабульная последовательность приносится в жертву связности повествования — фабула отступает перед сюжетом.
§ 68. Еще о нарушениях фабульной последовательности.
«Герой нашего времени» и «Жаворонок»
Нарушения фабульной хронологии могут мотивироваться не только указанными обстоятельствами и быть не только локальными, как в приведенных примерах, но и более существенными, затрагивающими всю композицию произведения. Проиллюстрируем это классическим текстом, несомненно хорошо известным всем читателям — «Героем нашего времени».
Знаменитый роман М.Ю. Лермонтова складывается из пяти отдельных повестей и рассказов, которые идут в следующем порядке, установленном самим автором: 1) «Бэла»; 2) «Максим Максимыч»; 3) «Тамань»; 4) «Княжна Мери»; 5) «Фаталист»; последние три объединены общим заголовком «Журнал Печорина», и им предпослано небольшое предисловие. Между тем если внимательно вчитаться и вдуматься в текст, сопоставить между собой события, происходящие в каждом из эпизодов, обнаруживается, что с точки зрения фабульного времени, т.е. хронологии жизни главного героя Григория Александровича Печорина, порядок эпизодов должен был бы быть иным, а именно: 1) «Тамань»; 2) «Княжна Мери»; 3) «Бэла»; 4) «Фаталист» и 5) «Максим Максимыч».
Б.М. Эйхенбаум, автор одной из самых авторитетных работ о «Герое нашего времени», обосновывает это так: «... от «Тамани» идет прямое движение к «Княжне Мери», поскольку Печорин приезжает на воды, очевидно, после участия в военной экспедиции (в «Тамани» он — офицер, едущий в действующий отряд); но между «Княжной Мери» и «Фаталистом» надо вставить историю с Бэлой, поскольку в крепость к Максиму Максимычу Печорин попадает после дуэли с Грушницким («Вот уже полтора месяца, как я в крепости; Максим Максимыч ушел на охоту» 9). Встреча автора с героем, описанная в рассказе «Максим Максимыч», происходит спустя пять лет после события, рассказанного в «Бэле» («этому скоро пять лет», — говорит штабс-капитан), а читатель узнает о ней до чтения «Журнала». Наконец, о смерти героя читатель узнает раньше, чем об истории с «ундиной», с княжной Мери и проч. — из предисловия к «Журналу» 10.
Действительно, странная композиция: хронологическая последовательность нарушена так, что даже о смерти героя читатель узнает, еще не приступив к чтению основной части романа! Между тем не кто иной, как В.Г. Белинский писал: «... несмотря на его («Героя нашего времени») эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать» 11.
Чем же мотивируется такое построение и в чем его художественный смысл?
Мотивировка перестройки здесь достаточно проста, естественна и в общем типична для подобных расхождений между фабульной хронологией и хронологией рассказывания: последняя определяется хронологией знакомства повествователя со своим героем 12. Действительно, в первый раз повествователь узнает о Печорине со слов случайного попутчика, Максима Максимыча, который рассказывает ему историю с Бэлой; затем он сам оказывается свидетелем встречи Печорина со штабс-капитаном и, наконец, ему в руки попадают записки Печорина; узнав о смерти последнего, он их публикует. Забегая несколько вперед, скажем, что такой принцип построения связан с другой чрезвычайно важной для эпической прозы проблемой — проблемой мотивировки самого повествования — и представляет собой один из возможных ответов на потенциальный вопрос читателя, откуда автору известно то, что произошло с героями.
Следуя хронологии знакомства повествователя с героем, а не хронологии действия, автор «постепенно вводит читателя в душевный мир героя» 13: от рассказа с чужих слов («Бэла») он переходит к прямому наблюдению извне, позволяющему дать мотивированный портрет Печорина («Максим Максимыч»), и от него — к рассказу героя о себе, т.е. к показу изнутри.
Очень интересным и смелым сюжетным ходом является преждевременное (с точки зрения «классического» построения сюжета) сообщение о смерти героя: ведь зная, что Печорин умрет, возвращаясь из Персии, пять с лишним лет спустя после событий, описываемых в «Тамани», «Княжне Мери» и «Фаталисте», читатель заранее уверен, что героя не утопят контрабандисты, не застрелит Грушницкий на дуэли и не зарубит шашкой пьяный казак. В результате читательский интерес переносится с вопроса «Что будет с героем?» на вопрос «Каков он?»
Это чрезвычайно существенная особенность романа. Как писал Б.М. Эйхенбаум, «Герой нашего времени» — первый в русской прозе «личный» (по терминологии, принятой во французской литературе), или «аналитический роман»; его идейным и сюжетным центром служит не внешняя биография («жизнь и приключения»), а именно личность человека — его душевная и умственная жизнь, взятая изнутри как процесс» 14. «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли нелюбопытнее и не полезнее истории целого народа...», — замечает сам Лермонтов в предисловии к «Журналу Печорина».
Аналогичное смещение «центра интереса» имеет место в произведениях, более или менее точно воспроизводящих античную или иную классическую фабульную схему, заведомо известную читателю или зрителю. Читая или смотря на сцене «Троянской войны не будет» Ж. Жироду, «Мухи» Ж.-П. Сартра или «Антигону» Ж. Ануйя, мы с самого начала знаем, что Троянская война все-таки разразится, что, несмотря на все колебания, Орест, мстя за отца, убьет узурпатора Эгисфа и собственную мать Клитемнестру; знаем, что Антигона, вопреки запрету правителя Креона, предаст погребению тело своего брата и будет за это казнена (между прочим, в таком же положении находились зрители древнегреческой трагедии, основанной на мифе, который был известен практически всем). И главное, чего мы ждем от пьесы, это не разрешения фабульного конфликта, а ответа на вопросы, как? и почему? все должно прийти к заранее предрешенному финалу (так для школьника, решающего задачу, важен не ответ, который дан в конце учебника, а ход решения, закономерно приводящий к этому ответу). «Волнение, связанное непосредственно с интригой, исключается, все внимание сосредоточивается на мотивировке поступков, на диалоге-споре Антигоны и Креона, Ореста и Юпитера» 15.
Вернемся к «Герою нашего времени». Художественный смысл «странной» композиции романа не исчерпывается сказанным. Как помнит читатель, последним в тексте идет рассказ «Фаталист». Конец «Фаталиста», когда Печорин, рискуя жизнью, разоружает пьяного казака, — это, конечно, не развязка романа; по справедливому замечанию Ю.М. Лотмана, в тексте «Героя нашего времени» как целом развязка приглушена 16 (что естественно, так как главное в нем не интрига сама по себе, а личность героя). И однако конечная позиция «Фаталиста» придает его развязке особую значимость. Своеобразная композиция романа дала его автору «право и возможность закончить его мажорной интонацией: Печорин не только спасся от гибели, но и совершил (впервые на протяжении романа) общеполезный смелый поступок, притом не связанный ни с какими “пустыми страстями”: тема любви в “Фаталисте” выключена вовсе. Благодаря своеобразной “двойной” композиции... и фрагментарной структуре романа герой в художественном (сюжетном) смысле не погибает: роман заканчивается перспективой в будущее — выходом героя из трагического состояния бездейственной обреченности... Вместо траурного марша звучат поздравления с победой над смертью — “и точно, было с чем!” — признается сам герой» 17.
Любопытно, что в сущности такое же построение конца, только откровенно условное, без реалистической мотивировки, обнаруживается в пьесе Ануйя «Жаворонок». Героиня пьесы Жанна д'Арк в ходе суда над ней должна сыграть свою жизнь. И вот основные эпизоды сыграны; под давлением судей Жанна отрекается от своих «заблуждений», но потом берет свое отречение обратно. Костер уже пылает, но в этот момент один из персонажей пьесы вбегает и требует остановить казнь, потому что не был сыгран самый славный эпизод ее жизни — коронование Карла VII в Реймсе. «Cet homme a raison, — говорит Карл. — La vraie fin de l'histoire de Jeanne, la vraie fin qui n'en finira plus, celle qu'on se redira toujours, quand on aura oublié ou confondu tous nos noms, ce n'est pas dans sa misère de bête traquée à Rouen, c'est l'alouette en plein ciel, c'est Jeanne à Reims dans toute sa gloire... La vraie fin de l'histoire de Jeanne est joyeuse, Jeanne d'Arc, c'est une histoire qui finit bien!»
И пьеса заканчивается сценой триумфа Жанны и того дела, за которое она борется.
§ 69. Осознание факта как материал художественного произведения
Рассмотрим построение еще одного достаточно известного текста, где порядок изложения существенно отклоняется от хронологии событий. В романе Ф. Мориака «Тереза Дескейру» событийная последовательность такова: Тереза, дочь богатого землевладельца, наследница нескольких тысяч гектаров леса в Ландах, девушка несомненно одаренная, достаточно образованная, но лишенная нравственного чувства, выходит замуж за нелюбимого человека и сразу же после свадьбы осознает, что попала в западню — она не только должна прожить всю жизнь бок о бок с мужчиной, чье присутствие с трудом переносит; от нее требуют отречься от себя, забыть о счастье во имя единственного бога, которому поклоняются окружающие, — семьи как носителя наследственной собственности. По прошествии какого-то времени она как будто смиряется со своим положением, убежденная, что иначе и быть не может, и даже по поручению семьи делает все возможное, чтобы разлучить сестру мужа, единственную подругу своих девических лет, с человеком, которого та любит (по единодушному мнению семьи, он ей не пара). Но после краткого знакомства с ним — «первым встреченным ею человеком, для которого духовная жизнь была превыше всего» и который помогает ей взглянуть со стороны на весь ужас ее прозябания в удушливой атмосфере семейного клана, — Тереза с новой силой начинает ненавидеть мужа, видя в нем основную причину своей несвободы.
Однажды муж по рассеянности выпивает тройную дозу лекарства, содержащего мышьяк. Она это видит, но не пытается ему помешать. Местный врач не угадывает отравления во внезапной болезни Бернара, и через некоторое время Тереза, готовя лекарство мужу, уже сознательно начинает удваивать и утраивать дозы. Бернар чувствует себя все хуже и хуже. Чтобы довести дело до конца, Тереза вынуждена подделать рецепт; подделка вскрывается, обнаруживается и подлинная причина болезни Бернара. Врач возбуждает дело, начинается следствие. Но для спасения чести и финансовых интересов семьи муж дает ложные показания, а отец, используя свои связи, добивается прекращения дела, «за отсутствием состава преступления».
Возвращаясь домой после того, как следователь объявил ей, что дело закрыто, Тереза готовится к объяснению с мужем: она хочет чистосердечно рассказать ему все и надеется на понимание и прощение, но Бернар отказывается ее слушать и объявляет ей заранее заготовленные условия ее домашнего ареста. Он убежден, что его жена — чудовище, что она пыталась отравить его, чтобы завладеть принадлежащими ему двумя тысячами гектаров леса; но перед соседями надо по-прежнему изображать благополучную буржуазную семью. Тереза хочет отравиться, но обстоятельства мешают ей. Начинаются долгие месяцы домашнего заключения. Тереза теряет всякий интерес к жизни, худеет, чахнет. Опасаясь нового скандала, который возник бы в случае ее смерти, семья решает, наконец, дать ей свободу, и Тереза уезжает в Париж.
Таковы важнейшие события романа, изложенные в хронологическом порядке. Повествование же начинается с момента, когда Тереза выходит из Дворца правосудия в сопровождении адвоката; следствие прекращено, она должна вернуться домой, к тому самому мужу, которого пыталась отравить. Все, что предшествует этому моменту действия, мы узнаем из последующих семи глав, посвященных возвращению Терезы домой, во время которого она вспоминает все случившееся. Таким образом, юность Терезы, ее замужество, ее жизнь в семье Бернара, попытка отравления, разоблачение — все это дано в ретроспекции, причем главное, юридическая сторона дела, сообщено с самого начала. С подобным построением мы уже знакомы;" смысл его, как уже говорилось, заключается в том, что читателя занимает не то, что будет — это он уже знает, — а как и почему это произошло.
Но у Мориака воспоминания героини получают интересную и психологически убедительную мотивировку: Тереза готовит свою исповедь, ей самой жизненно необходимо вспомнить и осознать, наконец, недавнее прошлое, разобраться, как это все могло случиться, понять самое себя, для того чтобы ее мог понять и простить другой, тот человек, на жизнь которого она покушалась. Que lui dirait-elle? Par quel aveu commencer? Des paroles suffisent-elles à contenir cet enchaînement confus de désirs, de résolutions, d'actes imprévisibles? Comment font-ils, tous ceux qui connaissent leurs crimes? ... Moi, je ne connais pas mes crimes. Je n'ai pas voulu celui dont on me charge. Je ne sais pas ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais su vers quoi tendait cette puissance forcenée en moi et hors de moi: ce qu'elle détruisait sur sa route, j'en étais moi-même terrifiée...
Таким образом, непосредственным объектом изображения здесь являются не сами факты, а попытка осознать их, вхождение фактов в сознание героини 18 или, как выражается Ц. Тодоров, «не действие, а реакция на него» 19 (в данном случае реакция героини в первую очередь на свои собственные действия). Фабула здесь как бы расслаивается, и второй слой — осмысление фактов (первого слоя) сознанием героини, преображение «запутанного клубка помыслов, решений и непредвиденных поступков» в своего рода связный текст сознания — становится ведущим. Основная проблема, та неопределенность, которую должна снять развязка, состоит не столько в мотивах преступления Терезы, сколько в том, удастся ли ей самой разобраться в них и донести свое понимание до Бернара, от этого зависит вся ее дальнейшая жизнь, ее спасение — и в житейском, и в нравственном, даже религиозном смысле этого слова (не следует забывать, что Мориак был ревностным, хотя и далеко не ортодоксальным католиком).
Эта проблема, этот конфликт остается в центре и заключительной части романа, где события излагаются «впрямую», без ретроспекции. И, несмотря на внешне благополучный финал, роман заканчивается трагически, потому что подлинное понимание случившегося и, как следствие, просветление души героини не достигнуто — в значительной степени по вине другой стороны, Бернара, который в итоге отказался выслушать ее до конца и постараться понять.
Произведения, в которых главный интерес заключается не в самой цепи событий, а в перипетиях ее восстановления и(или) осознания, весьма многочисленны, особенно в современной литературе. Самый простой пример такой «двуслойной» фабулы дает нам детективный роман, где есть, с одной стороны, история преступления, а с другой — история его раскрытия 20. Осознание событий имеет больший вес, чем сами события, и в философском романе.
Не всякий текст, рассказывающий не столько о событиях, сколько об их осознании, содержит существенные отклонения от фабульной хронологии, в конце концов, осознание может происходить параллельно с самими событиями. Однако можно утверждать, что порядок изложения, явно отклоняющийся от хронологии событий, практически всегда определяется порядком, в котором события входят в сознание исследующего их субъекта. Как правило, такие отклонения имеют следствием перенос читательского интереса с самих фактов на их обстоятельства, в первую очередь на мотивы поступков действующих лиц, и(или) на историю исследования фактов, на их вхождение в чье-то сознание, будь то сознание героя или сознание повествователя. Эти отклонения нередко вносят также в текст элемент загадки, как это бывает в детективном романе.
Любопытно, что нечто сходное (за исключением элемента загадки) имеет место при повторном чтении текста: здесь фабульная перспектива тоже нарушается, так как читатель уже знает, что произойдет с героями, и интересуется в первую очередь тем, как это произойдет (точнее, произошло) и(или) как об этом рассказано. В сущности, повторное чтение перестраивает любой текст, придавая ему «обратную» перспективу, подобную той, что имеет место в «Герое нашего времени» или в «Терезе Дескейру». Здесь тоже порядок восприятия фактов определяется порядком их осознания, но субъектом этого осознания выступает уже не тот или иной персонаж произведения и не рассказчик, а сам читатель.
§ 70. Плавность и прерывность повествования
Как уже неоднократно говорилось, любое повествование дискретно, прерывно; отражая фабулу выборочно, отдельными фрагментами, оно само членится на отдельные куски, прежде всего на отдельные сцены, соответствующие монтажным планам в кино. Но эта расчлененность бывает более или менее скрытой либо, наоборот, явной, подчеркнутой.
Переходы от одного «монтажного плана» к другому могут быть плавными, естественными, при которых между двумя соседними сценами устанавливается очевидная логическая связь, чаще всего временная последовательность и (или) отношение причины и следствия. Так, допустим, что в какой-то сцене романа герой пишет героине письмо, в котором объявляет ей о разрыве, а в следующей сцене героиня получает это письмо.
А вот принципиально иной случай. Первая сцена романа Сартра «La mort dans l'âme» происходит в Нью-Йорке. Время действия точно обозначено: 9 часов утра (по местному времени) 15 июня 1940 г. Гомец, бывший генерал испанской республиканской армии, оказавшийся после поражения Республики в Америке, идет устраиваться на работу в сопровождении своего нью-йоркского приятеля и от него узнает, что Париж взят гитлеровскими войсками. Сцена кончается словами: Dix heures, trois heures en France: blême, sans espoir, un après-midi se cachait au fond de cette matinée coloniale.
А следующая за ней сцена начинается так:
Trois heures en France. «Nous voilà beaux», dit le type.
Il restait pétrifié sur son siège, Sarah voyait la sueur ruisseler sur sa nuque; elle entendait la meute des klaxons.
«Il n'y a plus d'essence!»
Сара — жена Гомеца, которая вместе с их пятилетним сыном Паблито жила до этого в Париже. Из продолжения этой сцены выясняется, что она с сыном, как многие в эти дни, бежит из города, сданного немцам, — это знаменитый парижский «исход», как его называли во Франции. А тот, кто в тексте именуется le type, — владелец гаража, который за 200 франков согласился подвезти Сару до города Жьена.
Связь между сценами — одновременность, вернее, точная хронологическая последовательность (вторая начинается в тот момент, когда заканчивается первая) — сигнализируется и подчеркивается фразовым повтором: Trois heures en France. Однако внутренней, органической связи, основанной на единстве фабульного действия, как в нашем первом примере, здесь нет. О ней можно было бы говорить, если бы судьба Гомеца и его семьи составляла основную интригу романа (как, скажем, судьба двух супружеских пар в «Хождении по мукам» А.Н. Толстого); но у Сартра они отнюдь не главные персонажи: Гомец появится еще один раз, в третьей по счету сцене, а Сара больше вообще не появится.
Аналогичным образом построена вся первая часть романа: она состоит из 17 отдельных сцен, из которых каждая явно связана с предшествующей и последующей только хронологически: они либо синхронны, либо следуют одна за другой. В целом первая часть охватывает период с двух часов дня (по среднеевропейскому времени) 15 июня 1940 г. до шести часов пятнадцати минут утра 18 июня. Действие происходит в шести разных местах, которые соответствуют шести различным фабульным линиям. Сцены, соответствующие одной и той же линии, регулярно отделяются друг от друга сценами, происходящими в каком-либо ином месте, с иными персонажами. Из этих шести линий только одна — линия главного героя Матьё Деларю — получает более или менее четкую развязку.
Не следует думать, что такое построение представляет собой что-то исключительное: если не считать точной хронологической приуроченности каждой сцены и хронологической соотнесенности всех сцен друг с другом, а также того, что шесть фабульных линий практически никак не пересекаются (герои более или менее знакомы друг с другом и иногда вспоминают один о другом, но за то время, что длится действие, ни разу не встречаются), если отвлечься от этих особенностей романа Сартра, следует признать, что само чередование прямо не связанных кусков — явление достаточно частое. «Смены частных тем характерны главным образом для текстов большого объема и широкого, всестороннего охвата действительности, что имеет место особенно в художественной сфере (вспомним, например, тематическую многолинейность романа Л.Н. Толстого «Война и мир», построенного на принципе чередования основных тем с попутным вводом тем эпизодических)» 21. Добавим, что такие «смены частных тем», т.е. разрывы единства действия, не только характерны, но и неизбежны в тексте, который тянет несколько фабульных линий (ср. выше, § 67).
§ 71. Сцепления между фрагментами, не связанными единством действия
Но есть ли в таких случаях непосредственная содержательная связь между соседними сценами (или фрагментами сцен) помимо связи хронологической? Этот вопрос особенно важен для текстов, где отдельные фабульные линии не пересекаются.
В самой общей форме на него надо ответить утвердительно: в художественном тексте между двумя любыми соседними кусками устанавливаются определенные смысловые отношения: сама смежность имплицирует содержательную связь. Именно поэтому наш экспериментальный текст из § 67 приобрел отмеченный выше неожиданный компонент смысла: раз о фактах, происходящих с различными персонажами в различных точках фабульного пространства, рассказывается параллельно, в одном повествовательном ряду, значит, эти факты и персонажи как-то связаны, но связь между ними до поры до времени звучит лишь в подтексте.
Общий принцип такой внелогической или логически не выраженной связи между элементами художественного текста сформулирован Ю.М. Лотманом: это со-противопоставление, выявление различного в сходном и общего (сходного) в различном 22. Со-противопоставление элементов и является важнейшим источником специфически художественного подтекста. Нарочитая, специально подчеркнутая хронологическая связь между разными, не похожими друг на друга ситуациями и персонажами, а также четкая приуроченность всех событий к определенному дню и часу в романе Сартра выявляют прежде всего тот факт, что все эти персонажи не только современники, но и непосредственные участники той огромной драмы, которая разыгрывается в мире, что все их частные проблемы и конфликты обусловлены историческими событиями — «странной войной» и поражением Франции — и сами являются их конкретными, частными проявлениями. Фабульное движение романа — это в первую очередь движение самой истории.
Есть еще нечто чрезвычайно важное, что объединяет этих пространственно и душевно разъединенных персонажей: la mort dans l'âme, ils l'ont tous, chacun à sa manière; каждый из них несет «смерть в душе». Это эмоциональная доминанта каждой фабульной линии, которая неоднократно подчеркивается совпадением отдельных частных мотивов и даже прямыми словесными повторами в разных, главным образом соседних сценах (например, уже приведенная нами последняя фраза первой сцены: «... blême, sans espoir, un après-midi se cachait au fond de cette matinée coloniale» и «Pourquoi marcher, quand l'espoir est mort? Pourquoi vivre?» во второй).
Общность в свою очередь подчеркивает различия: каждый переживает общую драму по-своему, ищет свой путь преодоления внутреннего конфликта, в котором отражается драма совести целой страны, и при этом, как правило, не понимает других — ни тех, кто рядом, ни тех, кто далеко. Так, когда один персонаж думает или говорит о другом, фигурирующем в соседней сцене, постоянно обнаруживается разрыв между взглядом со стороны, неизбежно схематизирующим и упрощающим, и реальностью конкретного момента существования, которую демонстрирует следующая сцена романа. Например, Жак Деларю, брат Матьё, говорит жене: «Mon frère a été versé dans le service auxiliaire et, par conséquent, ne court aucun danger» в тот самый момент, когда Матьё с дюжиной солдат, верных долгу, готовится принять последний бой с наступающей немецкой дивизией.
Из таких вот сцеплений в едином тексте сцен, персонажей, событий, фабульных линий, мотивов, деталей и рождается, как имплицитное содержание, сложный, но внутренне единый образ мира, эпохи и человека, действительно не поддающийся выражению никакими другими средствами (вспомним слова Л.Н. Толстого, приведенные в § 41). Для прозы Сартра эти трудноуловимые имплицитные смыслы, вытекающие из сцепления разных сцен и элементов других уровней текста, особенно важны, потому что он принципиально отказывается от открытого авторского комментария и оценки, а также от введения в текст персонажей, выражающих мысли автора. Но эти смыслы имеют первостепенное значение и для понимания любого другого многопланового текста.
Проблема сцепления элементов художественного текста выходит за рамки проблемы отношений между сценами и эпизодами. Но связи между различными «монтажными планами» повествования надо рассматривать в первую очередь в этой перспективе. Каждый раз, когда связь между соседними относительно независимыми друг от друга фрагментами не является «естественной», логически обязательной, следует задаться вопросом: как они влияют друг на друга, какой новый смысл, не сводимый к сумме смыслов этих кусков, несет их сочетание?
§ 72. Еще о сопоставлениях и противопоставлениях элементов текста
Принцип со-противопоставления применим к анализу отношений не только между крупными и относительно независимыми кусками текста, но и между элементами других его уровней, причем необязательно смежными и необязательно воплощенными в каком-то одном определенном отрезке повествования. Отношения одновременного сходства и различия могут возникать, например, между двумя или более персонажами как одного произведения, так и разных текстов.
Выше, в § 49, мы говорили об идентичности двух семей в начале рассказа Мопассана и об их противопоставленности в дальнейшем и упомянули в этой связи о «героях-двойниках», которые оттеняют друг друга. Это частный случай отношения со-противопоставленности между элементами текста. Но для возникновения таких отношений между персонажами нет необходимости в явном, подчеркнутом сходстве: достаточно, чтобы была хоть какая-то общность, хотя бы синхронность существования в контексте больших исторических событий, как в романе Сартра, или совпадение статусов и принадлежность к одному и тому же социальному пространству, как это имеет место в «Терезе Дескейру», где на этой основе сопоставляются и противопоставляются Тереза и Анна, ее невестка и бывшая подруга.
В том же романе возникает параллель между двумя, казалось бы, несопоставимыми персонажами — Терезой и ее старой теткой Кларой: абсолютная глухота последней обрекает ее на одиночество, превращает, как сказано у Мориака, в «замурованную заживо» (emmurée vivante), и эта ее отъединенность от мира становится образом одиночества Терезы, ее отчужденности от семьи (и, может быть, по замыслу автора, от бога); при этом метафора emmurée vivante в равной мере может быть приложена и к судьбе Терезы, приговоренной мужем и его семьей к пожизненному заключению в пустом доме, стоящем среди леса (ср. Thérèse murmure: «A Argelouse... jusqu'à la mort...»). Таким образом, персонажи и их судьбы образуют фигуру, подобную образному сравнению или двучленной метафоре, где Тереза — тема (поскольку она героиня романа), а тетка Клара — образ 23.
Возможны также (и нередки) сопоставления между разнородными элементами структуры текста, например между действием и его фоном, в частности, между ситуацией, в которой находится герой, и явлениями природы или пейзажем. В фольклорной поэзии постоянно встречаются параллели такого типа:
Не белая березка нагибается,
Не шатучая осина расшумелася,
Добрый молодец кручиной убивается... 24
или:
Без ветру леса шумят,
А вас-то, родимых дитеткох,
Без вины журьбой бранят...(Рекрутская причеть) 25
Это, в сущности, имплицитные сравнения, где явления природы вводятся более или менее немотивированно, только по сходству с основной ситуацией. В отличие от фольклора, в новой литературе (в частности, в прозе) пейзаж всегда связан с действием — он является именно фоном последнего, но при этом между пейзажем и ситуацией часто возникают отношения подобия. Вот как В.Б. Шкловский анализирует строение XXX главы романа «Анна Каренина»:
«XXX глава начата так: «Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов, по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, — было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновение буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери».
Буря дана как веселая и непротивоборимая, и в этой буре она видит Вронского, который за ней поехал.
Буря — это как бы погруженная в реалистическое повествование метафора. Вронский, показанный в колеблющемся свете фонаря, связан с бурей, когда он говорит Анне:
« — Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы... я не могу иначе.
И в это время, как бы одолев препятствия, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепетал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь.
Буря — это любовь» 26.
У Мориака в «Терезе Дескейру» устанавливается явное и неоднократно подчеркиваемое отношение подобия между героиней и окружающей ее природой — безлюдным и безводным сосновым лесом. Жара, отсутствие воды: ... la fournaise de la lande; ... le pays de la soif: pas le moindre filet d'eau à Argelouse; ... il n'y a plus d'eau dans la lande; aucune eau vive ne court dans ce désert... — этот постоянно повторяющийся мотив, характеризующий основное место действия, в то же время, по замыслу автора, является образом души героини, что прямо дано в метафоре: J'ai été créée à l'image de ce pays aride où rien n'est vivant, hors les oiseaux qui passent, les sangliers nomades. Но это и образ ее судьбы и той среды, в которой она обречена жить — образ внутренней и внешней драмы женщины, которую никто никогда не любил, за исключением глухой тетки Клары (но Тереза осталась глуха к этой любви), и которая сама никого не любит («живая вода» в этом сцеплении образов символизирует любовь).
Особое место в романе занимают сосны, сосновый лес. Это основной элемент пейзажа и в то же время основное достояние семьи, главная ценность, во имя которой заключаются браки (Au vrai, pourquoi en rougir? Les deux mille hectares de Bernard ne 1'avaient pas laissée indifférente... «Lui aussi, d'ailleurs, était amoureux de mes pins»), ради которой вообще живут. И сосны, символ собственности, становятся также символом семейного плена — такими же прутьями гигантской клетки, как и окружающие Терезу люди («barreaux vivants de la famille»): Au-delà, une masse noire de chênes cachait les pins; mais leur odeur résineuse emplissait la nuit; pareils à l'armée ennemie, invisible mais toute proche, Thérèse savait qu'ils cernaient la maison. Ces gardiens, dont elle écoute la plainte sourde, la verraient languir au long des hivers, haleter durant les jours torrides; ils seraient les témoins de cet étouffement lent.
С мотивом безводного лесного края тесно связан другой — постоянная угроза пожара, который также осмысливается в двух планах: реалистическом и символическом. В этой связи значимым и весьма существенным становится то обстоятельство, что Тереза курит («elle fume comme un sapeur»); она — потенциальная поджигательница, т.е., в символическом плане, человек, грозящий семье катастрофой. Как и в предыдущих случаях, параллель «лесной пожар — семейная катастрофа» конкретизируется в метафоре, где пересекаются оба плана, реалистический и символический: Rien de changé, mais elle avait le sentiment de ne plus pouvoir désormais se perdre seule. Au plus épais d'une famille, elle allait couver, pareille à un feu sournois qui rampe sous la brande, embrase un pin, puis l'autre, puis de proche en proche crée une forêt de torches — так описываются ощущения Терезы в день свадьбы. Героиня изображается здесь как скрытый очаг пожара, а семья — как сосновый лес. Метафорическое выражение «Аи plus épais d'une famille», по аналогии с фразеологизмом «au plus épais de la forêt» имплицирует отождествление famille — forêt. При этом важно, что в пожаре должна погибнуть и она сама как неотъемлемая часть этой безводной лесной глуши, «créée à l'image de ce pays aride». И наконец, отнюдь не случайно первый шаг к преступлению Тереза делает в день большого лесного пожара, причем рассказу-воспоминанию об этом предшествует выделенный пробелами абзац, где сплетаются воедино три названных мотива: Des semaines se succédèrent sans que tombât une goutte d'eau. Bernard vivait dans la terreur de l'incendie, et de nouveau souffrait de son cœur. Cinq cents hectares avaient brûlé du côté de Louchats: «Si le vent avait soufflé du nord, mes pins de Balisac étaient perdus». Thérèse attendait, elle ne savait quoi de ce ciel inaltérable. 11 ne pleuvrait jamais plus... и т.д.
Эти и некоторые другие созвучные с ними мотивы, характеризующие обстановку (например, постоянно повторяющееся le silence d'Argelouse), сплетаясь друг с другом и с основной линией действия, придают в общем банальной уголовной интриге психологическую убедительность, неповторимость индивидуальной судьбы и индивидуального мироощущения. Физическое и конкретное, многократно отражая смутные душевные настроения героини, тем самым освещает и усиливает их в нашем восприятии; мы как бы заражаемся соответствующим настроением и если не вполне понимаем, то, во всяком случае, ощущаем глубинные мотивы поведения Терезы и сочувствуем ей.
Приведенные примеры не исчерпывают всего многообразия возможных сопоставлений между различными элементами структуры текста. Типология их — дело будущего. Мы назовем лишь еще один случай — параллелизм между основным и фоновым действием. Классическим примером такого построения служит известная сцена из «Госпожи Бовари», в которой Родольф, первый любовник Эммы, говорит ей о своих чувствах во время церемонии открытия сельскохозяйственной выставки, и пошлая, стандартно-романтическая болтовня провинциального сердцееда причудливо сплетается с обрывками официальных речей:
— Ainsi, nous, disait-il, pourquoi nous sommes-nous connus? quel hasard l'a voulu? C'est qu'à travers l'éloignement, sans doute, comme deux fleuves qui coulent pour se rejoindre, nos pentes particulières nous avaient poussés l'un vers l'autre.
Et il saisit sa main; elle ne la retira pas.
«Ensemble de bonnes cultures!» cria le président.
— Tantôt, par exemple, quand je suis venu chez vous...
«A M. Bizet, de Quincampoix».
— Savais-je que je vous accompagnerais?
«Soixante et dix francs!»
— Cent fois même j'ai voulu partir, et je vous ai suivie, je suis resté.
«Fumiers».
На таком переплетении построена целая большая сцена. Художественный эффект его — это, во-первых, противопоставление поэзии романтической любви и прозы провинциальной жизни; так, по крайней мере, это должно восприниматься самой героиней. Но за этим контрастом и на фоне его, уже не для Эммы, а для читателя, обнаруживается глубокое сходство между обеими линиями: их лживость или, точнее, демагогичность. Переплетение линий дает комический эффект, дискредитирующий романтические штампы Родольфа, но за ним — глубокий трагизм положения героини, потому что выхода нет 27.
Рассматривая сцепление различных элементов текста, мы вынуждены были кое-где забежать вперед и вторгнуться в сферу словесного стиля. Очевидно, это неизбежно, поскольку такие сцепления могут осуществляться одновременно на разных уровнях. Описанные здесь со-противопоставления и так называемые компаративные тропы, сравнение и метафора, суть явления одного порядка, с той лишь разницей, что в метафоре сходство несходного выражается в едином семантически противоречивом высказывании, тогда как сопоставление персонажей или параллелизм действия и пейзажа языковой узус непосредственно не нарушают. Но все они делают одно дело: акцентируют несходство сходного при явном сходстве и сходство несходного при явном различии сопоставляемых элементов, «выбивая» из этого сопоставления новое знание о предмете и (или) новое ощущение предмета.
§ 73. Два способа введения нового
Рассмотрим теперь еще один важный аспект художественного текста, который можно назвать способом введения или степенью подготовленности новых тем. Этот аспект тесно связан с описанным выше противопоставлением двух основных типов повествования — рассказа и показа.
Как неоднократно говорилось выше, речь в принципе движется от известного к неизвестному. На уровне отдельного высказывания это поступательное движение воплощается в так называемом темо-рематическом членении предложения. В развернутом же тексте при самом обычном, так называемом линейном его построении связность текста обеспечивается тем, что тема каждого очередного высказывания введена в одном из предыдущих высказываний в качестве ремы или компонента ремы последнего (см. выше, § 9) — неизвестное, ставшее известным, служит отправной точкой для введения нового элемента, который затем, в свою очередь, послужит темой и т.д.
В речевом обиходе любого человеческого сообщества имеются понятия и понятийные сферы, из которых черпаются «абсолютные» темы, не нуждающиеся в специальном введении; с них может и в принципе должно начинаться любое повествование. К таким исходным и универсальным тематическим понятиям относятся в первую очередь пространство, время и идея существования, а также, при непосредственном общении и при общении, имитирующем таковое, «я» адресанта и «ты» («вы») адресата. В идеальном, классическом случае темой начального высказывания повествовательного текста выступают слова, обозначающие пространственные и (или) временные координаты подлежащей описанию ситуации (последовательности событий), а также тот или иной бытийный предикат, вводящий исходный элемент ситуации, чаще всего главное действующее лицо: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ...» 28. Такие зачины типичны для фольклорного повествования и для текстов, ориентирующихся на фольклор (см., например, начало «Сказки о рыбаке и рыбке»). Другой традиционный зачин содержит в качестве основного предиката глагол, обозначающий само повествование, а в качестве актантов — обозначение адресанта и (или) адресата, а также предмета сообщения: «Не лепо ли пы бяшете, братие, начати старыми словесы трудных повестий о полку Игореве, Игоря Святославича!» (Слово о полку Игореве); Je chante le combat et се prélat terrible (Boileau).
В более или менее преобразованном виде, с большими или меньшими вариациями, подобные схемы начал долгое время оставались господствующими в эпической литературе, в особенности первая:
Il existe, dans une ville espagnole, située sur une île de la Méditerranée, un couvent de Carmélites déchaussées, institué par sainte Thérèse, où la règle de l'Ordre s'est conservée dans la rigueur primitive de la réformation due à cette illustre femme (H. de Balzac, La duchesse de Langeais).
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté (Stendhal).
Что же касается новых персонажей, появляющихся не с начала, то они вводились либо по аналогичной схеме, либо с опорой на левый контекст, т.е. на уже известное читателю.
Но возможны, а в новейшей литературе и достаточно обычны, зачины другого типа, когда текст начинается как бы с середины, без опоры на известное:
L'avocat ouvrit une porte. Thérèse Desqueyroux, dans ce couloir dérobé du Palais de Justice, sentit sur sa face la brume et, profondément, l'aspira. Elle avait peur d'être attendue, hésitait à sortir. Un homme, dont le col était relevé, se détacha d'un platane; elle reconnut son père. L'avocat cria: «Non-lieu!» et, se retournant vers Thérèse:
— Vous pouvez sortir: il n'y a personne.
Elle descendit les marches mouillées. Oui, la petite place semblait déserte. Son père ne l'embrassa pas, ne lui donna pas même un regard; il interrogeait l'avocat Duros qui répondait à mi-voix, comme s'ils eussent été épiés. Elle entendait confusément leurs propos:
— Je receverai demain l'avis officiel du non-lieu.
— Il ne peut plus y avour de surprise?
— Non: les carottes sont cuites, comme on dit.
— Après la déposition de mon gendre, c'était couru.
— Couru... couru... On ne sait jamais.
— Du moment que de son propre aveu, il ne comptait jamais les gouttes...
— Vous savez, Larroque, dans ces sortes d'affaires, le témoignage de la victime...
La voix de Thérèse s'éleva:
— Il n'y a pas eu de victime.
— J'ai voulu dire: victime de son imprudence, madame (Mauriac).
Очевидно, что такой способ представления нового — все равно, в абсолютном начале или в середине текста — представляет собой одно из проявлений общей тенденции к сближению эпоса с драмой, ведь в театральной пьесе предварительные сведения о персонажах и исходной ситуации сообщаются, да и то далеко не всегда, лишь в списке действующих лиц и в ремарках, которые остаются неизвестными зрителю, сидящему в зале; в основном же эти сведения должны извлекаться непосредственно из сценического действия.
§ 74. Иллюзия данности и ее художественный смысл
Но если новое никак не вводится и не поясняется, а дается как якобы известное, за счет чего же читатель получает необходимые для понимания происходящего сведения?
Ответ в общем ясен: за счет пресуппозиций и импликаций; необходимые сведения извлекаются из основанного на них референциального подтекста (см. выше, § 18).
Рассмотрим пример, приведенный в § 73, — начало «Терезы Дескейру». Героиня, о которой мы еще ничего не знаем, выходит из Дворца правосудия в сопровождении своего адвоката, причем не через главный вход, а через какой-то боковой коридор. Ее отец почему-то ждет на улице, а сама Тереза боится посторонних глаз, причем адвокат понимает ее страх, о чем свидетельствует его реплика, обращенная к ней. Одного этого достаточно, чтобы заключить, что Тереза замешана в каком-то судебном деле и что, вероятно, совесть ее не чиста, а общественное мнение против нее. То, что адвокат первым делом сообщает отцу («Non-lieu» в данном контексте означает «следствие прекращено за отсутствием состава преступления»), дает нам понять, что речь идет об уголовном деле.
Далее, из разговора адвоката с отцом (который даже не смотрит на Терезу) выясняется, что в деле был замешан также, в качестве предполагаемой жертвы, зять последнего — очевидно, муж Терезы; если сопоставить это с предыдущими выводами, в частности, с тем, что Тереза боится, а также с тем, что отец явно испытывает отчуждение по отношению в дочери, можно заключить, что она фигурировала в качестве подозреваемой и что подозревали ее ни больше, ни меньше, как в попытке отравить мужа (то, что предполагалось использование яда, вытекает из упоминания о каких-то каплях, которые будто бы не считал муж). Ясно также, что муж остался жив, поскольку он давал показания в ходе следствия и поскольку дело закрыто. Если добавить к сказанному то, что все они боятся и ведут себя как заговорщики, а адвокат прямо называет мужа жертвой и лишь затем, в ответ на реплику Терезы, не очень ловко поправляется: J'ai voulu dire: victime de son imprudence, — нельзя не прийти к выводу, что и отец, и адвокат твердо убеждены в виновности Терезы и что дело, видимо, искусственно замято.
Можно лишь удивляться, как много существеннейшей фабульной информации имплицитно содержится всего в 23 строках текста! При том, что, помимо этих необходимых для понимания фабулы сведений, здесь же дается конкретная, живо представимая и достоверная картина, психологическая атмосфера, настроение, речевые и поведенческие характеристики персонажей. Одна эта информационная емкость уже оправдывает использованный автором прием. Но есть еще один чрезвычайно интересный момент — искусственная затрудненность восприятия: все сформулированные нами сведения о ситуации, в которой находится Тереза в начале романа, преподносятся читателю не в готовом виде, а как разрозненные элементы мозаики, из которых надо сложить общую картину, как своего рода загадка или кроссворд. «Может быть другое построение, которое обычно для загадки, — писал по этому поводу В.Б. Шкловский. — Предмет сразу дается как бы не в полном видении, с разрозненными и переставленными признаками. Задачей анализа является собирание из частей целого, причем анализ состоит в том, что разгадок может быть несколько; смена разгадок, уточнение их способствуют анализу. В результате истинное понимание снимает и вытесняет ложное понимание, и мы, как говорили еще древние риторы, радуемся тому, что получили новое знание» 29. Иначе говоря, дозированная затрудненность восприятия возбуждает любопытство, стимулирует читательскую активность и вознаграждает ее радостью открытия. В этом смысле эффект такого начала подобен эффекту метафоры, при восприятии которой читатель также должен «отгадать загадку» 30.
Собственно говоря, какая-то загадка в сюжетном построении эпического текста есть или должна быть всегда. В самом обычном повествовании, где нет нарушений фабульной перспективы и перемещения читательского интереса с событий на что-то иное, она заключается в вопросе, что будет дальше, чем разрешится конфликт; в произведениях типа «Героя нашего времени» или той же «Терезы Дескейру» — в вопросе, как и почему произошли известные события; в так называемом романе тайн (включая в это понятие и детективный роман) — кто убийца, каково истинное происхождение героя и т.п. 31. Но при таком способе введения нового, в частности, при таком начале повествования, какое мы находим в «Терезе Дескейру», загадка обращена не только вперед, но и назад: она заключается не только в вопросе, что произойдет или что выяснится в дальнейшем, но также — что произошло раньше и что происходит сейчас.
Явление, аналогичное разобранному нами способу введения нового, но лежащее на уровне отдельного предложения, включенного в повествовательный текст, описывает И.И. Ковтунова. Оно заключается в том, что именная группа, называющая новое лицо, предмет, событие и т.п., занимает в предложении позицию не ремы, а темы; например: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра» (Пушкин). В таких высказываниях актуализируется пресуппозиция существования темы (см. выше, § 18) — раз сказано, что долгая зимняя ночь прошла незаметно, значит, она была, значит, дело было зимой и играли всю ночь. И.И. Ковтунова называет это явление «иллюзией данности» и пишет о нем следующее: «Это — изобразительный прием, вовлекающий читателя в ход повествования, создающий иллюзию его причастности к совершающимся событиям. Новые лица, предметы, явления вводятся в повествование так, как будто читатель уже с ними знаком, их видит, слышит и воспринимает» 32.
В заключение — два слова о новелле Мопассана «В полях». В том, что касается введения нового, новелла построена как будто достаточно традиционно — повествование последовательно движется от известного к неизвестному, а в начале текста дается достаточно обширная экспозиция, вводящая героев, описывающая их социальное пространство и их повседневный быт. Лишь в двух первых фразах наблюдается небольшой сдвиг — «иллюзия данности» двух домов и двух семей (Les deux chaumières... Les deux paysans...). Однако автор не сообщает нам никаких эксплицитных сведений о людях из города — ничего, кроме того, что было известно в деревне. Все остальное, что важно для понимания фабулы, не рассказано, а показано, должно быть выведено нами из слов, поступков и деталей поведения персонажей, подобно тому как исходные сведения о Терезе Дескейру выводятся из сцены, с которой начинается роман. Это лишний раз подтверждает, что «иллюзия данности», если ее понимать широко (не только на уровне отдельного предложения), в сущности является одним из проявлений тенденции к квазидраматургическому повествованию и, следовательно, несет общий художественный смысл, который мы попытались сформулировать выше, в § 66.
§ 75. Некоторые итоги
В этой главе мы говорили главным образом о тех возможностях построения эпического текста, которые непосредственно связаны с метонимичностью как его непременным свойством. В самом деле, практически все рассмотренные здесь вопросы сводятся к отбору и взаимному расположению частей, которые представляют целое — фабулу. И, говоря о значимости отбираемых автором элементов и возникающих между ними сцеплений, мы отмечали в первую очередь то, что «работает на фабулу», т.е. соотносили части с целым.
Но художественный текст, как мы знаем, моделирует не только мир, но и воспринимающего мир субъекта — художника, как носителя определенного миросозерцания и мироощущения. Кое-что в этом направлении мы уже наметили, в частности попытались сформулировать общие идеологические и эстетические установки, лежащие за двумя основными типами повествования — рассказом и показом. Однако большинство аспектов структуры художественного текста, которые связаны непосредственно с субъектом повествования (и без которых текст как единое значимое целое просто не существует), нам еще предстоит рассмотреть. Этому и будет посвящена следующая глава.
Глава V
ОБРАЗ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ
§ 76. Образ повествователя как организующий принцип отбора и аранжировки фабульного материала
В предыдущей главе мы рассмотрели ряд существенных аспектов организации повествования на уровне сюжета и попытались наметить парадигматику художественных решений на этом уровне, т.е. выявить основные, принципиальные возможности, которыми располагает в этой области художник. Но, как уже говорилось выше (см. § 43), акты выбора, совокупность которых определяет весь облик текста, должны быть согласованы друг с другом, так чтобы в итоге получилась не сумма ситуаций и литературных приемов, а единая система. Чем же обеспечивается это единство и эта системность?
Принципиальный ответ на этот вопрос нам уже известен. В любом речевом общении выбор и истолкование референтной ситуации (референтного пространства), равно как и коммуникативное содержание высказывания, определяются адресантом — его статусом, позицией, ролью, его интересами и потребностями, его постоянными личностными свойствами и сиюминутным состоянием, его представлением не только о референтной ситуации, но и о себе как субъекте речи, о партнере и о коммуникативной ситуации в целом. Вследствие этого любое высказывание, любой текст информирует получателя об адресанте — о том, как он представляет себе коммуникативную ситуацию и себя в ней, а также о том, что он за человек, каков он вообще и в данную минуту. Иначе говоря, любое высказывание имплицитно несет образ адресанта (см. § 3). В художественном тексте как фабула (конструируемое автором референтное пространство текста), так и сюжет (его истолкование и представление) также определяются субъектом речи, т.е. в конечном счете автором — его моделью мира, его личностью в целом, а также его представлением об избранном жанре, о читателе, о литературе вообще. В свою очередь, художественный текст рисует нам не только героев и их судьбы, но и автора во всех названных здесь аспектах (об этом говорилось достаточно подробно в главе II).
Итак, необходимое единство авторских решений как на уровне фабулы, так и на уровне сюжета обеспечивается в конечном счете единством авторской личности и его взгляда на мир — тем, что Л.Н. Толстой назвал «единством самобытного нравственного отношения автора к предмету» и что в современной советской филологии часто называют образом автора 1.
Однако образ автора — это последняя, высшая инстанция; читатель имеет дело не непосредственно с ним, а с образом повествователя, который и выступает как организующий принцип повествования, определяющий и соотношение рассказа и показа, и отбор деталей, и последовательность изложения, и монтаж фрагментов — вообще все основные сюжетные и стилистические решения.
Повествователь — это непосредственно стоящий за текстом (или частью его) и непосредственно моделируемый текстом субъект речи; по определению Г.А. Гуковского, это «не только более или менее конкретный образ, присутствующий вообще всегда в каждом литературном произведении, но и некая образная идея, принцип и облик носителя речи, или иначе — непременно некая точка зрения на излагаемое, точка зрения психологическая, идеологическая и попросту географическая, так как невозможно описывать ниоткуда и не может быть описания без описателя..., воплощение того сознания, той точки зрения, которая определяет весь состав изображенного в произведении, т.е. отбор явлений действительности, попадающих в поле зрения читателя и образующих и образную силу, и идейную направленность произведения...» 2.
Образ повествователя — это не то же самое, что образ автора. Повествователь и автор по-разному соотносятся друг с другом. Весьма многочисленны и широко известны случаи (подробнее мы о них поговорим чуть позже), когда несовпадение повествователя с автором очевидно и прямо подчеркивается в тексте: Гринев — не Пушкин, а Адольф — не Бенжамен Констан. Но и тогда, когда повествование ведется как будто непосредственно от имени автора, механически и безоговорочно отождествлять повествователя с автором все равно нельзя. Между ними бывает большая или меньшая близость, отсутствие противопоставления; однако, теоретически рассуждая, полного, стопроцентного тождества не бывает никогда, во всяком случае, в таких жанрах, как роман, повесть и рассказ, обязательно предполагающих элемент художественного вымысла. Это объясняется тем, что автор реален, принадлежит тому же миру, что и читатель, а фабула вымышленна; даже в романе, написанном как будто от лица самого автора (а не вымышленного рассказчика), повествователь обычно рассказывает о фабуле как о реальности и тем самым маскирует истинную коммуникативную ситуацию, состоящую в том, что писатель N.N. — тот, чье имя стоит на обложке, — пишет роман, т.е. рассказывает читателю заведомо вымышленную историю.
Повествователь — это роль, которую играет автор, причем такая роль, которая предполагает не просто поведение по определенным правилам, но и некоторый сдвиг по отношению к личности исполнителя, большее или меньшее актерство, проявление «литературного артистизма» 3 автора. Подобно тому как автор имеет право на художественный вымысел в отношении персонажей и ситуаций, он волен имитировать и коммуникативный процесс, отличающийся от того, который имеет место на самом деле, например выдавать свой текст не за им самим написанный роман, а за дневник героя или — в менее явном случае — выдавать вымышленную историю за подлинные события (последнее не только допускается, но и фактически предписывается правилами игры). Так и возникает фигура повествователя, не тождественная авторской и являющаяся, наряду с персонажами и событиями, одной из форм проявления образа автора. Мы судим об авторе не только по тому, какую историю он нам рассказывает, но и по тому, кому он поручает эту работу, какую маску надевает, какую позицию выбирает, чтобы рассказать о персонажах и событиях.
Являясь организующим принципом повествования, образ повествователя в то же время тесно связан с очень важной общей проблемой эпоса — проблемой мотивировки текста, в частности мотивировки знания фабулы. В самом деле, вопрос о том, откуда автору известно, что сказали друг другу с глазу на глаз герой и героиня и что подумал при этом герой, это, как мы увидим в дальнейшем, вопрос не такой уж наивный и во всяком случае не праздный.
В последующих параграфах мы попытаемся наметить основные типы повествователей, встречающихся в эпической прозе, в первую очередь в литературе XVIII—XX вв., и посмотрим, как выбор того или иного типа сказывается на общем строе повествования, в частности на отборе фабульного материала, а также как решается в том или ином случае проблема мотивировки текста.
§ 77. Позиция повествователя как основа классификации
Как всякий субъект речи, повествователь характеризуется рядом параметров или свойств, которые уже неоднократно перечислялись (последний раз — в начале предыдущего параграфа). За основу классификации мы возьмем позицию или, иначе, точку зрения повествователя. Но позиция или точка зрения — понятие достаточно широкое, которое можно трактовать по-разному 4. В приведенном выше отрывке из книги Г.А. Гуковского говорится о точке зрения «психологической, идеологической и попросту географической», т.е., надо полагать, пространственной. Психологическая и идеологическая позиции повествователя настолько многообразны, что не поддаются рациональному исчислению и, следовательно, не могут лечь в основу классификации. То же можно сказать и о не упомянутой Г.А. Гуковским прагматической позиции повествователя, которая характеризуется тем, для чего, с какой целью рассказывается данная история.
Остается то, что Г.А. Гуковский назвал географической точкой зрения, имея в виду точку в пространстве, с которой описывается та или иная фабульная ситуация, так как «невозможно описывать ниоткуда» (точно так же, как нельзя фиксировать объект на кино- или фотопленке, не установив камеру в каком-то определенном месте, не выбрав точку съемки) 5. В литературном повествовании, как и в кино, «точка съемки», т.е. пространственная позиция повествователя по отношению к описываемой ситуации, в принципе изменчива. Мы можем, однако, каждый раз, применительно к каждому конкретному тексту, уловить тенденции и пределы этой изменчивости, выявить некую постоянную, исходную позицию повествователя, в рамках которой осуществляются все сдвиги, его позицию по отношению к фабульному пространству в целом и к некоторым его частным аспектам, таким, например, как сознание персонажей.
Но есть и другая сторона дела — позиция повествователя в «пространстве коммуникации», т.е. по отношению к истинному автору (адресанту) и читателю (адресату). Мы начнем с позиции повествователя по отношению к истинному автору и по отношению к фабульному пространству в целом.
Как уже было сказано, повествователь эпического текста в принципе никогда не совпадает полностью с истинным автором, причем отношения между ними могут быть весьма различными. Однако все разнообразие этих отношений можно, хотя бы на первых порах, свести к следующим двум противостоящим друг другу случаям:
I. Повествователь не фигурирует в тексте как отдельное более или менее четко очерченное лицо, не совпадающее с автором, и не противопоставлен автору по тем или иным существенным параметрам своей идеологической позиции или своего образа в целом. Такого повествователя иногда называют аукториальным.
II. Повествователь явно не идентичен автору и является более или менее четко очерченной вымышленной фигурой — «речевым порождением автора», по выражению В.В. Виноградова.
Необходимые разъяснения и примеры будут даны ниже.
По второму признаку — позиции повествователя по отношению к фабульному пространству — намечаются опять-таки два основных случая:
1. Повествователь находится вне фабульного пространства, т.е. вне мира персонажей, он существует как бы в другом измерении и встретиться со своими героями не может.
2. Повествователь принадлежит фабульному пространству наравне с другими персонажами; он — один из них 6. И здесь выделяются два подтипа: а) повествователь находится в центре фабульного пространства, т.е. является если и не главным героем, то одним из центральных персонажей произведения; б) повествователь находится на периферии фабульного пространства; он не столько действующее лицо, сколько свидетель.
При наложении друг на друга эти два членения дают нам четыре комбинации, которые должны соответствовать четырем типовым позициям повествователя:
I.1. Повествователь, не противопоставленный автору (аукториальный повествователь), находится вне фабульного пространства.
I.2. Повествователь, не противопоставленный автору, находится внутри фабульного пространства, в центре его (подтип «а») или на периферии (подтип «б»).
II.1. Повествователь, противопоставленный автору, т.е. вымышленный рассказчик, находится вне фабульного пространства; такого повествователя мы будем называть ложным или подставным автором.
II.2. Повествователь — вымышленный рассказчик находится внутри фабульного пространства, в центре его («а») или на периферии («б»).
Рассмотрим вначале позиции I.1 и II.2, противопоставленные друг другу по обоим дифференциальным признакам и наиболее часто встречающиеся в литературной практике.
§ 78. Аукториальный повествователь над миром персонажей.
Позиция I.1 соответствует широко распространенному типу повествования, который в чисто грамматическом плане характеризуется тем, что все персонажи обозначаются формами третьего лица (за исключением тех случаев, когда они сами говорят о себе). Это понятно, так как повествователь — тот, кто мог бы употребить местоимение «я», не принадлежит к числу действующих лиц. Вообще, пока и поскольку он излагает фабулу, т.е. говорит не о себе, а о персонажах, форме первого лица нет места в повествовании; она может возникнуть лишь в так называемых авторских отступлениях.
Повествование типа I.1 характерно как для раннего европейского романа XVII в., так и для литературы XIX—XX вв.; оно представлено, например, в творчестве Сервантеса, М. де Лафайет, Скаррона, Вольтера, Бальзака, Гюго, Стендаля, Флобера, Золя, Роллана, Л.Н. Толстого, Тургенева, Гончарова, Диккенса и многих других. В классических образцах такого повествования, в частности в романах Бальзака, Гюго, Золя, Толстого, повествователь в принципе знает все, что происходит в любой точке фабульного пространства и имеет право свободно переходить от одного персонажа к другому, забегать вперед, возвращаться назад и т.п. 7.
Так, например, «Отец Горио» Бальзака начинается с описания пансиона г-жи Воке, портрета хозяйки и краткой характеристики его постоянных обитателей. После этого рассказывается история появления в пансионе папаши Горио, его отношений с хозяйкой и его постепенного обнищания, причем рассказывается она так, как ее воспринимала г-жа Воке и другие постояльцы, т.е. извне. Следующий «монтажный план» — предыстория Растиньяка, в которой сообщаются разнообразные сведения о его семье и о нем самом. Затем идет короткая сцена возвращения Растиньяка в пансион после бала у г-жи де Босеан и сразу же за ней, ретроспективно, — рассказ об этом бале и о знакомстве юноши с графиней де Ресто. После этого Растиньяк наблюдает через замочную скважину странные действия папаши Горио, а затем слышит, как к Вотрену тайком поднимаются какие-то люди. Следующая сцена — разговор слуг, из которого мы узнаем кое-какие сведения о Вотрене и о Горио — персонажах, с каждым из которых сопряжена какая-то тайна.
Таким образом, повествователь здесь как будто не связан никакими ограничениями, кроме тех, что накладывает требование элементарной связности текста; он знает все обо всех, и если чего-то и не говорит нам, то лишь потому, что до поры до времени хочет сохранить это в тайне, чтобы возбудить читательское любопытство.
Имея в виду эту свободу и это всезнание, можно сказать, что в повествовании типа I.1 повествователь стоит не только вне мира персонажей, но и над ним 8. При этом он не лжет и не ошибается: по замыслу автора, читатель должен принимать на веру все, что исходит непосредственно от самого повествователя (но не от персонажей); он — полномочный представитель автора, у которого не может быть с ним никаких идеологических расхождений, голос истины (того, что есть истина в авторском понимании, естественно). В этом отношении такое повествование подобно исторической хронике тех времен, когда историк не считал себя обязанным ссылаться на источники и высказывал не гипотезы, а категорические суждения: такое-то событие произошло так-то и в силу таких-то причин, а откуда это известно, выносится за скобки.
Последнее в полной мере характерно для повествования типа I.1: действительно, знание фабульных событий повествователем здесь никак не мотивируется; это откровенная условность, но мы к ней привыкли и воспринимаем ее как нечто естественное. В условности, немотивированности и слабость, и сила такой манеры повествования: отказываясь от попыток объяснить возникновение своего текста «естественными» причинами (не стремясь, например, выдать его за случайно попавший ему в руки чей-то дневник или запись устного бытового рассказа), автор освобождает себя и от необходимости оправдывать вездесущность и всезнание повествователя 9. За счет этого достигается широта охвата фабульной действительности, возможность показа ее с различных точек зрения, свобода изменения пространственной, временной и психологической перспективы, свобода композиции, и, следовательно, большие возможности введения всякого рода сопоставлений элементов (см. § 71, 72).
Кроме того, статус истинности, присущий голосу повествователя, в соединении со свободой композиции дает автору возможность прямо высказывать свои оценки и суждения по поводу фабульных событий, обобщать, философствовать, проводить исторические параллели и т.п., как это постоянно делают Бальзак, Гюго, Роллан и Л.Н. Толстой. Однако речь здесь идет именно о возможности, которую многие авторы, например Флобер, Мопассан, Сартр и ряд других, не используют или используют в очень ограниченных пределах, так что наличие прямых оценок и отступлений не может считаться непременным признаком повествования типа I.1. В рамках этого типа равно возможны также собственно эпическое и квазидраматургическое повествование, рассказ и показ.
§ 79. Повествование «от персонажа»
Позиция II.2. в общем соответствует тому, что обычно называют повествованием от первого лица, хотя само но себе употребление этой грамматической формы является лишь внешним ее признаком и встречается не только в этом типе повествования. Фигура повествователя, заведомо не тождественного автору и принадлежащего фабульному пространству, т.е. персонажа, рассказывающего свою собственную историю (или события, которые он сам наблюдал), возникает как попытка обосновать правдоподобное повествование о частной жизни, которая в принципе скрыта от посторонних глаз. Вводя фигуру персонажа-повествователя, автор как бы пытается ответить на вопрос, «как и откуда он — частный человек — видит и раскрывает всю эту частную жизнь» 10.
Такая форма повествования эпизодически появляется уже в позднегреческой повести («Левкиппа и Клитофонт», «Золотой осел») — в эпоху, когда частный человек и частная жизнь начинают входить в поле зрения эпической прозы 11; однако наибольшее распространение (по крайней мере, в европейской литературе) она получает в XVIII — начале XIX в., что связано с новым пониманием романа как «буржуазного эпоса», по выражению Гегеля, т.е. как повествования о реальной, а не о выдуманной жизни. Как писал Г.А. Гуковский, «уже в XVIII веке перед литературой встал во весь рост вопрос, который в простейшей форме может быть выражен так: если герои романа, повести, рассказа должны предстать перед читателем не как выдумка писателя, а как живые, реальные люди (помня, что повествование — не анекдот, а идеологически ответственное изображение), то откуда автор знает о том, что происходило с этими людьми наедине, откуда он знает их сокровенные мысли и чувства и почему читатель должен и может верить автору во всем этом?» 12. Другой, хотя и связанный с этим, фактор, способствовавший распространению такой формы повествования, заключался в выдвижении идеи личности как основы искусства 13: субъективная точка зрения отдельного человека начинает восприниматься не только как имеющая право на существование, но и как более ценная, чем точка зрения отвлеченного разума, которая была основой поэтики классицизма.
Повествование «от персонажа» широко представлено в творчестве аббата Прево, Мариво, Лесажа, Дефо, Свифта, Ричардсона, Руссо, Шатобриана, Констана, Мюссе, Мериме, Пушкина, Лермонтова, Бестужева-Марлинского и многих других авторов этой эпохи. Но и впоследствии оно многократно использовалось и используется по сей день самыми различными писателями, такими, как Достоевский, Лесков, Мопассан, Чехов, Пруст, Барбюс, Камю, Э. Базен и др. Такое повествование часто имитирует внелитературные формы коммуникации — мемуары, дневник, устный бытовой рассказ (достаточно вспомнить «Героя нашего времени», где представлены два последних речевых жанра); однако такого рода мотивировки и соответствующие им жанровые признаки могут отсутствовать, как, например, в романе Камю «Посторонний» или в романах Базена, где вряд ли можно дать реалистическое объяснение самому факту рассказа героя о себе. Последнее явно свидетельствует о том, что форма повествования, возникшая как способ преодолеть литературную условность, сама стала условной.
Особую разновидность повествования от персонажа составляет роман в письмах, созданный Ричардсоном и Руссо, — эпический жанр, пожалуй, максимально приближенный к драме, где повествования как такового вовсе нет и где сплетаются точки зрения нескольких героев, выраженные в их переписке. Наконец, существуют тексты с вымышленным рассказчиком, построенные по принципу матрешки: в рассказ, принадлежащий одному повествователю, вкладывается некая история, которую другой персонаж рассказывает первому — непосредственному повествователю. Так построены, в частности, «Манон Леско», «Герой нашего времени» и «Кармен» Мериме.
Повествование типа II.2 противостоит типу I.1 по всем линиям, названным в предыдущем параграфе. Возникшее как способ оправдания рассказа о частной жизни и обоснования авторской осведомленности о ее перипетиях, оно (по крайней мере, в своих наиболее совершенных образцах, таких, как «Герой нашего времени») создает более или менее полную иллюзию достоверности: кому, как не непосредственному участнику событий, знать, как все на самом деле произошло? Но, мотивируя таким образом знание событий повествователем, этот тип повествования существенно ограничивает это знание и, тем самым, сужает круг охвата фабульного пространства: в самом деле, если повествователь — не «голос истины», не нуждающийся в оправдании, как в типе I.1, а просто человек среди людей, то он имеет право достоверно знать лишь то, что он сам пережил или непосредственно наблюдал, а обо всем остальном судить может только по догадкам или со слов других персонажей. «Автор мог ввести в роман лишь те события, тех людей, те жесты, слова других героев и т.д., которые видел или слышал основной герой — «мемуарист»; автор мог раскрыть чувства и мысли только одного героя, мемуариста, а остальные герои могли быть показаны лишь через свои слова и поступки, по-своему истолкованные мемуаристом» 14.
Для того чтобы преодолеть эту ограниченность, в некоторых текстах вводится не один, а несколько сменяющих друг друга повествователей; примерами здесь могут служить такие далекие друг от друга произведения, как «Герой нашего времени» и «Бланш, или Забвение» Л. Арагона. Но для такого соединения различных свидетельств редко удается найти убедительную мотивировку (как это удалось Лермонтову и как это имеет место в эпистолярном романе), и текст в целом становится не менее условным, чем многоплановое повествование типа I.1 (именно так обстоит дело у Арагона, где условность построения даже специально подчеркивается).
Связанность повествования точкой зрения одного повествователя, являющегося участником событий (в особенности если оно связано также рамками такого внелитературного жанра, как дневник), ограничивает и композиционную свободу автора, присущую типу I.1.
В противоположность повествователю, стоящему над миром персонажей, повествователь-персонаж, будучи отчужденным от истинного автора, в принципе теряет право на безусловное доверие читателя, поскольку он сам является объектом изображения. Соотношение между идеологической позицией «подставного» рассказчика и позицией истинного автора может меняться в очень широких пределах: от практически полного совпадения до полной противоположности.
Полная солидарность автора и повествователя характерна для ранних, еще тяготеющих к классицизму текстов, таких, как «Манон Леско», а также для прозы романтизма; так, например, Адольф — герой и повествователь одноименной повести Б. Констана — это, конечно, не сам автор, но он представляет собой романтическую личность такого же типа, и, по мысли автора, ему можно и нужно верить и сочувствовать. Отношения между Лермонтовым и Печориным уже сложнее — здесь четко задается определенная дистанция: непосредственный повествователь, близкий автору (тот, который знакомится с Максимом Максимычем, слушает его рассказ, встречается с Печориным и затем публикует его «журнал»), не говоря уже о самом авторе, несомненно, мудрее героя. Еще большая дистанция разделяет автора и повествователя в повести Мериме «Кармен», где непосредственный рассказчик, французский ученый-археолог, путешествующий по Испании, подвергается очень тонкой, но недвусмысленной дискредитации (как это делается, мы увидим ниже). Существуют произведения с уголовной интригой, где в качестве повествователя выступает сам убийца, тщательно маскирующий истину в своем рассказе и разоблачаемый лишь в самом конце тем лицом, которому он рассказал свою историю или дал читать свою рукопись, — так построена, например, повесть А.П. Чехова «Драма на охоте». Наконец, очень интересным и удачным опытом в этой области является антифашистский роман Р. Мерля «Смерть — мое ремесло», где повествование ведется от имени героя — коменданта Освенцима Рудольфа Ланга. Здесь формирование психики гитлеровского палача исследуется изнутри; но при этом идеологическая позиция автора, диаметрально противоположная позиции героя-повествователя, ни на секунду не заслоняется последней.
Вообще, повествование типа II.2 ставит перед автором и перед интерпретатором чрезвычайно важную и очень интересную проблему: ясно, что если повествование последовательно, от начала до конца, построено как рассказ персонажа (или персонажей), то эксплицитное выражение авторской идеологической позиции здесь не может иметь места. Как же в таком случае выражается авторская позиция, если она не совпадает с позицией повествователя?
На этот вопрос мы постараемся ответить несколько ниже, потому что он касается не только повествования типа II.2, но и других форм, в которых авторская точка зрения непосредственно не выражена.
§ 80. Аукториальный повествователь в мире персонажей и подставной автор
Рассмотрим теперь — по необходимости лишь в общих чертах — две оставшиеся позиции повествователя (из четырех, названных в § 77). Позиция I.2 (аукториальный повествователь внутри фабульного пространства) и соответствующий ей тип повествования отличается от I.1 тем, что повествователь, не противопоставленный автору, сам является непосредственным участником и(или) живым свидетелем действия.
Эта позиция характерна в первую очередь для различных документальных жанров, стоящих на периферии художественной литературы, таких, как мемуары, а также очерк, репортаж и т.п., но встречается и в романе. Наиболее знаменитый пример таким образом мотивированного романного повествования — «Евгений Онегин», где о герое говорится как о человеке, которого автор знал лично 15; однако причастность повествователя к фабуле этим и ограничивается. Элемент подобного построения обнаруживается у Флобера в «Госпоже Бовари» — в начале первой главы рассказ о первом появлении Шарля Бовари в школе ведется как бы от лица одного из учеников (Nous étions à l'étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois...); однако этот повествователь появляется здесь настолько эпизодически и настолько лишен индивидуальных черт, что говорить о его позиции по отношению к истинному автору трудно.
Значительно более последовательно этот тип повествования используется в некоторых романах XX в. Здесь можно назвать «Огонь» А. Барбюса, где рассказ от начала до конца ведется от лица участника событий, в котором угадывается сам автор, а также роман Р. Вайяна «Бомаск», где повествователь, стоящий на периферии фабульного пространства, фигурирует под именем самого писателя, наделяется элементами его биографии и время от времени принимает участие в действии; при этом то, что он сообщает о себе и о своих отношениях с персонажами, в общем соответствует реальной творческой истории романа.
Ясно, что в таком построении проявляется стремление стереть грань между художественным вымыслом и документом, преодолеть условность традиционных типов повествования (I.1 и II.2), обнажив сам процесс создания текста. Однако органически свойственную роману условность таким образом ликвидировать нельзя, ее можно лишь сдвинуть. Конечно, фигура аукториального повествователя, непосредственно появляющаяся «в кадре» и при этом наделенная именем и подлинными чертами биографии автора, мотивирует повествование и как будто придает большее правдоподобие фабуле. Но в то же время эта фигура, наделенная атрибутами подлинности, вступает в противоречие с остальными персонажами, образы которых не претендуют на портретное сходство с реальными людьми.
Кроме того, аукториальный повествователь, включенный в круг других персонажей, как и повествователь-персонаж, теряет право на всеведение — он выступает как личность, а не как голос истины. Следовательно, если автор хочет сохранить иллюзию подлинности, он должен каждый раз мотивировать знание повествователем тех аспектов фабулы, тех эпизодов, которые он непосредственно наблюдать не мог.
В целом к повествованию такого типа, более чем к какому-либо другому, приложима мысль Ц. Тодорова, который пишет по этому поводу следующее: «Повествование от первого лица не только не проясняет облика повествователя (имеется в виду истинный автор — К.Д.), но, наоборот, скрывает его. И всякая попытка прояснить его ведет лишь к еще большей маскировке субъекта процесса высказывания. Этот вид текста, открыто признавая себя текстом, лишь еще более стыдливо скрывает свою текстовую природу» 16.
Тип II.1 (повествование от подставного автора) отличается от рассмотренного в предыдущем параграфе II.2 лишь тем, что повествователь находится вне фабульного пространства своего повествования. Так бывает в случаях, когда истинный автор выдает свое произведение за текст, написанный другим лицом, например за случайно найденную старинную рукопись (хотя мотивировка такого рода может и отсутствовать); причем, как уже отмечалось, повествователь не является участником или очевидцем событий, он выступает именно как автор, писатель или хроникер. Таким образом, если тип II.2 имитирует преимущественно внелитературные формы повествования, то тип II. 1 ориентирован на литературу или фольклор.
В текстах типа II.1 обычно моделируется чужая литературная манера и стоящий за ней чужой культурно-идеологический кругозор, чаще всего манера и тип мышления какой-то отдаленной эпохи и (или) иной национальной культуры. Так, например, в «Озорных рассказах» Бальзак имитирует фабульные схемы, манеру повествования, стиль и даже язык французской новеллы XVI в.; Мериме в книжке «Гусли, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине» (на самом деле все песни были сочинены им самим) воспроизводит дух южнославянского фольклора, причем делает это настолько удачно, что введенным в заблуждение оказался даже Пушкин, который принял «Гусли» за перевод подлинных славянских баллад и переложил многие из них на русский язык под общим названием «Песни западных славян». Целый ряд таких стилизованных под старину текстов мы находим среди исторических романов и новелл Анатоля Франса. Так, например, в романе «Таис», рассказывающем о злоключениях александрийского монаха-отшельника III или IV в. н. э., повествование, особенно в начале, выдержано в манере средневековой житийной литературы, а рассказы из сборника «Колодец святой Клары» стилизованы под итальянскую новеллу эпохи Возрождения. Таких фольклорных и исторических стилизаций немало и в русской литературе — достаточно назвать «Сказки» Пушкина и «Песню про купца Калашникова» Лермонтова.
В целом повествование типа II.1, как и II.2, предполагает критическое или, во всяком случае, отстраненное восприятие точки зрения повествователя — и его рассказ, и он сам являются здесь объектами авторского изображения. Воспроизведение литературной манеры, характерной для иной эпохи, выступает как средство постижения и воссоздания соответствующего мировоззренческого кругозора, соответствующего типа мышления.
Как явствует из сказанного выше, позиция повествователя теснейшим образом связана со стилем, она в значительной мере определяет выбор средств словесного выражения; со своей стороны, стиль сигнализирует позицию. Этой проблематике будет специально посвящена следующая глава. Теперь же рассмотрим некоторые другие важные аспекты позиции повествователя.
§ 81. Способ видения и изображения персонажей
В эпической прозе в каждый данный момент повествования действующее лицо, о котором идет речь, можно «подать» либо извне, фиксируя лишь то, что доступно прямому наблюдению, то, что мог бы увидеть или услышать сторонний наблюдатель, либо изнутри, непосредственно показывая или разъясняя, что думает и чувствует персонаж, т.е. раскрывая тем или иным способом содержание его сознания 17. В масштабе целого текста каждый персонаж, теоретически рассуждая, может быть изображен либо только извне, либо только изнутри, либо извне и изнутри, с преобладанием того или другого способа видения — больше извне, чем изнутри, или, наоборот, больше изнутри, чем извне. То, как изображаются персонажи данного произведения, откуда смотрит на них повествователь, мы и называем способом видения и изображения персонажей или позицией повествователя по отношению к персонажам. Эта позиция характеризуется, с одной стороны, открытостью или закрытостью содержания сознания персонажей повествователю (и, следовательно, читателю), а с другой стороны — возможностью изображения персонажей извне.
Способ видения персонажей повествователем довольно четко соотносится с позицией повествователя по отношению к фабульному пространству в целом, но не определяется им полностью.
Рассмотрим сначала повествователя, находящегося внутри фабульного пространства (типа II.2 и I.2). В принципе, по сравнению со всеведущим повествователем типа I.1, он существенно ограничен в способе видения и изображения персонажей (не исключая самого себя). Во-первых, как уже говорилось в § 79 (и как неоднократно отмечалось в специальной литературе 18), ему в полной мере открыто только одно сознание — его собственное, а о содержании других сознаний он может судить только косвенно, причем ссылаясь каждый раз на источники. В самом деле, если повествователь-персонаж такой же человек, как и все остальные персонажи, он имеет право знать о том, что подумал или почувствовал любой другой герой, лишь в случае, если тот сам ему об этом рассказал, или со слов какого-то третьего персонажа, перед которым тот «раскрыл душу», или если он подслушал чужой доверительный разговор, прочитал чужое письмо и т.п.
Во-вторых же, возможности повествователя-персонажа ограничен ны тем, что единственное действующее лицо, сознание которого ему вполне открыто, а именно самого себя, он не имеет права изобразить извне. Точнее, автор, оставаясь в рамках правдоподобия, не может заставить повествователя-персонажа описывать себя извне. Из этого следует, например, что в романе, написанном в форме дневника, повествователь не может описать собственную внешность (а ведь еще сравнительно недавно считалось, что портрет героя совершенно необходим). Повествователь-персонаж не может сказать или написать «Мое лицо исказилось гримасой», говоря о себе, внешнее проявление душевного состояния можно дать лишь косвенно, через внутреннее ощущение (например, «Я почувствовал, что краснею») или через реакцию другого персонажа («Должно быть, я сказал это очень громко, потому что все лица оборотились ко мне»).
Однако в реальной литературной практике указанные ограничения иногда частично преодолеваются (с большей или меньшей долей условности). Так, например, неоднократно отмечалось, что повествователи-персонажи у Достоевского нередко знают больше, чем могли и должны были бы знать (так обстоит дело, в частности, в «Бесах»). В принципе ограничение на знание повествователем мыслей и чувств других персонажей является тем менее категорическим, чем дальше от центра фабульного пространства он стоит. Иначе говоря, чем меньше он сам является действующим лицом, тем больше ему позволено знать о других персонажах и о содержании их сознания. Максимальной свободой, доступной в рамках повествования, которое ведется от лица повествователя, стоящего внутри фабульного пространства, пользуется повествователь-литератор, не скрывающий литературность порождаемого им текста. Такой повествователь сближается по своему статусу с повествователем, занимающим позицию I.1: по сравнению с другими персонажами, он уже существо несколько иного, высшего порядка.
В «чистом» повествовании типа I.1 все указанные ограничения снимаются: всеведущий повествователь, стоящий вне фабульного пространства и как бы над ним, имеет (или присваивает себе) право знать, что думает или чувствует любой из персонажей. Имеет, но не обязательно использует его. И если использует, то по-разному. Именно поэтому здесь обнаруживается наибольшее разнообразие повествовательных точек зрения. Несколько схематизируя, можно выделить три основных способа видения и показа действующих лиц 19:
1. Все персонажи показаны извне — их сознание непосредственно не раскрывается.
2. Все сколько-нибудь значительные персонажи показаны то изнутри, то извне; во всяком случае, никто из них не застрахован от вторжения в его сознание.
3. Повествование последовательно раскрывает содержание сознания одного, главного героя (или, попеременно, небольшой группы центральных персонажей), причем точка зрения героя в значительной степени определяет повествование в целом.
Рассмотрим последовательно все три случая.
§ 82. Внутренний мир через внешние признаки
Первая из названных точек зрения характеризуется тем, что повествователь как бы поставлен в позицию простого наблюдателя — он судит о том, что думает или чувствует тот или иной персонаж лишь по его поведению. Поэтому отдельные оценки психического состояния персонажей, указания на какие-то происходящие в них внутренние процессы здесь в принципе возможны лишь на основе внешних признаков и часто носят гипотетический характер: повествователь не столько утверждает, сколько предполагает, что персонаж подумал или почувствовал то-то и то-то. Однако чаще всего повествователь, занимающий такую позицию, просто фиксирует характерные детали поведения, предоставляя читателю самому делать выводы относительно того, что они означают.
Типичным примером такого способа видения персонажей может послужить новелла Мопассана «В полях». В ней мы не найдем прямых вторжений повествователя в сознание персонажей — почти все авторские оценки психического состояния или сведения о характере того или иного действующего лица (а таких характеристик в тексте немного) даны как выводы из наблюдений, со ссылкой на внешний признак, в котором проявляется внутреннее качество или состояние. Так, про госпожу д'Юбьер не сказано «C'était une femme volontaire et gâtée qui ne voulait jamais attendre»; сказано иначе: «... elle demanda, à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre» (стр. 92–93). А несколькими строками выше: «... et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia» (стр. 85–86). To есть характеризуется не непосредственно сам персонаж, а его поведение, доступное взгляду и оценке наблюдателя. Еще несколько аналогичных примеров:
Alors Mme d'Hubières, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit... (стр. 104)
Mme d'Hubières, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite... (стр. 113)
La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau... (стр. 154–155)
А вот несколько иной случай:
Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus (стр. 119–120).
Этим peut-être повествователь четко обозначает свою позицию — позицию стороннего наблюдателя, который не может доподлинно знать, что происходит в душе другого человека 20.
Такой способ видения последовательно осуществляет принцип показа в отношении сознания персонажей — показа извне, при котором основная нагрузка ложится на художественную деталь, фиксирующую внешнее проявление душевного состояния (о том, как художественная деталь используется для раскрытия внутреннего мира персонажей, мы уже говорили в § 64–65). А немногочисленные авторские комментарии указанного типа играют роль своего рода ориентиров.
То, что все персонажи демонстрируются извне, сближает этот способ видения с повествованием типа II.2, Хотя в рассказе Мопассана нет абсолютно никаких указаний на то, что повествователь принадлежит к пространству персонажей — о себе он вообще не говорит ни слова, — создается впечатление, что он живет в той же деревне и знает о персонажах то и только то, что в принципе мог бы знать заинтересованный и проницательный наблюдатель, интересующийся нравами крестьянской среды.
Повествование, при котором содержание сознания персонажей раскрывается лишь через их поведение, встречается нечасто и характерно в первую очередь для новеллы, где основную художественную нагрузку, как уже говорилось, несет фабула. Но и в этом жанре такой принцип показа персонажей сравнительно редко выдерживается вполне последовательно. Наиболее чистые образцы такого повествования можно найти, пожалуй, у Хемингуэя, а в современной французской литературе — у Р. Вайяна и у А. Роб-Грийе.
§ 83. Анализ «от автора» и внутренний монолог героя
Вторая типовая позиция повествователя по отношению к персонажам характеризуется, как уже говорилось, тем, что все сколько-нибудь значительные персонажи демонстрируются то изнутри, то извне, по произволу автора. В § 78 мы видели, с какой свободой выбираются и чередуются участки фабульного пространства в «Отце Горио». Так же свободно повествователь переходит от одного сознания к другому (что естественно, так как внутренний мир персонажей — часть фабульного пространства):
— Le pauvre homme! se dit Eugène en se couchant; il y a de quoi toucher des cœurs de marbre. Sa fille n'a pas plus pensé à lui qu'au grand Turc.
Depuis cette conversation, le père Goriot vit dans son voisin un confident inespéré, un ami. Il s'était établi entre eux les seuls rapports par lesquels ce vieillard pouvait s'attacher à un autre homme. Les passions ne font jamais de faux calculs. Le père Goriot se voyait un peu plus près de sa fille Delphine, il s'en voyait mieux reçu, si Eugène devenait cher à la baronne.
Аналогичным образом действует Стендаль. Так, например, в знаменитой сцене из романа «Красное и черное», когда Жюльен проникает через окно в спальню Матильды, автор поочередно раскрывает перед читателем мысли и чувства того и другого персонажа:
Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position.
— Qu'avez-vous fait de mes lettres? dit-elle enfin.
Quelle bonne occasion de déconcerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes, et d'éviter la bataille! pensa Julien.
В рамках этой позиции повествователя показ внутреннего мира персонажей может осуществляться двумя принципиально различными способами, которые, однако, нередко совмещаются в одних и тех же текстах: от повествователя и от самого персонажа.
В первом случае повествователь объясняет со своей точки зрения, что происходит с персонажем, анализирует его душевное состояние, подобно тому как врач объясняет, что происходит в организме больного, например:
Sitôt que le prince de Condé avait commencé à conter les sentiments de Monsieur de Nemours sur le bal, Madame de Clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. Elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimée, et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour Monsieur de Nemours. (Mme de La Fayette).
Piqué par cette bizarrerie soudaine, le cœur de cette jeune fille naturellement froid, ennuyé, sensible à l'esprit, devint aussi passionné qu'il était dans sa nature de l'être... (Stendhal).
Таким же способом раскрываются состояние Матильды в сцене первого свидания с Жюльеном и чувства отца Горио в примере из Бальзака.
К такому способу изображения внутреннего мира персонажей трудно даже применить слово «изнутри» — чувства героя фиксируются здесь взглядом, идущим извне, но проникающим внутрь. Это типичный рассказ и, как таковой, он характерен в первую очередь для эпох и направлений, тяготеющих к собственно эпическому повествованию или еще не вполне освободившихся от этой тенденции, а именно для прозы XVII, XVIII и первых десятилетий XIX в. (хотя, как мы увидим несколько ниже, в использовании этого приема писателями-реалистами есть свои особенности).
Прямо противоположный случай — раскрытие содержания сознания персонажа как бы самим персонажем. В этом случае его мысли формулируются от его лица и передаются в форме прямой речи. Именно так раскрываются мысли Эжена де Растиньяка и Жюльена Сореля в приведенных выше примерах. Продолжая использованное нами сравнение, можно сказать, что здесь не врач анализирует состояние больного, а сам больной говорит о своем состоянии. Это уже не рассказ, а показ, хотя и достаточно условный 21. Как и следовало ожидать, такая форма получает широкое распространение существенно позже, чем первая, а именно в первые десятилетия XIX в.; в частности, она очень характерна для творчества Стендаля.
Интересно, однако, что аналитическая манера, унаследованная от классицизма, не исчезает. Обе формы постоянно совмещаются в одних и тех же текстах (это хорошо видно в приведенных выше примерах) и дополняют друг друга, отражая разные аспекты душевной жизни человека. Первая форма применяется главным образом для анализа чувств, сложных душевных состояний и процессов, охватывающих обычно более или менее длительные промежутки фабульного времени, вообще тех сторон душевной жизни человека, которые далеко не всегда осознаются и уж во всяком случае вряд ли могли бы быть сформулированы самим субъектом. Вторая же — внутренний монолог персонажа — фиксирует не чувство, а мысль, ясно осознаваемую самим персонажем и приуроченную к данному моменту фабульного действия. При этом если анализ от повествователя мыслится как отражающий истинное состояние персонажа, то самому персонажу свойственно нередко ошибаться в оценке событий и самого себя, своих чувств и мотивов своих поступков.
Таким образом, совмещение двух форм показа внутреннего мира персонажей в творчестве Стендаля и Бальзака основывается на противопоставлении двух точек зрения: точки зрения всеведущего повествователя, отражающей истину, и точки зрения персонажа — субъективной, ограниченной и часто ошибочной. Это соответствует новой — по сравнению с классицизмом — концепции личности (см. § 57), осознанию того факта, что всякая субъективная точка зрения относительна, так как обусловлена средой, воспитанием, социальным положением, одним словом, позицией субъекта. Исключение делается пока лишь для самого повествователя — рупора авторских идей.
§ 84. Эксплицитное подчинение изображения точке зрения персонажа
Однако внутренний мир персонажа — это не только его мысли и чувства по поводу каких-то фабульных событий и ситуаций, но и сами эти события и ситуации в той мере, в какой они становятся объектом его восприятия и осознания, т.е. отражение этих событий и ситуаций в сознании героя.
В принципе сообщение о любом факте действительности, реальной или воображаемой, предполагает, что этот факт был кем-то воспринят и осознан. Поэтому любое высказывание, сообщающее об этом факте, можно, теоретически рассуждая, вставить в «перцептивную рамку» — подчинить предложению, называющему акт восприятия, получения информации, осознания и т.п., субъектом которого будет либо сам адресант, либо какое-то иное лицо, например: Пошел дождь → X заметил, что пошел дождь; La serrure avait été fracturée → Les en-quêteurs ont constaté que la serrure avait été fracturée. В результате акценты существенно сдвигаются: сообщаемый факт теряет абсолютный характер, он эксплицитно вводится в сознание субъекта, оказывается подчиненным его восприятию.
Как неоднократно отмечалось исследователями 22, французский язык вообще склонен к такому построению высказывания, при котором сообщаемый факт подается как бы через восприятие конкретного или обобщенного наблюдателя, тогда как русский и немецкий в аналогичных случаях и, в частности, при переводе таким образом построенных французских фраз обычно не вводят или устраняют воспринимающего субъекта; ср.: Il vit toutes ses richesses détruites — Alle seine Reichtümer wurden ihm zerstört — Все его достояние пошло прахом; Je suis fâché de t'entendre rire de la sorte — Es erregt meinen Unwillen, daß du darüber lachst — Мне не нравится, что ты над этим смеешься; On les voyait se hâter par les rues... (Camus) — ... die... durch die Straßen eilten... — Они торопливо шагали по улицам... 23
Для французской классицистической прозы подчинение факта восприятию персонажа в принципе не характерно — события и ситуации в подавляющем большинстве случаев подаются как не зависящие от чьего-либо взгляда и не нуждающиеся в ссылке на источники. Даже в повествовании «от персонажа», где подчинение факта восприятию рассказчика, казалось бы, естественно и неизбежно, построения типа Je vis (remarquai, constatai, entendis, sentis, etc.) que... (или с инфинитивным оборотом) встречаются существенно реже, чем этого можно было бы ожидать (см., например, «Манон Леско» или «Жизнь Марианны» Мариво).
Систематическое введение в повествование «от автора» точки зрения персонажей, более или менее последовательное подчинение изображаемой картины мира их взгляду, их восприятию, начинается во французской литературе в 20–30-е гг. XIX в., в эпоху становления реализма, и постепенно становится одной из ведущих тенденций развития художественной прозы.
Эта тенденция явственно обнаруживается уже в творчестве Стендаля. Как справедливо замечает по этому поводу М.Н. Эпштейн, у Стендаля «весь зримый мир сведен к чьим-то возможностям зрения» 24. И далее: «...среда, фон «выписаны» в его романах настолько, насколько воспринимаются его героями, значимы и существенны для них. Если Париж только назван, но не показан в сцене прибытия Жюльена в этот город, то именно потому, что Жюльен в это время предается воспоминаниям о своей возлюбленной и не смотрит в окна кареты. Вещам у Стендаля отказано в самодостаточности, они изображаются у него лишь как «вещи-для-кого-то», как приметы чьих-то «душевных состояний»; они вводятся в повествование при помощи таких слов, как «подумал», «заметил», «проводил взглядом», «почувствовал», «осознал» и т.д.» 25.
Примеры подобрать очень легко — некоторые страницы «Красного и черного» можно цитировать почти подряд:
A l'autre extrémité de la salle, près de l'unique fenêtre par laquelle le jour pénétrait, il vit un miroir mobile en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surplis de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à trois pas de la glace.
Julien trouva que le jeune homme avait l'air irrité...
Il avança et parcourut assez lentement la longueur de la salle, toujours la vue fixée vers l'unique fenêtre, et regardant ce jeune homme qui continuait à donner des bénédictions...
A mesure qu'il approchait, il distinguait mieux son air fâché.
Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine: c'était l'évêque d'Agde. Si jeune, pensa Julien; tout au plus six ou huit ans de plus que moi!
Действительно, как пишет М.Н. Эпштейн, «мир у Стендаля все время оказывается втянутым в чей-то кругозор и раскрытым через него» 26. Но, описывая факты и обстоятельства, внешние по отношению к герою, приведенные фразы одновременно характеризуют и самого Жюльена — его способ восприятия, его взгляд на мир, его психическое состояние. Почти до самого конца этой сцены он не понимает смысла происходящего; он видит молодого человека (сочетание jeune homme повторено трижды) в священническом облачении, который с недовольным видом выполняет какой-то странный обряд. И когда, наконец, осознает, что этот молодой священник — сам епископ, репетирующий перед зеркалом предстоящую церемонию, именно молодость «владыки» немедленно подстегивает его (Жюльена) честолюбие, что и выражено в последней фразе: ... tout au plus six ou huit ans de plus que moi!
Так стирается противоположность между объективным и субъективным в фабуле: последняя имеет тенденцию сузиться до пределов сознания персонажей, или, что то же самое, сознание персонажей стремится охватить всю фабулу. При этом, однако, объективный, аналитический взгляд всезнающего повествователя на героя и на других действующих лиц в романах Стендаля еще в полной мере сохраняется. Это все-таки в большей степени рассказ о восприятии событий героем, чем показ этого восприятия. Характерно, что у Стендаля подчинение изображения точке зрения персонажа реализуется, как правило, эксплицитно, посредством указанных выше предикатов восприятия, которые грамматически подчиняют себе предложения, описывающие воспринимаемые героем факты. В результате каждое такое сложное высказывание в целом остается в рамках авторского повествования — мы слышим голос не персонажа, а повествователя, который сообщает нам о том, что сознание персонажа зафиксировало тот или иной факт, и анализирует акт восприятия, называя его соответствующим глаголом.
§ 85. Имплицитное сближение точки зрения повествователя с точкой зрения персонажа
Дальнейшее развитие указанной тенденции идет по пути устранения подчиняющих предикатов — внешние сигналы введения точки зрения персонажа постепенно отходят на задний план, главную роль начинают играть внутренние показатели заимствования оптики героя: отбор фактов, их интерпретация и отбор языковых средств, т.е. стиль (подробнее об этом будет сказано ниже, § 100–102). Авторское изображение фабульного мира оказывается более или менее явственно окрашенным субъективностью персонажа, находящегося в поле зрения автора и читателя. Отдельные примеры такого повествования, отражающего одновременно и нерасчлененно фабульное действие, и его восприятие персонажем, можно найти у того же Стендаля (как и у Бальзака), но преобладающим оно становится в творчестве Флобера. Посмотрим, как это делается, на материале одного отрывка из «Госпожи Бовари»:
Il se tenait les bras croisés sur les genoux, et, ainsi, levant la figure vers Emma, il la regardait de près, fixement. Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d'or s'irradiant tout autour de ses pupilles noires, et même elle sentait le parfum de la pommade qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit, elle se rappela ce vicomte qui l'avait fait valser à la Vaubyessard, et dont la barbe exhalait, comme ces cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron; et, machinalement, elle entreferma les paupières pour la mieux respirer. Mais, dans ce geste qu'elle fit en se cambrant sur sa chaise, elle aperçut au loin, tout au fond de l'horizon, la vieille diligence l'Hirondelle, qui descendait lentement la côte des Leux, en traînant après soi un long panache de poussière. C'était dans cette voiture jaune que Léon, si souvent, était revenu vers elle; et par cette route là-bas qu'il était parti pour toujours! Elle crut le voir en face, à sa fenêtre; puis tout se confondit, des nuages passèrent; il lui sembla qu'elle tournait encore dans la valse, sous le feu des lustres, au bras du vicomte, et que Léon n'était pas loin, qu'il allait venir... et cependant elle sentait toujours la tête de Rodolphe à côté d'elle. La douceur de cette sensation pénétrait ainsi ses désirs d'autrefois, et comme des grains de sable sous un coup de vent, ils tourbillonnaient dans la bouffée subtile du parfum qui se répandait sur son âme. Elle ouvrit les narines à plusieurs reprises, fortement, pour aspirer la fraîcheur des lierres autour des chapiteaux. Elle retira ses gants, elle s'essuya les mains; puis, avec son mouchoir, elle s'éventait la figure, tandis qu'à travers le battement de ses tempes elle entendait la rumeur de la foule et la voix du Conseiller qui psalmodiait ses phrases.
Тема этого отрывка — зарождение страсти к Родольфу в душе Эммы Бовари. Здесь очень тонко, точно и беспощадно показан ассоциативный механизм этого процесса, в котором главную роль играют запах напомаженных волос Родольфа и вид дилижанса вдалеке 27. Эти, как говорят психологи, внешние раздражители, связанные в памяти Эммы с героями ее прежних, в общем невинных увлечений, создают особое душевное настроение, в котором смешиваются прошлое и настоящее, и эмоции, испытанные некогда по отношению к этим людям, переносятся на сидящего рядом Родольфа.
Отрывок начинается с описания позы Родольфа, данного извне, с позиции стороннего наблюдателя. Но уже во второй фразе точка зрения несколько сдвигается — нам сообщают не непосредственно то, что объективно имеет место, а то, что воспринимает героиня: Elle distinguait dans ses yeux des petits rayons d'or... To, что она видит и ощущает, описывается как будто вполне объективно. Однако мы знаем — об этом говорилось в главе I, — что восприятие любой ситуации зависит от позиции и установок субъекта. То, что Эмма воспринимает, находясь рядом с Родольфом, — его глаза и запах помады, — определяется тем, что она — молодая женщина, мечтающая о любви, а он — молодой мужчина, проявляющий к ней явный интерес. Вполне вероятно, что другой на ее месте обратил бы внимание на какие-то совсем иные черты его облика. Таким образом, субъективность героини проявляется здесь уже в том, что именно фиксирует ее сознание.
В следующей, третьей фразе приведенного отрывка уже явственно звучит личная интонация Эммы — она возникает главным образом за счет указательных прилагательных (се vicomte, ces cheveux-là, cette odeur de vanille et de citron), отражающих в подобных случаях точку зрения персонажа, а не повествователя 28. Еще явственнее внутренний голос Эммы слышится в пятой фразе (C'était dans cette voiture jaune que...), эмоциональной по своему синтаксическому и интонационному рисунку, и в середине шестой (... que Léon n'était pas loin, qu'il allait venir...), где воспроизводится строй спонтанной и эмоциональной речи. Ясно, что заключенная в них эмоция принадлежит персонажу, а не повествователю. Эти фразы (в особенности пятая) представляют собой типичные образцы так называемой несобственно-прямой речи — особой формы передачи слов, мысли, чувств и мировосприятия персонажей, которая характеризуется в первую очередь слиянием двух голосов — голоса повествователя и голоса героя (ей специально посвящены § 99–102 главы VI).
Однако точка зрения объективного повествователя не исчезает, она господствует в других, аналитических по своему характеру предложениях этого отрывка (например, Alors une mollesse la saisit), a также в седьмой фразе, где все изложенное резюмируется с помощью изысканной, почти романтической по своему строю метафоры. Наконец, в двух последних фразах душевное состояние героини — она пытается взять себя в руки — дано уже через внешние признаки. Таким образом, в приведенном абзаце имеет место именно синтез двух точек зрения, сочетание рассказа и показа, анализа, непосредственного воспроизведения чувства изнутри и психологически значимых внешних деталей поведения. Заимствование повествователем точки зрения персонажа может быть более или менее последовательным и полным. У Флобера лишь в отдельных местах голос персонажа звучит более отчетливо, чем голос повествователя, но никогда не заглушает его целиком. В последующие же периоды, в частности, в некоторых романах Золя и особенно в творчестве таких писателей XX в., как Сартр (трилогия «Дороги свободы»), Арагон («Орельен», «Страстная неделя», «Коммунисты»), Бютор («Изменение») и ряд других, голос повествователя порой полностью растворяется в голосе героя.
§ 86. Степень присутствия повествователя в тексте
Сказанное в двух предыдущих параграфах естественно выводит нас на еще один важный аспект позиции повествователя — степень его выявленности как личности или, иначе, степень его присутствия в тексте. Ясно, что повествования без повествователя не бывает; однако этот последний может проявлять себя с разной степенью интенсивности. Для того чтобы представить себе это, достаточно вообразить краткое газетное сообщение об уличном происшествии, а затем непринужденный рассказ об этом же случае, сделанный по горячим следам его очевидцем. Не подлежит сомнению, что личность адресанта во много раз ярче отразится в устном рассказе, чем в газетной информации.
В эпической прозе можно условно выделить три степени выявленности образа повествователя:
1) максимальную, при которой повествователь на протяжении большей части текста непосредственно ведет рассказ от своего имени, так что его образ выступает не менее (если не более) рельефно, чем образы персонажей;
2) среднюю, присущую более или менее объективному повествователю, который стремится в первую очередь донести до читателя фабульное содержание;
3) минимальную, при которой повествователь ограничивается сообщением сугубо фактических сведений типа авторских ремарок в драме («Он завернул за угол», «Она вдруг остановилась» и т.п.), а в пределе исчезает вовсе из поля зрения читателя.
Степень выявленности повествователя как личности частично определяется его позицией по отношению к фабульному пространству и к истинному автору текста. Так, образ повествователя-персонажа выявлен практически всегда, поскольку чаще всего он является не менее важным объектом изображения, чем фабульные события (он сам — часть фабулы). Следовательно, сама проблема присутствия повествователя в тексте актуальна в первую очередь для повествования типа I.1.
В прозе классицизма все подчинено точке зрения повествователя, он все время находится на авансцене и служит единственным посредником между персонажами и читателем. Даже прямая речь персонажей теряет в его передаче своеобразие. Однако как личность он мало индивидуализирован и выступает в первую очередь в качестве носителя точки зрения абстрактного разума, абсолютной истины.
В романтической прозе, в частности в романах Гюго, а также у Бальзака и Стендаля, которые, как известно, многим обязаны романтической поэтике, ведущая роль повествователя сохраняется, но, в отличие от классицизма, в его образе на первый план выступает личностное начало. Повествователь вовсе необязательно говорит о себе (как это делали, например, Стерн и Дидро), но он рассказывает обо всем именно как личность, открыто навязывая читателю свое видение событий; он «несет ответственность и за отбор фактов, и за освещение их именно как данное лицо» 29. И здесь, естественно, начинаются индивидуальные различия. Так, у Гюго преобладает патетическая декламация абстрактного морально-философского плана — повествователь предстает перед читателем как пророк, провозвестник высшей общечеловеческой истины и добра:
Funèbre rentrée de l'ombre dans une âme. Ainsi s'opérait, en ce Gwynplaine qui avait été un héros, et qui, disons-le, n'avait peut-être pas cessé de l'être, le remplacement de la grandeur morale par la grandeur matérielle. Transition lugubre. Effraction d'une vertu par une troupe de démons qui passe. Surprise faite au côté faible de l'homme. Toutes les choses inférieures qu'on appelle supérieures, les ambitions, les volontés louches de l'instinct, les passions, les convoitises, chassées loin de Gwynplaine par l'assainissement du malheur, reprenaient tumultueusement possession de ce généreux cœur. Et à quoi cela avait-il tenu? A la trouvaille d'un parchemin dans une épave charriée par la mer. Le viol d'une conscience par un hasard, cela se voit (L'Homme qui rit).
Под стать автору и персонажи: все они говорят примерно так же. Это дало основание критикам и исследователям сделать вывод, что проза Гюго — сплошной авторский монолог 30. В его прозе, таким образом, образ повествователя выявлен с максимальной рельефностью.
Выявленность образа повествователя у Бальзака, как и сам этот образ, определяется в первую очередь такими уже упомянутыми свойствами его прозы, как необычайная подробность авторских описаний, постоянное стремление к обобщению и к установлению связей между различными аспектами бытия 31. И если порой точка зрения повествователя у Бальзака сближается с точкой зрения персонажа, в целом повествователь у него так же вездесущ, как у Гюго, и повсюду остается самим собой, в первую очередь «доктором социальных наук», т.е. историком, социологом, экономистом, психологом, но также и художником, которому не чужда высокая патетика. Сказанное трудно подтвердить одним коротким примером. Читатель может проверить справедливость нашей оценки, обратившись к любому произведению зрелого Бальзака, например к «Утраченным иллюзиям» 32.
У Стендаля повествователь опять-таки иной: сухой, ироничный, избегающий патетики, длинных описаний, историко-филологических отступлений и вообще всего того, что не имеет прямого отношения к фабуле и к герою. Однако типологически, с интересующей нас точки зрения, между тремя названными (а также многими не названными) здесь авторами этого периода существует несомненное сходство: в их прозе ведущее место занимает фигура всеведущего и вездесущего повествователя, который открыто вмешивается в действие, комментирует поступки и мысли героев (а ему, как уже говорилось, доступен внутренний мир любого персонажа), выносит оценки и более или менее явно поучает читателя.
Отказ от всеведущего повествователя, несущего идеи автора, установка на объективное, безличное повествование — такова дальнейшая линия (одна из основных линий) развития французской и, в меньшей степени, русской прозы.
Такова была, в частности, программа Флобера. Известны многочисленные его высказывания на этот счет, например: «L'auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part» 33; или «... nul lyrisme, pas de réflexions, la personnalité de l'auteur absente» 34. Именно так — как последовательное воплощение принципа показа в эпической прозе — воспринимали творчество Флобера его современники, в частности Мопассан и Золя, равно как и исследователи нашего времени. «Герои Флобера живут вне автора, словно он совсем не участвует в созданной им картине; он только вдохнул жизнь в эти правдивые и столь разнообразные существа, но не сказал читателю своего мнения о них» 35 — так писал один из наиболее авторитетных советских исследователей его творчества Б.Г. Реизов.
Действительно, по сравнению с Бальзаком или даже со Стендалем повествование у Флобера представляется подчеркнуто безличным. Повествователь выступает в основном как внешне бесстрастный летописец или протоколист фабульных событий (включая в это понятие и внутренний мир героя), он фиксирует их, воздерживаясь от комментариев. При этом характерно, что в «Воспитании чувств» сам отбор фабульного материала — введение тех или иных ситуаций, лиц, объектов и т.п. — мотивируется, как правило, восприятием главного героя — Фредерика Моро: в поле зрения повествователя и читателя попадает почти исключительно то, что видит и узнает герой. Таким образом, ведущим принципом сюжетного построения становится у Флобера точка зрения центрального персонажа. При этом постоянно открыто читателю только его сознание; то, что думают и чувствуют остальные, раскрывается лишь эпизодически или опосредованно, через внешние проявления. Это третий способ видения и показа действующих лиц, отмеченный нами, наряду с первыми двумя, в конце § 81. Он предполагает, с одной стороны, сближение точки зрения повествователя с точкой зрения персонажа, а с другой — отход самого повествователя на задний план.
Но таковы лишь принципиальные установки. Реализуются же они далеко не всегда последовательно. Так, в «Воспитании чувств», не говоря уже о «Госпоже Бовари», можно найти сравнительно немало отрывков, написанных в чисто бальзаковской манере, — анализов душевных состояний «от автора», моральных оценок и даже философско-психологических отступлений. Приведем лишь один пример:
L'action, pour certains hommes, est d'autant plus impraticable que le désir est plus fort. La méfiance d'eux-mêmes les embarrasse, la crainte de déplaire les épouvante; d'ailleurs, les affections profondes ressemblent aux honnêtes femmes: elles ont peur d'être découvertes, et passent dans la vie les yeux baissées.
Bien qu'il connût Mme Arnoux davantage (à cause de cela, peut-être), il était encore plus lâche qu'autrefois. Chaque matin, il se jurait d'être hardi. Une invincible pudeur l'en empêchait; et il ne pouvait se guider d'après aucun exemple, puisque celle-là différait des autres.
Конечно, не эти отступления от собственной программы определяют лицо флоберовской прозы, и для того времени его художественная практика была глубоко новаторской, можно сказать революционной. Принцип заимствования точки зрения персонажа — под влиянием Флобера или независимо от него — широко распространился в европейских литературах, в том числе и в русской, и стал неотъемлемой частью художественной манеры таких мастеров прозы, как Мопассан, Золя, Анатоль Франс, Роллан, Пруст, Мартен дю Гар, Мориак, Арагон, а у нас — Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Шолохов... Интересно, однако, что ни у одного из названных писателей (за исключением, может быть, некоторых романов Арагона), как и у самого Флобера, установка на объективное повествование не была реализована вполне. Последовательное проведение в жизнь принципа объективного повествования было осуществлено, но не ими. К чему это привело, мы увидим в следующем параграфе.
§ 87. Литература «потока сознания»
Итак, если автор во имя объективности, непредвзятости, жизненной правды отказывается вводить в текст своего полномочного представителя — всезнающего и вездесущего повествователя, — ему не остается ничего другого, как подчинить повествование субъективности персонажа или персонажей. Ведь даже сугубо протокольное изложение фабулы, без оценок и вторжений в сознание действующих лиц, как в некоторых рассказах Мопассана и Хемингуэя, предполагает определенный «авторский произвол» в отборе и подаче фактов. А кроме того, такая техника, как уже говорилось, годится для короткого рассказа, но вряд ли на ней можно построить роман.
Полное и последовательное подчинение сюжета точке зрения персонажа приводит к тому, что сознание последнего целиком вбирает в себя фабулу, так что развертывающееся во времени содержание этого сознания — «внутреннее кино», по выражению французского философа и психолога А. Бергсона, становится по существу, единственным предметом, о котором рассказывает текст. В этом и заключается суть так называемой литературы «потока сознания», которая одно время получила довольно широкое распространение на Западе, прежде всего в творчестве ряда английских и американских писателей, таких, как Гертруда Стайн, Вирджиния Вулф, Дж. Джойс, Т. Элиот, У. Фолкнер и др. Во французской литературе в разное время более или менее существенную дань этому направлению отдали В. Ларбо, Ж.-П. Сартр, Н. Саррот, Кл. Симон, М. Бютор, а также Л. Арагон 36.
Помимо эстетических исканий, восходящих к Флоберу и связанных с объективизацией повествования, возникновению литературы «потока сознания» способствовали углубление психологизма, зародившийся и возросший интерес к скрытым, полуосознанным и бессознательным импульсам поведения. В связи с этим в ряде произведений этой школы основным содержанием «внутреннего кино» является не отражение в сознании реальных событий, не мысли героя о внешнем мире и о себе в нем (как это характерно, скажем, для Арагона и Сартра), а, что называется, предсознание, мимолетные неформулируемые мысли и чувства, последовательность ощущений и внутренних импульсов, заполняющих сознание, обращенное в первую очередь на самое себя (типичным примером здесь могут служить романы Натали Саррот). Фабульное действие, как таковое, с присущими ему конфликтами, которые в конце концов находят то или иное разрешение, здесь либо оттеснено на задний план, либо вообще упраздняется — воспроизведение динамики субъективного предсознания становится самоцелью.
Полное и последовательное подчинение повествования точке зрения персонажа, казалось бы, должно приводить к превращению этого персонажа в повествователя и, следовательно, к переходу от il к je, от повествования типа I.1 к повествованию типа II.2, которое мы рассматривали в § 79. Действительно, в ряде произведений литературы «потока сознания» носитель этого сознания — главный герой — обозначается формами 1-го лица; в других же, однако, предпочтение отдается третьему лицу, и нередко обе формы сменяют друг друга в одном и том же тексте. Кроме того, независимо от способа обозначения субъекта, та ограниченность поля зрения, которая присуща повествованию типа II.2, обнаруживается и здесь. Налицо, таким образом, явное сходство. Однако между обычным повествованием от персонажа и внутренним монологом от 1-го лица есть принципиальная разница: первое предполагает и как бы воспроизводит речь, устный или письменный рассказ, тогда как второй, по замыслу приверженцев этого метода, фиксирует «сырую материю» мысли, не оформленную и не подлежащую оформлению в слове. Здесь нет субъекта речи, есть лишь субъект сознания, и это обстоятельство, как будет показано ниже, имеет чрезвычайно важные последствия.
Одно из этих последствий — устранение временной дистанции между действием и рассказом о нем. В традиционных эпических формах фабульные события практически всегда предстают как «дела давно минувших дней», а повествование — как рассказ о прошлом, воспоминание, а не непосредственное синхронное переживание 37. Именно поэтому эпическая проза во все времена использовала преимущественно прошедшее время, в частности passé simple и imparfait. Но дело здесь, конечно, не только и не столько в употреблении тех или иных глагольных форм, сколько в самой перспективе повествования: то, что сообщается о каждом данном моменте фабульного времени, окрашено знанием того, что произойдет в дальнейшем и чем все кончится 38. Это знание, которым обладает повествователь — независимо от того, какую позицию он занимает, — существеннейшим образом влияет на его оптику: из всей массы фактов выбираются те, которые оказались важными с точки зрения дальнейшего развития действия и конечного результата. Сартр усматривает в этом предвзятость, авторский произвол: ведь в момент свершения этих фактов никто не знал, что обстоятельства сложатся именно так, а не иначе.
В противоположность обычному повествователю типа I.1 или II.2, субъект потока сознания не ведает будущего — он весь в настоящем. Читатель получает как бы синхронный прямой репортаж о сиюминутном содержании сознания героя (которое, однако, может обращаться и к прошлому). Вследствие этого должно создаться впечатление непредвзятости, отсутствия или, во всяком случае, иных критериев отбора фактов: дается не то, что окажется важным потом, а то, что должно фиксировать сознание такого персонажа в такой ситуации. Ясно, впрочем, что речь здесь может идти лишь об иллюзии отсутствия отбора — автор все-таки должен знать, что будет дальше, и соответствующим образом подготовить к этому читателя. Добавим, что в художественной практике самого Сартра все очень хорошо рассчитано и отобрано, для того чтобы создать именно такое впечатление, какое нужно.
Далее, чтобы быть правдивым или хотя бы правдоподобным, поток сознания как литературная техника должен имитировать алогичность и непоследовательность спонтанной невербализуемой мысли, ее капризы и зигзаги. В разных текстах эта особенность «внутреннего кино» представлена с разной степенью интенсивности. У некоторых авторов, таких, как У. Фолкнер в романе «Шум и ярость» или К. Симон, временная и качественная многоплановость сознания (постоянные переходы от настоящего к прошлому или от одного пласта прошлого к другому, от зрительных впечатлений к слуховым, от эмоций к словам, своим или чужим и т.п.) возводится в основной принцип организации текста. Приведем один пример — первую фразу романа К. Симона «La route des Flandres»:
Il tenait une lettre à la main, il leva les yeux, me regarda, puis de nouveau la lettre puis de nouveau moi, derrière lui je pouvais voir aller et venir passer les taches rouges acajou ocre des chevaux qu'on menait à l'abreuvoir, la boue était si profonde qu'on enfonçait dedans jusqu'aux chevilles mais je me rappelle que pendant la nuit il avait brusquement gelé et Wack entra dans la chambre en portant le café disant Les chiens ont mangé la boue, je n'avais jamais entendu l'expression, il me semblait voir les chiens, des sortes de créatures infernales mythiques leurs gueules bordées de rosé leurs dents froides et blanches de loups mâchant la boue noire dans les ténèbres de la nuit, peut-être un souvenir, les chiens dévorant nettoyant faisant place nette: maintenant elle était grise et nous nous tordions les pieds en courant, en retard comme toujours pour l'appel du matin, manquant de nous fouler les chevilles dans les profondes empreintes laissées par les sabots et devenues aussi dures que de la pierre, et au bout d'un moment il dit Votre mère m'a écrit.
В этой фразе, воспроизводящей поток сознания героя, обращенный в прошлое, т.е. поток воспоминаний, соединены по меньшей мере три различных пласта этого прошлого, причем память героя свободно перескакивает от одного к другому, потому что, как сказал сам автор в одном интервью, «dans la mémoire tout se situe sur le même plan» 39.
Подобно тому как повествование типа II.2 может складываться из рассказов нескольких фиктивных повествователей, произведение, написанное в манере потока сознания, может сочетать в себе внутренние монологи нескольких персонажей. В этом случае общее представление о фабульном пространстве и фабульных событиях возникает в голове читателя в результате сопоставления субъективных отражений этой действительности. Такая техника нужна для того, чтобы преодолеть ограниченность одной субъективной точки зрения, установить диалог сознаний. Очень существенно, что при таком построении каждый персонаж — субъект внутреннего монолога — может быть в то же время показан и извне, через восприятие (поток сознания) другого такого же персонажа. Эта система повествования характерна в первую очередь для произведений, претендующих на отражение какой-то объективной реальности, лежащей за пределами индивидуальных сознаний. Не случайно она обнаруживается в творчестве таких писателей, как Фолкнер, Арагон, Сартр.
§ 88. Еще о литературе «потока сознания»
Какова же объективная ценность этих экспериментов? Трудно судить о достоинствах или недостатках какой-то литературной техники вообще, безотносительно к конкретным произведениям, все зависит от того, как и зачем она используется. Думается, однако, что техника потока сознания, если ее возводить в абсолют и противопоставлять другим, более традиционным формам, вступает в противоречие не только с самой сущностью литературы как орудия художественного познания и художественной коммуникации, но и с некоторыми универсальными закономерностями речевой деятельности и речевого общения.
В принципе словесное отражение всего многообразия объектов и ситуаций действительности может осуществляться тремя способами. Видимо, наиболее распространенный из них — это знаковое отображение; оно имеет место всякий раз, когда мы, пользуясь знаками языка, описываем некую внешнюю референтную ситуацию — дерево, облака над морем или толпу перед входом в театр. В случае, когда референтной ситуацией нашего высказывания является не просто некий объект или явление, а знак (или текст), воспринимаемый как таковой, мы обычно прибегаем к перекодировке; так, например, видя дорожный знак, обозначающий запрещение обгона, мы скорее всего скажем: «Здесь обгон воспрещен». То же самое имеет место, когда нам надо передать высказывание, сделанное на чужом языке (при условии, конечно, что мы этот язык знаем), перевод и есть перекодировка. И наконец, есть класс явлений, которые в принципе поддаются прямому словесному воспроизведению, — это высказывания и тексты на том же языке, каким мы пользуемся для их описания (из чего, впрочем, еще не следует, что они всегда воспроизводятся дословно).
Поток сознания — не литературный, а подлинный, тот, что течет в голове каждого из нас, — занимает в этом смысле особое положение среди возможных референтов речи. Согласно современным психолингвистическим концепциям, мыслительный процесс (если он совершается не в звучащей речи, а про себя) оперирует не словами соответствующего языка, а единицами так называемого внутреннего кода, несущего личностные смыслы 40. Надо полагать, однако, что содержание сознания в целом опосредуется в разнородных по своей психолингвистической природе элементах: наряду с единицами внутреннего кода, здесь присутствуют, с одной стороны, чувственные образы окружающего мира — то, что мы непосредственно воспринимаем или воображаем, а с другой — уже частично или даже полностью оформленные речевые высказывания, проговариваемые про себя. Таким образом, не будучи речью в лингвистическом смысле этого слова, поток сознания не вполне чужд речи по своей природе и стремится получить речевое воплощение. Это обстоятельство и порождает иллюзии относительно возможности прямого его воспроизведения средствами естественного языка.
Когда Стендаль или Бальзак передают мысль персонажа в форме прямой речи, это, как правило, не прямое воспроизведение, а достаточно откровенная перекодировка, перевод с языка мысли (внутреннего смыслового кода) на литературный французский язык. Здесь имеет место примерно та же мера условности, что и при переводе этой фразы на русский язык, в результате которого француз Жюльен Сорель начинает думать по-русски. Аналитическое описание содержания сознания персонажа представляет собой уже не столько перекодировку, сколько знаковое отображение — мысль или душевное состояние описывается как некий объект, единичный референт, который подводится под некоторое понятие, соответствующее классу однородных объектов.
То, что получается в литературе «потока сознания», тоже не прямое воспроизведение, а перевод, причем перевод буквалистский, не учитывающий особенностей той и другой семиотической системы и, следовательно, неудобопонятный.
Неудобопонятность является не недостатком отдельных произведений, а внутренним свойством этой литературы, которое возникает всякий раз, когда автор, ограничивая свой и читательский кругозор пределами индивидуального сознания, пытается буквально воспроизвести причудливый и алогичный ход последнего. Это неизбежно, так как очевидное для персонажа далеко не всегда понятно читателю. В самом деле, те единицы внутреннего кода, которыми оперирует в своей мыслительной деятельности субъект, несут совершенно ясное для него содержание — его личностные смыслы, представляющие собой продукты его собственной психической активности, вбирающие в себя его ощущения, весь его опыт, обусловленные и окрашенные его интересами, имеющие вполне определенную референцию и связанные с конкретной деятельностной ситуацией. Когда в первом из приведенных выше отрывков из К. Симона герой вспоминает разные моменты своего прошлого, он, естественно, знает, к какому моменту относится то или иное его воспоминание; знает он и то, кто скрывается за местоимением il, а также, кто такой Вак. Для него все это живо, определенно, конкретно, все вписано в контекст его опыта, его интеллектуальной и аффективной памяти.
Иное дело читатель: для него текст такого рода порой превращается в настоящую головоломку. Конечно, приложив определенные усилия, здесь тоже можно разобраться, кто есть кто и вообще какую реальность отражает сознание героя. И хорошо, если усилия читателя оказываются вознагражденными, как это бывает при чтении такого писателя, как Фолкнер, романы которого открывают нам богатый, разнообразный и трагичный мир американского Юга. Но, к сожалению, слишком часто разгадывать головоломки потока сознания не только трудно, но и скучно, поскольку, как уже говорилось, в ряде романов, написанных в этой манере, фабула как «последовательность интересных для человека событий» совершенно сознателно упразднена, с героем не происходит ничего социально и психологически существенного, а сам он практически лишен социальной и психологической характерности.
Из всего сказанного здесь, однако, еще не следует, что теория и практика литературы «потока сознания» лишены всякой ценности и заслуживают безоговорочного осуждения. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что внутренние монологи, фиксирующие извилистое течение неоформленной мысли, можно встретить в творчестве писателей, которых никак не заподозришь в склонности к модернизму. Приведем один пример:
«...Должно быть, снег — это пятно; пятно — une tache», думал Ростов. — Вот тебе и не таш...»
«Наташа, сестра, черные глаза. На...ташка (Вот удивится, когда я ей скажу, как я увидел государя!) Наташку... ташку возьми...» — «Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты», сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал? — не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то — это завтра. Да, да! На ташку наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома...».
Читатель несомненно узнал Л.Н. Толстого, «Войну и мир». Но дело, конечно, не в авторитетах, а в том, что поток сознания засыпающего героя передан здесь с поразительной силой и точностью.
Метод потока сознания, как это нередко бывает в литературе, оказывается художественно несостоятельным в своих крайних проявлениях, когда по воле автора читатель оказывается заперт в безвоздушном пространстве изолированного сознания, зигзаги которого являются единственным объектом художественного исследования. Выход за пределы этого замкнутого пространства, умножение изобразительных перспектив то ли путем сопоставления нескольких субъективных картин фабульной действительности, то ли за счет введения элементов объективного повествования, а также отказ от попыток «буквального перевода» спонтанной мысли, установка на творческое и условное воссоздание внутреннего монолога — вот, по-видимому, основные пути преодоления внутренних противоречий, присущих методу потока сознания. Необходимо, чтобы сознание героя было обращено к миру, чтобы за ним вставал образ действительности, в котором современный читатель мог бы узнать себя и свои актуальные проблемы. Но для этого надо прежде всего, чтобы у писателя было что сказать публике, чтобы его творчество было одухотворено социально значимой гуманистической идеей.
§ 89. Проблема имплицитного выражения авторской точки зрения.
Композиция повести Мериме «Кармен»
Выше, в § 79, этот вопрос — как выражается идеологическая позиция автора в тексте, где авторский голос не звучит вовсе — был поставлен в связи с повествованием типа II.2 (от персонажа). Ясно, что он не менее актуален для произведений, где повествование в каждый данный момент подчинено точке зрения того или иного персонажа, в том числе и для текстов, чередующих «потоки сознания» героев. Мы попытаемся ответить на него на материале повести П. Мериме «Кармен», произведения как будто вполне традиционного по своему построению. Однако выводы, которые нам, как мы надеемся, удастся сделать, должны быть действительны и для любых других текстов с явно не выраженной точкой зрения автора.
Повесть Мериме состоит из четырех неравных по величине глав. В первой, насчитывающей 16 страниц 41, повествователь, французский ученый-историк, рассказывает о том, как, путешествуя в горах Андалусии, он встретился со знаменитым разбойником тех мест Хосе Наварро и спас его от ареста. Во второй главе (12 страниц), действие которой происходит примерно через неделю после этой встречи, рассказчик знакомится в Кордове с молодой цыганкой по имени Кармен, приглашает ее в кафе, а затем идет к ней домой, чтобы та ему погадала. Их уединение прерывает некий разгневанный мужчина. Француз уже готовится к схватке, но узнает в вошедшем Хосе Наварро. Тот также узнает его и, несмотря на уговоры Кармен перерезать иностранцу глотку, выводит его на улицу и показывает ему дорогу к центру города. Вернувшись в гостиницу, путешественник обнаруживает, что его замечательные золотые часы с репетицией, которые так понравились Кармен, исчезли.
В конце той же главы повествователь, снова оказавшийся спустя несколько месяцев в Кордове, узнает, что дон Хосе арестован и скоро будет казнен. Он идет навестить заключенного, и тот рассказывает ему свою историю. Так внутри повествования от первого рассказчика, путешественника-француза, возникает повествование от лица одного из главных героев, Хосе Наварро. Рассказ Хосе составляет третью, самую длинную главу повести (52 страницы). Из него мы узнаем, где и в какой семье он родился, как стал солдатом, как познакомился с Кармен, как полюбил ее, как ради нее дезертировал, стал контрабандистом и разбойником, как терпел ее неверность и как, устав терпеть и не в силах перенести, что она его больше не любит, в конце концов убил ее и сам отдался в руки полиции. Этот рассказ передан с этнографической точностью — он содержит множество реалий, специфических выражений и сопровождается подстрочными комментариями основного повествователя.
Четвертая глава (9 страниц) представляет собой исторический, этнографический и лингвистический очерк о европейских цыганах, написанный в обычной энциклопедической манере того времени, в котором ни слова не говорится о Хосе и Кармен.
Таким образом, основная часть фабулы заключена в третьей главе, а две первые и четвертая на первый взгляд представляют собой лишь рамку, вряд ли необходимую с точки зрения фабульного действия. Но в таком случае зачем они? И зачем вообще нужна фигура повествователя-француза?
Во-первых, рассказ Хосе должен быть кем-то услышан и передан. Повествователь-француз и служит ретранслятором, передаточным звеном между Хосе и его миром, с одной стороны, и миром автора и его читателей — с другой, подобно тому как сам Хосе служит посредником между еще более таинственным и скрытым от посторонних глаз миром Кармен и повествователем-французом. Все это обусловлено сложной структурой фабульного пространства повести, в котором противопоставляются три изолированных друг от друга этнических, социальных и культурных подпространства: цыганское, испанское и французское. В соответствии с этим необходима, по меньшей мере, двойная «перекодировка», двойной перевод: мир Кармен не может сам рассказать о себе и не может быть объектом непосредственного наблюдения — он слишком далек от автора и в чисто практическом, социальном плане (как реалистически оправдать достоверное знание автором-французом внешней и внутренней жизни испанской цыганки?), и в плане психологическом: даже подсмотрев эту жизнь, носитель той культуры и того типа мышления, к которым принадлежит сам автор и его читатели, ничего в ней не поймет, как ничего не понял (и едва не поплатился за это жизнью) повествователь-француз, непосредственно столкнувшийся с Кармен. Здесь необходим посредник и переводчик, в роли которого выступает Хосе; ведь он двуязычен и в прямом, и в переносном смысле этого слова: он пришелец в мире Кармен (как Алеко в «Цыганах» Пушкина), по своему происхождению и воспитанию принадлежащий к «нормальному» испанскому социально-культурному пространству 42. Но и это последнее в те времена слишком далеко отстоит от психологического и культурного пространства автора и его читателя; тут необходим еще один посредник — путешественник, знающий язык и нравы.
Но этим художественная функция повествователя-француза не исчерпывается. Объемное видение возможно как минимум с двух различных точек зрения. Показ главного объекта изображения — Кармен — только через восприятие дона Хосе недостаточен, надо взглянуть на нее и с иной точки зрения, непосредственно столкнув ее с носителем европейской цивилизации, представителем того мира, к которому принадлежит читатель. Это и делается во второй главе.
В известном смысле построение «Кармен» напоминает построение «Героя нашего времени», где Печорин показан с трех различных точек зрения (см. выше, § 68), причем, как и там, непосредственное знакомство повествователя с героем предшествует более полному раскрытию последнего. Но у Мериме использованы не три, а две точки зрения — Кармен не рассказывает сама о себе, как это делает Печорин в своем «Журнале»: можно ли представить себе Кармен, ведущую дневник или хотя бы последовательно рассказывающую кому-то свою жизнь, как это делает Хосе? Кроме того, в отличие от повествователя у Лермонтова, рассказчик у Мериме сам совершает некоторые фабульные действия и этим приобретает статус не только повествователя, но и действующего (пусть хотя бы эпизодически) лица.
§ 90. Отношения между автором и повествователем в «Кармен»
Но и это еще не все. Повествователь-француз воплощает определенный социально-культурный кругозор и как бы моделирует восприятие истории Хосе и Кармен французским читателем его круга. И хотя автор как будто сам принадлежит к этому кругу (он ведь тоже рафинированный французский интеллигент, писатель, светский человек и, более того, тоже археолог, историк и путешественник), между его позицией и позицией повествователя намечается серьезное расхождение. Повествователь подчеркнуто неадекватно реагирует на события, составляющие основное фабульное содержание повести; он чужой по отношению к миру Хосе и Кармен и как будто не понимает, какой потрясающий жизненный материал попал в его руки. В этом смысле чрезвычайно показательна фраза из начала первой главы: «En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspens, je veux vous raconter une petite histoire; elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Munda» (p. 473; речь идет о местонахождении древнеиспанского города, близ которого Цезарь одержал важную победу над сторонниками республики). Здесь все акценты пародийно смещены: сугубо частная проблема европейской истории, способная заинтересовать лишь узкий круг специалистов, определяется как problème... qui tient toute l'Europe savante en suspens («проблема, над которой, затаив дыхание, склоняется вся ученая Европа»), а подлинно важное и интересное — не более чем petite histoire, анекдот. Но ведь именно этот «анекдот», а не поиски древней Мунды, является темой повести Мериме!
В том же направлении действует четвертая глава: для повествователя, ученого европейца, история Кармен и Хосе не заслуживает даже того, чтобы о ней задуматься, попытаться как-то ее осмыслить и оценить; это не более чем этнографический материал, который может лишь послужить отправной точкой для энциклопедической справки, подобно экзотическим подробностям быта каких-нибудь полинезийских дикарей, абсолютно несопоставимый с тем, что способно взволновать людей его круга — потенциальных читателей или слушателей этой истории. Отстраненно-высокомерное, снобистское отношение рассказчика к описываемым людям и событиям четко просматривается также в стиле повествования — в первой и во второй главе (но к анализу этого уровня текста мы еще не готовы).
Для характеристики образа повествователя-француза очень интересен еще один момент: во второй главе, в рассказе о встрече с Кармен, автор заставляет его лгать и проговариваться; ясно, что он пошел к Кармен отнюдь не только для того, чтобы выяснить, как далеко продвинулись цыгане в искусстве предсказывания судьбы (р. 493). Характерно, что обычно столь щедрый на этнографические подробности повествователь на сей раз почти ничего не сообщает о самом процессе гадания, а его оценка искусства Кармен — quant à sa manière d'opérer, il était évident qu'elle n'était pas sorcière à demi (p. 495) — звучит достаточно двусмысленно. Об этом же свидетельствует и то, что неожиданный приход Хосе создает столь напряженную ситуацию, что впору хвататься за ножку табуретки, чтобы запустить ее в голову соперника. Об этом же говорят досада и смущение рассказчика, а также гнев Хосе против Кармен:
En ce moment, je regrettais un peu de ne pas l'avoir laissé pendre.
— Eh! c'est vous, mon brave! m'écriai-je en riant le moins jaune que je pus; vous avez interrompu mademoiselle au moment où elle m'annonçait des choses bien intéressantes.
— Toujours la même! Ça finira, dit-il entre ses dents, attachant sur elle un regard farouche (p. 496).
Очевидно, что если бы речь шла только о гадании, ничего бы этого не было. Не исключено, правда, что повествователь выдает себя намеренно, т.е. что вся эта часть его рассказа несет преднамеренный «подтекст для мужчин». Но так или иначе, его рассказ, как и его поведение при встрече с Кармен, выставляет его не в лучшем свете: он, как говорят французы, пытается делать хорошую мину при плохой игре.
Таким образом, точка зрения повествователя-француза отнюдь не является точкой зрения истинного автора; автор достаточно ясно дает это понять читателю и тем самым предостерегает против высокомерно-снобистского отношения к истории Хосе и Кармен.
§ 91. Автор и подставной повествователь — некоторые итоги
Теперь мы можем ответить на вопрос, сформулированный в § 79: как устанавливается дистанция между повествователем и истинным автором (и, как следствие, критическое отношение читателя к повествователю)? Во-первых, в случае, когда повествователь является реально действующим лицом, он, как и всякий персонаж, характеризует себя своими поступками, и его поведение в фабульном пространстве отбрасывает определенный свет на его рассказ как отражение его нравственной и идеологической позиции. Так, например, если он совершает неблаговидные или явно неразумные поступки и при этом сам не дает им соответствующую оценку, доверие читателя к нему скорее всего будет поколеблено.
Далее, критическое отношение читателя к повествователю (отношение к нему не только как к субъекту, но и как к объекту изображения) возникает, как правило, и тогда, когда по своему статусу и обусловленному им идеологическому и нравственному кругозору, отражающемуся в его речи, повествователь заведомо и явно чужд как истинному автору, так и, скорее всего, читателю, принадлежит иному социальному или культурному пространству, например он иностранец, человек иной эпохи (как это часто бывает в исторических романах Анатоля Франса), человек «из народа» или деклассированная личность, бандит или хулиган (последнее, например, блестяще использовано в романе современного французского писателя Б. Блие «Les valseuses») 43. У Мериме рассказчиком именно такого типа является Хосе (в третьей главе повести).
Вообще читательская оценка повествователя есть результат сопоставления того, что он рассказывает, с тем, как он это делает, т.е. по существу сопоставления фабулы с сюжетом и стилем, причем точкой отсчета или фоном выступает здесь «нормальная», усредненная литературная манера, отражающая «нормальный» литературный кругозор 44, или индивидуальная норма данного автора, если она известна читателю по его предыдущим произведениям. Критическое же отношение читателя к субъекту повествования, которое в идеале является следствием дистанции между повествователем и истинным автором, возникает из ощущения несоответствия между тем, что рассказывается, и самим рассказом. Эта формула включает в себя и два указанных выше случая — когда повествователь как действующее лицо ведет себя «не так» и когда он по своей позиции явно «чужой».
Всякий повествователь не только субъект, но и объект изображения, а повествователь «остраненный» — вдвойне или втройне: читатель смотрит не только сквозь него на изображаемые события, но и на него и, лишь сопоставляя одно с другим и внося соответствующие поправки в толкование событий, предлагаемое рассказчиком, постигает собственно авторскую позицию. Об этом очень хорошо писал М.М. Бахтин:
«Автор осуществляет себя и свою точку зрения не только на рассказчика, на его речь и его язык... но и на предмет рассказа — точку зрения, отличную от точки зрения рассказчика. За рассказом рассказчика мы читаем второй рассказ — рассказ автора о том же, о чем рассказывает рассказчик, и, кроме того, о самом рассказчике. Каждый момент рассказа мы отчетливо ощущаем в двух планах: в плане рассказчика, в его предметно-смысловом и экспрессивном кругозоре, и в плане автора, преломленно говорящего этим рассказом и через этот рассказ. В этот авторский кругозор вместе со всем рассказываемым входит и сам рассказчик со своим словом. Мы угадываем акценты автора, лежащие как на предмете рассказа, так и на самом рассказе и на раскрывающемся в его процессе образе рассказчика. Не ощущать этого второго интенционально-акцентного авторского плана — значит не понимать произведения.
Как мы уже сказали, рассказ рассказчика или условного автора строится на фоне нормального литературного языка, обычного литературного кругозора. Каждый момент рассказа соотнесен с этим нормальным языком и кругозором, противопоставлен им, причем противопоставлен диалогически: как точка зрения точке зрения, оценка оценке, акцент акценту... Эта-то соотнесенность, эта диалогическая сопряженность двух языков и двух кругозоров и позволяет авторской интенции реализовать себя так, что мы отчетливо ее ощущаем в каждом моменте произведения» 45.
§ 92. От субъективных точек зрения к точке зрения автора
Мысль М.М. Бахтина о диалоге двух ценностных и идеологических кругозоров, через который реализуется авторская позиция, возвращает нас к общему принципу сопоставления и противопоставления элементов художественного текста, о котором шла речь в § 71–72. В сущности, мы имеем здесь дело с тем же явлением: новое знание «выбивается» из сопоставления; две или несколько точек зрения на одни и те же события и одних и тех же героев, каждая из которых предстает как субъективная, ограниченная и не совпадающая с авторской, сопоставляясь и противопоставляясь, дополняют и оттеняют друг друга, выявляют свои сильные и слабые стороны и в итоге формируют в сознании читателя некую «надпозицию» (в идеале совпадающую с авторской), подобно тому как в сознании членов суда, выслушивающих прения сторон, формируется юридически обоснованный взгляд на рассматриваемое дело, т.е. точка зрения закона, в принципе не совпадающая с точкой зрения ни одной из сторон (и там, и здесь совпадение возможно лишь как частный случай). «Истина, с авторской позиции, — писал об этом Ю.М. Лотман, — возникает как некоторый надтекстовый конструкт — пересечение всех точек зрения. Заданность поведения, предвзятость оценок мыслятся как нечто ложное. Истина же — в выходе за ограниченность каждой из этих структур: она возникает вне текста как возможность взглянуть на каждого из героев и на каждый, писанный от первого лица текст с позиции другого (других) героев и других текстов» 46.
Так бывает в романе с подставным рассказчиком или рассказчиками, в эпистолярном романе (т.е. в романе в письмах), а также в повествовании типа I.1, если авторский голос прямо не звучит и фабульное действие изображается в каждый данный момент как воспринятое сознанием кого-то из персонажей.
Так обстоит дело и в «Кармен», где позиция Мериме лежит на пересечении трех точек зрения: Хосе, повествователя-француза и старой романтической традиции восприятия и изображения испанцев, итальянцев, турков, цыган и прочих «экзотических» народов, традиции, которая не могла не присутствовать в сознании автора и читателей-современников. С точки зрения повествователя-француза, Кармен не столько даже обманщица и воровка, сколько существо, стоящее на неизмеримо более низкой ступени развития, чем он сам и люди его круга, в сущности, зверь, всерьез осуждать которого за хитрость и жестокость было бы недостойно цивилизованного человека. В восприятии Хосе облик Кармен противоречив: для Хосе как действующего лица (со дня первого знакомства с Кармен и вплоть до убийства) это роковая женщина, «дьявол» (это слово в применении к Кармен повторяется в его рассказе не менее пяти раз, не считая других слов того же семантического поля). Так она и сама воспринимает себя: Bah! mon garçon, crois-moi, tu en es quitte à bon compte. Tu as rencontré le diable, oui, le diable (p. 519); — Tu es le diable, lui disais-je. — Oui, me répondit-elle (p. 531). С другой стороны, Хосе-повествователь в тот момент, когда Кармен уже нет в живых и вся эта история в прошлом, видит в ней — и это очень неожиданно и точно — «бедное дитя», жертву цыганского воспитания: Pauvre enfant! Ce sont les Calés qui sont coupables pour l'avoir élevée ainsi (p. 553) 47.
Именно эта оценка героини, пожалуй, ближе всего к авторской позиции; но последняя существенно шире: она включает в себя и образ роковой женщины, которая цельностью и страстностью своей натуры, готовностью идти до конца и платить сполна за свою свободу противостоит выхолощенному, снобистскому миру повествователя француза и его потенциальных читательниц с их светским лоском, лицемерными приличиями и убежденностью в собственном превосходстве. С другой стороны, своей дикостью, необузданной жестокостью и коварством Кармен четко противопоставлена традиционным романтическим цыганам — «вольным детям природы» 48, что «робки и добры душою», как говорит старый цыган у Пушкина. В первую очередь, надо думать, она противостоит пушкинской Земфире, поскольку в одном, чрезвычайно важном для обеих плане они родные сестры: обе больше всего на свете ценят свою свободу, в частности свободу чувства, и обе предпочитают смерть потере этой свободы (известно, что противопоставление двух любых элементов возможно лишь при наличии у них общей основы, так называемых интегральных признаков, и чем больше сходство между ними в каком-то одном отношении, тем явственнее различия в других).
Вообще «Кармен» представляет собой опыт реалистической трактовки традиционно-романтической фабульной схемы. Мериме не опровергает романтическую традицию изображения цыганки как существа, превыше всего ценящего свободу; он даже усиливает этот мотив, но одновременно показывает оборотную сторону медали. При этом героическое свободолюбивое начало и полный аморализм, жестокость, прямая уголовщина органически слиты в характере и поведении Кармен, чего не понимают ни повествователь-француз (он видит только внешнюю красоту и уголовщину), ни Хосе, который хотел бы ее перевоспитать. Эта слитность недоступна и традиционному романтическому кругозору, который идеализирует героиню такого типа (романтическая идеализация Кармен отчетливо проявилась в опере Бизе, где уголовщина почти полностью снята).
Так автор (а с ним и проницательный читатель) оказывается мудрее и проницательнее любого из повествователей и персонажей, хотя его собственный голос прямо не звучит ни в одной строчке текста. Он лишь сталкивает между собой различные точки зрения на изображаемые события, в результате чего возникает не только более глубокое и многостороннее познание объекта — сами эти точки зрения вовлекаются в круг изображаемых явлений и подвергаются авторскому суду.
§ 93. Образ повествователя — некоторые итоги
В этой главе мы рассматривали в основном различные аспекты позиции повествователя по отношению к истинному автору и к фабульному пространству, т.е. более или менее формальные рамки, в которых реализует себя образ субъекта повествования. Естественно, что образ повествователя этим не исчерпывается, подобно тому как истинная человеческая сущность любого из нас не укладывается в традиционные формулировки служебной характеристики, даже самой подробной. И в том, и в другом случае остается неучтенным самое интересное и трудноуловимое — личность.
Сравнительно нетрудно бывает представить себе и охарактеризовать подставного рассказчика, особенно если он в то же время является действующим лицом: тут помогает, во-первых, то, что он, как правило, наделен каким-то социальным статусом (см. выше, § 91); во-вторых, его личность проявляется не только в рассказе, но и в действии, да и сама его манера речи нередко несет достаточно определенный социально-психологический подтекст (к этому мы еще вернемся в следующей главе).
Гораздо труднее определить аукториального повествователя, поскольку статусные, социально-ролевые и деятельностью характеристики к нему не подходят. Говоря, например, «всезнающий и вездесущий повествователь, историк, философ и поэт», мы как будто очерчиваем круг большого диаметра, внутри которого есть место для носителей самых различных идеологических позиций, индивидуальных пристрастий и темпераментов. Идеологическую позицию повествователя охарактеризовать еще сравнительно легко, она вытекает прежде всего из фабулы (см. § 58, 59); именно этому учит в первую очередь школьный курс литературы. Но что касается личностных черт, то наметить какую-нибудь примерную номенклатуру, хотя бы примерный набор психологических ролей, на сегодняшний день не представляется возможным — слишком велика здесь доля сугубо индивидуального начала.
По-видимому, пытаясь представить себе образ повествователя в каком-то конкретном тексте, вовсе необязательно стремиться к номенклатурным определениям типа «X есть Y», можно довольствоваться функциональными, описательными, вроде того, что мы предложили в § 86, говоря о повествователе у Стендаля. Именно к таким определениям мы чаще всего прибегаем в нашей повседневной речевой практике, когда нам надо дать кому-то откровенную неофициальную характеристику. Ср.: «Он такой человек — если где-то что-то дают, он просто уважать себя перестанет, если упустит. Хотя, может, не больно-то и хотелось» (из записей устной речи).
Очень важным является еще один аспект образа повествователя, о котором мы не говорили до сих пор в силу недостаточной его разработанности. Это отношение повествователя к читателю. Существует ли вообще адресат для повествователя или полностью им игнорируется, как это бывает, например, в безличном повествовании или в литературе «потока сознания»? И если существует, то как это проявляется в строе текста — в форме ли прямых обращений (как, например, у Дидро, Доде, Жида и многих других) или как-то иначе? В другой плоскости: как соотносятся психологические ранги повествователя и читателя, смотрит ли первый на второго сверху вниз, как учитель на ученика, или как на равного?
В общем точных рецептов или инструкций, которые помогли бы дать исчерпывающую характеристику образа повествователя, мы дать не можем. Некоторые дополнительные указания на этот счет будут даны в следующей главе, посвященной стилю. Но все равно: здесь кончается наука и вступает в свои права интуиция, точнее, такой ее вид, как эмпатия, вчувствование. И бояться этого не надо — такова специфика нашего объекта; как уже неоднократно говорилось, содержание художественного текста принципиально несводимо к логическим формулам.
Глава VI
СТИЛЬ
§ 94. Стиль и другие уровни художественного текста
Как было сказано в главе I, содержание, которое несет стиль, представляет собой неотъемлемую часть общего коммуникативного подтекста, который возникает как результат отбора, осуществляемого адресантом на всех уровнях структуры сообщения.
Из этого следует, что стиль художественного текста теснейшим образом связан с остальными уровнями последнего: коммуникативное содержание, воплощенное в стиле, должно быть так или иначе согласовано с коммуникативной информацией, которую несут другие уровни. Стиль — это результат отбора на уровне словесного выражения, т.е. на заключительном этапе творчества; естественно, что словесное оформление каждого отдельного высказывания (выбор конструкции и лексических единиц) в значительной мере предопределено предыдущими авторскими решениями 1, в первую очередь теми, которые касаются образа субъекта речи, повествователя или персонажа.
Необходимо, однако, учесть еще один момент. Очевидно, что языковые средства, используемые в любом сообщении, непосредственно зависят от его номинативного содержания — от того, что адресант хочет сказать. Если, например, в тексте идет речь о боевых действиях в современной войне, то употребление таких слов, как «пушка», «самолет», «танк», «стрелять», «наступать» и т.п., и(или) их синонимов, узуальных и окказиональных, практически неизбежно и в силу этого само по себе еще не является фактом стиля. Оно имеет отношение к стилю лишь постольку, поскольку в каждом конкретном случае использовано какое-то определенное слово, а не его синоним, например fusil, а не flingue, avion, а не zinc и т.д. Причем если это слово нейтральное, наиболее распространенное, то его стилистическое значение равно нулю.
Это представляется очевидным применительно к лексике, но не всегда осознается, когда речь идет о синтаксисе художественного текста. Между тем и здесь употребление тех или иных конструкций не может не зависеть от номинативного содержания. Так, например, неоднократно отмечавшаяся критиками и исследователями громоздкость толстовской фразы определяется в первую очередь сложностью тех отношений, которые она призвана передать. «Этот «чрезмерный» синтаксис — не внешняя примета или формально-грамматическая черта толстовского письма, но это самая форма мысли, самое видение мира: аналитическая, исследовательская установка входит в творческий акт...» 2. «Придаточные предложения, иногда нагроможденные друг на друга, причастные и деепричастные обороты... наполняют одно действие другим действием и одно чувство другим, часто противоположным ему чувством» 3. Аналогичным образом необычайная разветвленность синтаксического периода у М. Пруста соответствует прежде всего сложности и многослойности анализируемого душевного переживания, включенного в непрерывный поток внешней и внутренней жизни.
Рассмотрим несколько подробнее противоположный случай — дискретность, расчлененность речевой цепи на отдельные отрезки в романах Стендаля. Как известно, сам Стендаль называл свой стиль рубленым (style haché). По определению М.Н. Эпштейн, «словесное целое строится у него как простое соположение повествовательных единиц» 4. Этот тезис можно проиллюстрировать почти любым отрывком из «Красного и черного» или «Пармской обители»: повествующим о событиях:
L'aide de camp prit le cheval de Fabrice par la bride; le général, aidé par le maréchal de logis, monta et partit au galop; il fut suivi rapidement par les six hommes qui restaient. Fabrice se releva furieux et se mit à courir après eux en criant Ladri! ladri! (voleurs! voleurs!). Il était plaisant de courir après les voleurs au milieu d'un champ de bataille.
M.H. Эпштейн объясняет эту особенность его синтаксиса тем, что «мир у Стендаля дискретен, состоит из отдельных частиц, разбросанных во времени и пространстве» 5, для него «только в деталях правда и подлинность» 6.
Примерно то же можно сказать о Ж. Ренаре: дробность, расчлененность его прозы очень четко проявляется как на уровне связей между предложениями (недаром у него предложение часто составляет отдельный абзац), так и на уровне композиции и даже структуры его творчества в целом: любимый жанр Ренара — короткий рассказ, миниатюра, а самая большая вещь, повесть «Рыжик», построена как серия отдельных зарисовок, эпизодов, сцен, в полном смысле слова «разбросанных во времени и пространстве».
Обобщая подобные наблюдения, Н.Д. Арутюнова предлагает различать два синтаксических типа прозы: прозу иерархическую или синтагматическую, характеризующуюся развитыми синтагматическими связями, и прозу актуализирующую, где «упор делается на связь высказывания с денотатом, его прямую и «близкую» отнесенность к ситуации» 7.
Но поскольку характер синтаксического построения отрезка текста или текста в целом в значительной мере зависит от характера референтного пространства, т.е. от того, о чем идет речь («чем конкретнее содержание, тем короче средний размер предложения» 8), оба типа могут совмещаться в пределах одного произведения. Так, в романах Стендаля, как только речь заходит не о конкретных событиях, а о сколько-нибудь отвлеченных материях — о чувствах, мотивах поведения героя, отношениях между персонажами и т.п. — иначе говоря, как только прерывается повествование и начинается объяснение, строй фразы обычно меняется:
Si Julien eût employé à examiner ce qui ce passait dans le salon le temps qu'il mettait à s'exagérer la beauté de Mathilde, ou à se passionner contre la hauteur naturelle à sa famille, qu'elle oubliait pour lui, il eût compris en quoi consistait son empire, sur tout ce qui l'entourait. Dès qu'on déplaisait à mademoiselle de la Mole, elle savait punir par une plaisanterie si mesurée, si bien choisie, si convenable en apparence, lancée si à propos, que la blessure croissait à chaque instant, plus on y réfléchissait.
Таким образом, предпочтение, отдаваемое сложному периоду или малораспространенному, преимущественно простому предложению, тесная эксплицитно оформленная связанность отдельных высказываний или расчлененность повествования на отдельные внешние не зависящие друг от друга синтаксические отрезки определяются в первую очередь номинативным содержанием текста и отражают художественный метод автора, проявляющийся прежде всего в отборе и трактовке фабульного материала и лишь как следствие — в синтаксисе. Тип синтаксической организации, преобладающий в тексте, связанность или расчлененность — чрезвычайно важная его характеристика, помогающая осмыслить существенные стороны авторского видения мира; но это еще не стиль в строго семиотическом смысле слова. Последний начинается там, где имеет место отбор означающих, а не означаемых, и предопределен авторскими решениями, касающимися образа субъекта речи, а не номинативного содержания.
§ 95. Авторское слово и чужое слово
Итак, содержательность стиля заключается прежде всего в том, что он несет образ адресанта. В литературном произведении адресант — это прежде всего повествователь. Кроме повествователя, в эпическом тексте имеются адресанты второго ранга — персонажи; они выступают в этом качестве в той мере, в какой их голоса доносятся до читателя. Но потенциально их речь практически всегда присутствует в фабуле, ибо последняя, как правило, предполагает общение между персонажами, а общение между людьми реализуется прежде всего посредством речи.
Персонажи, по определению, противопоставлены автору (если только автор сам не является персонажем, как это бывает в повествовании типа I.2). Что же касается повествователя, то его возможные позиции по отношению к истинному автору были рассмотрены выше: он либо являет собой более или менее непосредственное воплощение автора, не наделенное какими-либо атрибутами, противопоставляющими его последнему (тип I), либо же выступает как вымышленная фигура, явно не идентичная автору.
В соответствии с этим мы можем выделить в стиле любого эпического текста — вообще в тексте — два основных пласта. Следуя терминологии, введенной в обиход М.М. Бахтиным, мы будем называть их авторское слово и чужое слово. Под авторским словом понимается повествование (исключая речь персонажей), субъектом которого является повествователь типа I (аукториальный повествователь). В соответствии с этим понятие «чужое слово» включает в себя как повествование от персонажа, явно не идентичного автору (тип II), так и речь персонажей, не являющихся повествователями в любом типе повествования; кроме того, чужое слово может вводиться в авторскую речь и не будучи мотивированным словом или мыслью какого-то конкретного персонажа (подробнее об этом см. в § 104.) Из сказанного следует, что авторское слово представлено лишь в повествовании типа I, а в повествовании типа II оно в явном виде не обнаруживается (если не считать ту повествовательную рамку, в которую часто заключен рассказ персонажа) — здесь мы имеем дело только с чужим словом. Интересно, однако, что наиболее разнообразные проявления чужого слова обнаруживаются именно в повествовании типа I, так как в типе II обычно доминирует лишь одна чужая интонация — слово подставного повествователя.
Конечно, все сказанное в этом параграфе надо рассматривать как абстрактную схему, отражающую лишь общие тенденции, за которыми скрывается множество переходных случаев. Само введение оппозиции «авторское слово/чужое слово» опирается в первую очередь на литературную практику XIX—XX вв.; до этого авторское слово и чужое слово четко не противопоставлялись друг другу, по крайней мере в чисто стилистическом плане. Так, в эстетической системе классицизма, стремившейся отражать прежде всего общее, инвариантное, чужие голоса подчинены авторскому, растворены в нем — персонажи, когда им предоставляется слово, и подставные повествователи говорят тем же языком, что и автор, точнее, аукториальный повествователь, и нередко повествователь-персонаж несет авторскую точку зрения на изображаемое. Чтобы убедиться в принципиальной одностильности речи аукториального повествователя, повествователя-персонажа и прочих персонажей в классической прозе, достаточно сравнить, например, повествовательную рамку, в которую заключен рассказ героя в «Манон Леско», сам этот рассказ и воспроизводимые в нем диалоги действующих лиц.
Ясно, что авторскому слову, как и чужому слову, нельзя приписать никаких априорных характеристик. Можно лишь определить общую тенденцию: авторское слово в общем тяготеет к повествовательной норме данной эпохи, данного жанра, данного литературного направления, тогда как чужое слово более или менее существенно отклоняется от него 9. Но и эта закономерность проявляется лишь тогда, когда сама оппозиция «авторское слово / чужое слово» актуальна. Так, в прозе классицизма, как только что было сказано, она не действует: литературная норма, «bon usage» определяет и стиль персонажей. Как ни парадоксально, нечто похожее — но на противоположной основе — нередко наблюдается в современной французской литературе: авторское слово сближается с чужим словом своей подчеркнутой нелитературностью, низводится до уровня обиходной речи (например, у Арагона, в некоторых главах «Blanche ou l'oubli», не говоря уже об автобиографических романах — если их можно назвать романами — таких писателей, как А. Сарразен или А. Будар, которые в молодости были связаны с уголовным миром).
Как мы уже отчасти видели и как будет подробнее показано ниже, авторское слово и чужое слово могут соединяться, смешиваться, переходить друг в друга, образовывать «гибридные» формы. Однако это обстоятельство, равно как и сформулированные выше оговорки, не лишают ценности сам принцип разграничения двух речевых пластов текста: нельзя оценить конкретные варианты, не располагая инвариантной схемой.
В целом соотношение авторского слова и чужого слова в тексте является одной из центральных проблем стилистики художественной речи и имеет первостепенную важность для интерпретации текста.
Мы начнем с наиболее простого и явного — со способов введения и представления чужого слова 10.
§ 96. Прямая речь и косвенная речь
Как было сказано в § 42, для того чтобы оценить своеобразие сюжета как результата отбора, фабулу художественного текста полезно представить себе как нечто случившееся на самом деле и, следовательно, обладающее всеми атрибутами реального бытия. Следуя этому принципу, мы должны допустить, что в фабуле речь всех персонажей стилистически маркирована, как это бывает в реальной жизни, т.е. что литературные дворяне разговаривают «на самом деле», «до сюжета» как дворяне, рабочие — как рабочие и т.д., а также что стиль их речи меняется в зависимости от роли, ситуации, эмоционального состояния и т.п.
Как же передается речь персонажей в художественном тексте? Проблема передачи чужой речи вообще, не только в применении к художественной литературе, далеко не так проста, как это может показаться. По отношению к передающей речи, передаваемая (первичная) предстает как особое референтное пространство, которое, как уже говорилось, отличается от всех прочих тем, что допускает прямое воспроизведение. Однако последнее вовсе не является абсолютным правилом. В главе I было показано, что отражение в речи какой-либо референтной ситуации предполагает ее истолкование, которое всегда в той или иной мере субъективно, так как определяется потребностями, интересами, степенью информированности адресанта и адресата, той целью, которую преследует высказывание, и т.п. Чужое высказывание как референтная ситуация тоже может подвергнуться такому истолкованию, но поскольку оно представляет собой не простой объект, а знак, причем из всех его возможных аспектов передающего субъекта, как правило, интересует лишь содержание, истолкование в этом случае выливается в полную или частичную перекодировку (об этом уже было упомянуто выше, в § 88).
В соответствии с этим язык располагает двумя основными способами передавать чужие высказывания: это так называемая прямая речь, дающая прямое воспроизведение, и косвенная речь, осуществляющая перекодировку первичного сообщения. Иначе говоря, прямая речь — это показ чужого слова, а косвенная — рассказ о нем.
При чисто синтаксическом подходе к этой проблеме разницу между прямой и косвенной речью усматривают главным образом в том, что чужое высказывание в форме косвенной речи грамматически подчиняется высказыванию передающего субъекта — главному предложению — на правах придаточного, что влечет за собой транспозицию глагольного времени, личных местоимений и указательных слов:
1a. Léon m'a dit: «Je suis content de partir d'ici demain».
1b. Léon m'a dit qu'il était content de partir de là le lendemain 11.
Грамматическая зависимость и связанные с ней изменения передаваемого высказывания отражают подчинение последнего «оптике» передающей речи, устранение субъективности первоначального адресанта 12. Конечно, бывает и так, что чужое высказывание в форме косвенной речи текстуально совпадает с первоначальной речью:
2a. — Il s'agit d'un attentat politique, affirme le porte-parole du Ministère de l'Intérieur.
2b. Le porte-parole du Ministère de l'Intérieur affirme qu'il s'agit d'un attentat politique.
Однако такого рода совпадения не более чем частные случаи, которые не должны скрывать от нас указанное выше принципиальное различие между прямой и косвенной речью. Оно четко выявляется всякий раз, когда первоначальное высказывание является иллокутивно и(или) эмоционально маркированным, вообще когда коммуникативное содержание выступает в нем на передний план:
3a. — A quoi bon se casser la tête, grogna le cochon, puisque ça ne sert à rien.
— Naturellement, dit le cheval, tu ne veux rien faire pour les petites. Tu es du côté des parents (Aymé).
Типичное и более или менее полное переложение этого отрывка в косвенную речь могло бы выглядеть так:
3b. Le cochon dit qu'il était inutile de réfléchir davantage, car leurs efforts n'aboutissaient pas. Le cheval lui reprocha de ne vouloir rien faire pour les fillettes et de soutenir toujours les parents.
Таким образом, и в чисто стилистическом плане форма косвенной речи, как правило, подчиняет первоначальное сообщение речи передающего субъекта, чужую речь — авторской. Здесь имеет место совершенно явная перекодировка — перевод в иную стилистическую тональность, иной регистр.
Конечно, эта перекодировка бывает и менее полной, чем в нашем примере; так, можно представить себе иной, стилистически более близкий к первоначальной речи вариант 3b: Le cochon dit que ce n'était pas la peine de se casser la tête puisque ça ne servait à rien. Форма косвенной речи не запрещает этого; более того, в литературе, как мы увидим в дальнейшем, такая неполная транспозиция используется сравнительно нередко. Однако в целом для косвенной речи это нетипично — она вовсе не обязана сохранять в неприкосновенности первичное сообщение и, следовательно, принципиально не позволяет восстановить то, что было сказано на самом деле. Так, «оригиналом» lb может быть высказывание, воспроизводимое дословно в 1а, но с тем же успехом и какое-нибудь другое, имеющее приблизительно тот же смысл, например: Quelle chance! Demain je vais pouvoir quitter enfin ce sacré trou! Аналогичным образом за 2b может скрываться как одна единственная фраза, так и целая декларация 13.
Последнее тоже очень существенно: если в форме косвенной речи излагается содержание развернутого сообщения, последнее обычно подвергается компрессии, сжатию. В этом и заключается один из резонов использования косвенной речи — иначе проще было бы привести это сообщение дословно. Но сжатие, т.е. выборочное отображение,обязательно предполагает интерпретацию (см. § 8). Таким образом, все внешние свойства косвенной речи суть проявления ее интерпретационной сущности.
Нередко приходится читать, что косвенная речь сохраняет в неприкосновенности лишь содержание первоначального сообщения, его «семантический инвариант» 14. Это не совсем точно, потому что и содержание не всегда сохраняется в неприкосновенности: коль скоро мы имеем дело с развернутым сообщением, которое излагается выборочно, разные передающие субъекты могут усмотреть в нем разные «семантические инварианты», как это постоянно бывает, когда газеты разных направлений излагают содержание речи какого-нибудь видного деятеля.
Форма косвенной речи нередко используется и для передачи содержания сознания персонажа. В этом случае подчиняющий глагол авторской речи называет уже не речевой, а мыслительный акт:
Elle se leva. Duroy devina, qu'elle allait partir sans lui dire un mot, sans reproches et sans pardon; et il en fut blessé, humilié au fond de l'âme (Maupassant).
Такое использование косвенной речи соответствует аналитическому изображению внутреннего мира персонажа (см. § 83): всеведущий повествователь объясняет нам от своего лица, что происходит в душе героя. Ясно, что здесь нельзя всерьез говорить о соотношении переданной мысли и «первоначальной мысли», поскольку эта «первоначальная мысль» вообще не имела определенной словесной формы. Такая косвенная речь соотносима лишь с передачей содержания сознания персонажа в форме прямой речи (см. тот же параграф) — приемом также весьма условным.
Итак, косвенная речь — это типичный рассказ о речи, снимающий характерность чужого слова, подчиняющий его авторскому, фактически превращающий его в авторское.
§ 97. Скрытая косвенная речь
Существует, однако, способ передачи чужого слова, идущий еще дальше, чем косвенная речь, по пути его ассимиляции и компрессии — это так называемая скрытая косвенная речь. Если в косвенной речи чужое слово, подчиненное авторскому, сохраняет хотя бы свою пространственную обособленность в авторском высказывании — оно локализуется в придаточном предложении, зависящем от глагола, называющего речевой или мыслительный акт, — то в скрытой косвенной речи оно целиком растворено в речи автора (передающего субъекта).
Скрытая косвенная речь описывает не первоначальное высказывание, а только первоначальный речевой акт и описывает его так, как любое другое, неречевое действие, сообщая, во-первых, что он имел место, а во-вторых, указывая либо тему первоначального высказывания — Rodolphe, avec Mme Bovary, causait rêves, pressentiments, magnétisme (Flaubert), — либо его общий смысл, его иллокуцию (см. § 13): Il accéda à ma demande (Prévost). В последнем случае вся информация о первоначальном речевом акте сосредоточена в глаголе или глагольном выражении, квалифицирующем его как действие. Возможна и крайняя степень компрессии: передающее высказывание сообщает только о том, что первоначальный речевой акт имел (или не имел) место: Je lui ai parlé deux ou trois fois. Но этот случай уже выводит нас за пределы темы, поскольку от первоначальной речи здесь не остается ровно ничего.
Скрытая косвенная речь или, точнее, ее структурно-семантический аналог используется и для описания душевного состояния персонажей, главным образом их чувств. Такое построение дает анализ, еще более отчужденный от самого субъекта, чем форма косвенной речи. Образцом его может послужить последнее предложение примера из Мопассана, приведенного в предыдущем параграфе: ... et il en fut blessé, humilié au fond de l'âme. Характерно, что если предыдущее предложение этого отрывка еще можно представить себе в форме условного внутреннего монолога от 1-го лица: Elle va partir sans me dire un mot, sans reproche et sans pardon! (правда, получается нечто мало похожее на Мопассана), то эта часть примера такой транспозиции не поддается, по крайней мере, в рамках реалистического повествования: J'en suis blessé, humilié au fond de l'âme! Подобная рассудочная декламация уместна лишь в устах героя классической трагедии (ср. начало знаменитых стансов Родриго в «Сиде»: «Blessé jusques au fond du cœur...»).
Как «явная», так и скрытая косвенная речь широко употребляются в литературе различных веков и направлений. Однако их доля по сравнению с прямой речью максимальна в прозе классицизма. Это понятно, поскольку, как уже неоднократно говорилось, в классицизме наиболее последовательно реализуется принцип рассказа — все подчинено точке зрения повествователя.
§ 98. Прямая речь в диалогах персонажей
В предыдущих параграфах, противопоставляя косвенную речь прямой, мы исходили из того, что последняя непосредственно и точно воспроизводит чужое слово. В принципе так оно и есть, именно в этом ее суть, и в повседневной речевой практике, цитируя (а не пересказывая) чужую речь, мы обязаны быть точными. Однако и здесь это требование далеко не всегда скрупулезно соблюдается 15.
Применительно к художественной литературе критерий точности воспроизведения чужого слова как будто теряет смысл: несмотря на наш уговор рассматривать фабулу как последовательность событий, якобы имевших место на самом деле, в каждом конкретном случае за каждой репликой того или иного персонажа подлинной первоначальной речи все-таки нет (она нам как бы неизвестна), и сравнивать текст реплики не с чем.
Однако мы можем, с одной стороны, сравнивать речь сопоставимых друг с другом персонажей в сопоставимых ситуациях у разных авторов (например, речь крестьян у Жорж Санд и у Мопассана); с другой стороны, можно сопоставить речь таких-то персонажей такого-то произведения, находящихся в такой-то ситуации, с соответствующей статусной, ситуативной и жанровой нормой данной эпохи (например, непринужденный диалог солдат у Сартра с подлинным французским просторечием середины XX в.). Но для этого, естественно, надо знать, чем характеризуется эта норма, т.е. надо располагать данными соответствующих социолингвистических исследований, а они есть далеко не всегда.
За последние два десятилетия лингвистика добилась больших успехов в изучении подлинной, живой разговорной речи, в частности на материале русского языка. На этой основе был предпринят ряд исследований того, как разговорная речь отражается в художественной литературе 16. В целом, несмотря на некоторые разногласия, эти исследования приводят к очень важному для нас выводу: художественная литература всегда отражала и отражает подлинную разговорную речь не «один к одному», а сугубо условно. Диалоги действующих лиц в прозе и в драматургии не фотография, а творческий портрет, порой достаточно далекий от оригинала, т.е. опять-таки интерпретация, но не явная, как в косвенной речи, а скрытая 17.
К этому же выводу приводит и сопоставление речи персонажей одного социального круга в произведениях разных писателей. Вот, например, как разговаривают крестьяне у Жорж Санд:
— Je vois bien, beau besson, dit alors la petite Fadette... que tu me flattes parce que tu es moitié mort de peur, et que la voix te tremble dans le gosier ni plus ni moins qu'à ma grand'mère. Allons, pauvre coeur, la nuit on n'est pas si fier que le jour, et je gage que tu n'oses passer l'eau sans moi.
— Ma foi, j'en sors, dit Landry, et j'ai manqué de m'y noyer. Est-ce que tu vas t'y risquer, Fadette? Tu ne crains pas de perdre le gué? (La petite Fadette).
Достаточно сравнить этот отрывок с воспроизведением речи крестьян в рассказе Мопассана «В полях», чтобы убедиться, что перед нами два совершенно разных подхода к материалу: у Мопассана стремление к этнографической точности, которое проявляется в последовательном воспроизведении не только синтаксических и лексических, но и фонетических особенностей рели нормандских крестьян, тогда как у Жорж Санд обнаруживаются лишь отдельные лексические приметы просторечия (в частности, диалектальное слово besson — синоним нейтрально-литературного jurneau); а что касается синтаксиса, то он мало чем отличается от синтаксиса авторского повествования.
Можно было бы привлечь к этому сопоставлению и, скажем, крестьян из рассказов Ж. Ренара — мы получили бы третий «портрет» крестьянской речи, существенно отличающийся от первых двух как мерой условности, т.е. близостью к оригиналу, так и отбором характерных примет.
При этом существенно, что и мопассановский образ крестьянской речи, наименее условный из всех, все равно не является фотографически точным: во-первых, средствами обычной орфографии все фонетические особенности диалекта воспроизвести нельзя, во-вторых же, и это еще важнее, художественная литература практически никогда не воссоздает очень характерное свойство спонтанной речи, так называемые «хезитации», т.е. колебания, обмолвки, «речевой брак» 18 — все то, что так поражает при прослушивании записи обычного разговора, сделанной скрытым магнитофоном, и что почти не замечается — ни у себя, ни у других — непосредственно в процессе общения.
Последнее и объясняет невосприимчивость художественной литературы к «речевому браку»: воспроизводится то, что представляется существенным, характерным для речи персонажа, а «речевой брак» — явление почти универсальное (поэтому он и не замечается); воспроизвести его — значило бы привлечь к нему внимание, придать ему некую коннотативную значимость. И действительно, в тех редких случаях, когда шероховатости спонтанной речи воспроизводятся в литературе, они выступают как знак волнения внутренней борьбы.
Условность речи персонажей эпической прозы проявляется и в чисто количественном аспекте: как любой фабульный материал, диалоги персонажей практически всегда воспроизводятся выборочно 19. Однако к стилю это прямого отношения не имеет; поэтому останавливаться на этом мы здесь не будем.
Как уже говорилось, прямая речь широко используется и для передачи содержания осознания персонажей. Очевидно, что в этом случае степень ее условности многократно возрастает, поскольку мысль для себя принципиально ненаблюдаема и не поддается прямому воспроизведению (см. выше, § 88).
Интересно однако, что в литературе XIX—XX вв. содержание сознания героя, воспроизводимое посредством внутреннего монолога от 1-го лица, часто облекается в словесную форму, несущую отпечаток его индивидуального стиля, социально-психологическая характерность речи данного персонажа проявляется и во внутреннем монологе. В качестве примера — небольшой отрывок из «Семьи Тибо» Р. Мартен дю Гара: Антуан Тибо, возвращаясь домой, мысленно подводит итог прошедшего дня:
Et, au fond de la voiture qui le ramenait chez lui, une cigarette aux lèvres, il s'avisa que le petit malade allait vraiment mieux, que sa journée de médecin était terminée, et qu'il se trouvait en excellente disposition.
«J'avoue qu'hier soir je n'étais pas fier. En général, quand l'expectoration cesse aussi brusquement... Pulsus bonus, urina bona, sed aeger moritur 20 ... I1 ne s'agit plus que d'éviter l'endocardite... La mère est encore jolie femme... Paris aussi est bien joli, ce soir...»
Думается, что если бы мы и не знали, что Антуан — молодой врач, по его внутреннему монологу об этом можно было бы догадаться, причем не только по тому, что он думает, но и по тому, какими словами воспроизведены его мысли.
Итак, в художественной литературе даже тогда, когда речь персонажей передается как будто дословно, в форме, предполагающей прямое воспроизведение, фактически мы всегда имеем дело с условным изображением, художественным образом речи, предполагающим отбор и реконструирование характерных ее черт. Ясно, что закономерности художественного отображения чужого слова в творчестве того или иного писателя составляют существенную и неотъемлемую часть авторской «оптики» в целом, одно из проявлений образа автора. Например, тот факт, что проза классицизма полностью игнорирует стилистическое своеобразие речи персонажей, убедительно свидетельствует о ее приверженности к общему, инвариантному, и отсутствии интереса к частному, индивидуальному. С другой стороны, в небывалой до того скрупулезности, с «которой воспроизводится речь рабочих у Золя (в «Западне» и «Жерминале»), четко проявились общие принципы «научной» эстетики автора, его стремление «дать очень точную картину народной жизни с ее грязью, ее слабостями, грубой речью» 21.
§ 99. Несобственно-прямая речь
Между прямой и косвенной речью располагается зона промежуточных форм передачи чужого слова. Не вдаваясь в терминологические тонкости, мы будем называть совокупность этих форм несобственно-прямой речью. В своих типичных проявлениях несобственно-прямая речь сочетает в себе признаки обеих исходных форм: подобно косвенной речи, она транспонирует лицо и время первоначального высказывания, но при этом сохраняет, хотя бы частично, его лексический состав, что свойственно прямой речи. В то же время она отличается от обеих исходных форм тем, что формально не зависит от глагола, называющего речевой, мыслительный или перцептивный акт (т.е. акт восприятия), хотя такой глагол нередко присутствует в левом контексте. В соответствии с этим первая фраза примера 3a из § 96 — A quoi bon se casser la tête, grogna le cochon, puisque ça ne sert à rien — могла бы быть передана в несобственно-прямой речи так:
Le cochon fut d'avis d'abandonner: ce n'était pas la peine de se casser la tête, puisque ça ne servait à rien.
Парадоксальное сочетание признаков прямой и косвенной речи отражает сущность несобственно-прямой речи — «речевую контаминацию автора и персонажа» 22, смешение в одном высказывании двух голосов, двух речевых манер, двух точек зрения 23: транспозиция лица и времени как будто подчиняет первоначальную речь оптике повествователя — «я» субъекта первоначальной речи (персонажа) превращается в «он», а его настоящее — в прошедшее, каковым оно является с точки зрения передающего субъекта; однако коммуникативное содержание первоначального высказывания, присущий ему субъективный отпечаток, не снимается и не объективируется, а хотя бы частично сохраняется в первоначальном виде.
Если прямая речь — это как бы полное перевоплощение автора в героя, игра по системе Станиславского, в результате которой исполнитель в идеале полностью исчезает в персонаже (хотя мы знаем, что на самом деле это не так), если косвенная речь (а тем более скрытая косвенная речь) — это отсутствие всякого перевоплощения, взгляд извне, исчезновение персонажа в повествователе, то несобственно-прямая речь откровенно условная игра, иногда игра лишь намеком, в ходе которой зритель ни на минуту не забывает, что он видит не героя, а исполнителя, который то глубже входит в роль, то выходит из нее и начинает говорить от себя.
Ясно, что такая игра требует высокого уровня литературного артистизма, и, может быть, поэтому несобственно-прямая речь встречается почти исключительно в повествовании типа I.1: психологически маловероятно, чтобы подставной повествователь, как правило нелитератор, был способен использовать этот сугубо литературный прием.
Посмотрим прежде всего, как несобственно-прямая речь используется для передачи звучащей речи. В качестве примера возьмем отрывок из «Воспитания чувств» Флобера:
— Moi, ce que je reproche à Louis-Philippe, c'est d'abandonner les Polonais!
— Un momentl dit Hussonnet. D'abord, la Pologne n'existe pas; c'est une invention de La Fayette! Les Polonais, règle générale, sont tous du faubourg Saint-Marceau, les véritables s'étant noyés avec Poniatowski.
Bref, «il ne donnait plus là-dedans», il était «revenu de tout ça!» C'était comme le serpent de mer, la révocation de l'édit de Nantes et «cette vieille blague de la Saint-Barthélémy!» 24.
Sénécal, sans défendre les Polonais, releva les derniers mots de l'homme de lettres. On avait calomnié les papes, qui, après tout, défendaient le peuple, et il appelait la Ligue «l'aurore de la Démocratie, un grand mouvement égalitaire contre l'individualisme des protestants».
Frédéric était un peu surpris par ces idées. Elles ennuyaient Cisy probablement, car il mit la conversation sur les tableaux vivants du Gymnase, qui attiraient alors beaucoup de monde.
Sénécal s'en affligea. De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire; puis en les voyait étaler un luxe insolent. Aussi approuvait-il les étudiants bavarois qui avaient outragé Lola Montés. A l'instar de Rousseau, il faisait plus de cas de la femme d'un charbonnier que de la maîtresse d'un roi.
Для передачи этого застольного разговора используется прямая речь (1-й и 2-й абзацы), несобственно-прямая речь (3-й, 4-й, и 6-й абзацы), скрытая косвенная речь (начало 4-го, 5-й и начало 6-го абзаца) и особая форма косвенной речи с глаголом appeler (в 4-м абзаце), предполагающая частичное цитирование первоначального высказывания.
Слова одного из собеседников, Юссоне, даются сначала в прямой речи (2-й абзац), а затем происходит смена планов, и продолжение его монолога (3-й абзац) уже не передается полностью, а резюмируется посредством выборочного цитирования с транспозицией лица и глагольного времени; причем кавычки, в принципе не характерные для несобственно-прямой речи, подчеркивают подлинность, дословность передачи употребленных им выражений. В 4-м и 6-м абзацах переход совершается в противоположном направлении: не от прямой, а от скрытой косвенной речи к несобственно-прямой — последняя конкретизирует то, что в предельно обобщенной форме выражено фразами «Sénécall... releva les derniers mots de l'homme de lettres» и «Sénécal s'en affligea». Кавычек здесь уже нет (за исключением самого конца 4-го абзаца, где опять дается цитата); следовательно, сказанное персонажем передается без претензии на дословность. Однако его фразеология сохранена; это особенно четко ощущается в 6-м абзаце: ясно, что фразу «De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire» нельзя приписать повествователю — и содержание, и речевая манера противостоят авторской точке зрения и характерны именно для данного персонажа, Сенекаля, который разыгрывает роль сурового и добродетельного республиканца, социалиста, борца за народ.
Таким образом, несобственно-прямая речь выступает здесь как средство изображения первоначальной речи «средним планом», позволяющее не только кратко изложить ее содержание, но и передать индивидуальный отпечаток, стиль, субъективную интонацию говорящего. Но, будучи включенными в поток речи повествователя (что, в частности, выражается в транспозиции лица и времени) на правах инородного тела, «подлинные» или «приблизительные» слова персонажа подвергаются остранению, пародированию 25, тем более явному, чем больше стилистическая и идеологическая дистанция между ними и авторским голосом. Это пародирование не является абсолютным правилом — в несобственно-прямой речи вполне возможно и сочувственное воспроизведение голоса персонажа. Однако в любом случае между повествователем и персонажем возникает диалог, «не драматический, расчлененный на реплики, а специфический романный диалог, осуществляющийся в пределах внешне монологических конструкций» 26.
§ 100. Несобственно-прямая речь как средство передачи содержания сознания
В этой функции несобственно-прямая речь употребляется существенно чаще, чем для изображения реально произнесенных слов. Проиллюстрируем такое употребление ее отрывком из «Госпожи Бовари», в котором излагаются размышления героини:
Elle se demandait s'il n'y aurait pas eu moyen, par d'autres combinaisons du hasard, de rencontrer un autre homme; et elle cherchait à imaginer quels eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu'elle ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. Il aurait pu être beau, spirituel, distingué, attirant, tels qu'ils étaient, sans doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du couvent. Que faisait-elle maintenant? A la ville, avec le bruit des rues, le bourdonnement des théâtres et les clartés du bal, elles avaient des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur.
Первая фраза отрывка состоит из двух предложений, которые в форме косвенной речи выражают общее направление мыслей Эммы. Здесь доминирует голос повествователя, хотя уже в конце этой фразы возникает как бы намек на ее интонацию: три синтаксически однородные и близкие по семантике именные группы, каждая из которых оформлена указательным прилагательным «се», несут определенный эмоциональный заряд, соответствующий душевному настрою героини. А начиная со следующей фразы преобладает голос Эммы: ее, и только ее точке зрения соответствует, во-первых, номинативное содержание этого куска (мы-то знаем, например, что, по мысли автора, существование бывших подруг Эммы вряд ли сильно отличается от ее собственного), а во-вторых, заключенное в нем чувство. Но слова, которыми все это выражено, не ее или не совсем ее, особенно сравнение в последней фразе. По поводу несобственно-прямой речи у Флобера, и в частности по поводу только что приведенного отрывка, Б.Г. Реизов писал:
«Внутренняя речь» обычно изложена языком автора, в выражениях и образах, недоступных для героя. Только что приведенная “речь” Эммы Бовари является блестящим примером этого. “Они <подруги> живут жизнью, от которой ширится сердце и расцветают чувства” — таких слов для выражения своих мыслей Эмма не могла бы найти: для нее это было бы одновременно и слишком просто и слишком изысканно. Совершенно выпадает из ее возможностей это изумительное сравнение — чердак, выходящий на север, и скука, ткущая свою паутину в покинутом женском сердце. Говорит это не она, но она это чувствует. Флобер излагает своим языком мысль Эммы. Он интерпретирует ее переживания, он говорит то, что она могла бы сказать, если бы обладала всеми ресурсами этого стиля. “Внутренняя речь” дана здесь в переводе на язык автора» 27.
Можно не соглашаться с исследователем в оценке некоторых частностей — так, думается, что выражение «des existences où le cœur se dilate, où les sens s'épanouissent» не так уж несовместимо с речевым кругозором Эммы. Но в целом сущность такого использования несобственно-прямой речи определена очень точно: действительно, здесь имеет место перекодировка потока сознания, перевод его на язык автора, но перевод, верный духу оригинала, психологически убедительный, провоцирующий читательское сопереживание.
В несобственно-прямой речи, передающей содержание сознания героев, соотношение двух голосов — персонажа и повествователя — может меняться в очень широких пределах. Не всякое сближение точки зрения повествователя с точкой зрения персонажа реализуется в форме несобственно-прямой речи. Так, за пределами последней лежит повествование, где оптика персонажа определяет только отбор фабульного материала (так называемый образ непосредственного восприятия), тогда как коммуникативное содержание гипотетического внутреннего монолога полностью устранено. Здесь, очевидно, и проходит граница, отделяющая несобственно-прямую речь от авторского повествования. С другой же стороны, несобственно-прямая речь граничит с внутренним монологом от первого лица. В качестве предельных надо рассматривать смешанные формы, где il время от времени уступает место je (причем фразы с je специально не маркируются кавычками и вводящим глаголом), a irnparfait — présent. Здесь голос персонажа почти заглушает голос повествователя. В следующем примере, заимствованном из романа Сартра «Смерть в душе», Гомец, бывший генерал испанской республиканской армии, читает нью-йоркскую газету, сообщающую о взятии Парижа гитлеровскими войсками:
Tours (de notre correspondant particulier Archambaud): La bataille continue, les Français déclarent que la pression ennemie décroît; lourdes pertes nazies.
Naturellement la pression décroît, elle décroîtra jusqu'au dernier jour et jusqu'au dernier journal français; lourdes pertes, pauvres mots, derniers mots d'espoir qui ne trompent plus personne; lourdes pertes fascistes autour de Tarragone; la pression diminue; Barcelone tiendra... et le lendemain, c'était la fuite éperdue.
Berlin (de notre correspondant particulier Brook Peters): La France a perdu toute son industrie; Montmédy est pris; la ligne Maginot emportée d'assaut; l'ennemi en déroute; chant de gloire, chante cuivré, soleil; ils chantent à Berlin, à Madrid, dans leurs uniformes; Barcelone, Madrid, dans leurs uniformes; Barcelone, Madrid, Valence, Varsovie, Paris; demain Londres. A Tours, des messieurs en veston noir couraient dans les couloirs des hôtels 28. C'est bien fait! C'est bien fait, qu'ils prennent tout, la France, l'Angleterre, qu'ils débarquent à New York, c'est bien fait!
Для Гомеца разгром французской армии и падение Парижа знаменуют собой крах того дела, за которое он боролся, торжество фашизма. Но в то же время он воспринимает поражение Франции как акт исторического возмездия: Франция наказана за так называемую политику невмешательства, которая незадолго до этого обрекла на гибель Испанскую республику и подготовила катастрофу мая — июня 1940 г. Что ж, поделом — c'est bien fait! Но от этого не легче... Столкновение двух противоположно направленных чувств и порождает тот нервный срыв, безмолвную истерику, кульминация которой отражена в приведенном отрывке.
По поводу этого отрывка трудно даже сказать, что это такое — несобственно-прямая речь или внутренний монолог от первого лица, поскольку основной признак, отличающий одно от другого, способ наименования субъекта, здесь отсутствует, сам Гомец в приведенных строках ни разу не назван. Выше, однако, он обозначается формами третьего лица, как в обычной несобственно-прямой речи. Что же касается глагольного времени, то здесь преобладает настоящее, более характерное для прямой речи. Однако во фразе «A Tours, des messieurs en veston noir couraient dans les couloirs des hôtels» — имперфект, хотя действие относится к тому же моменту, что и остальные, данные в настоящем.
По всем же прочим, содержательным признакам — и по номинативному, и по коммуникативному содержанию — отрывок воспринимается как непосредственно воспроизводящий внутренний голос персонажа. Очень характерен, в частности, синтаксис — многократные повторы и недостроенные, грамматически недооформленные конструкции, типичные для аффективной речи 29, точно соответствуют состоянию персонажа. В целом, рассматривая этот отрывок в более широком контексте, его можно квалифицировать как момент наибольшего подчинения голоса повествователя голосу персонажа в рамках несобственно-прямой речи, обусловленный эмоциональным состоянием героя и передающий это состояние.
Итак, несобственно-прямая речь, используемая для передачи содержания сознания персонажей, представляет собой чрезвычайно гибкую, изменчивую форму, где соотношение двух голосов может меняться в диапазоне от еле уловимого намека на интонацию персонажа в авторском повествовании до почти полного перевоплощения повествователя в героя, сопровождающегося частичным переходом несобственно-прямой речи в прямую 30.
§ 101. Несобственно-прямая речь как носитель психологического подтекста
Чем же объяснить то, что несобственно-прямая речь — форма в общем достаточно искусственная, редко встречающаяся вне художественной литературы, — получила такое широкое распространение, причем в первую очередь как средство передачи содержания сознания персонажей, и в общем легко и естественно воспринимается современным читателем?
М.М. Бахтин писал об этом следующее: «Эта форма передачи вносит в беспорядочное и отрывистое течение внутренней речи героя (ведь эту беспорядочность и отрывистость пришлось бы воспроизводить при употреблении формы прямой речи) порядок и стилистическую стройность, и, кроме того, по своим синтаксическим (третье лицо) и основным стилистическим признакам (лексикологическим и другим) эта форма позволяет органически и стройно сочетать чужую внутреннюю речь с авторским контекстом. Но в то же время именно эта форма позволяет сохранить экспрессивную структуру внутренней речи героев и известную, свойственную внутренней речи, недосказанность и зыбкость, что совершенно невозможно при передаче в сухой и логической форме косвенной речи. Эти особенности и делают эту форму наиболее пригодной для передачи внутренних речей героев» 31.
Думается, однако, что дело не только в этом. В отличие от прямой и косвенной речи, где чужое слово четко маркировано и противопоставлено авторскому, несобственно-прямая речь вводит его имплицитно: информация о том, что данное выражение принадлежит персонажу, отражает его точку зрения, а не точку зрения повествователя, заключена в подтексте, и читатель сам должен извлечь ее оттуда.
В § 27–28 было показано, что носителями наиболее богатого и своеобразного имплицитного содержания часто бывают высказывания, характеризующиеся какими-то отклонениями от речевого стандарта. Но несобственно-прямая речь тоже типичная «речевая аномалия», поскольку она нарушает норму авторской речи, вводя в высказывание чужеродные элементы, принадлежащие первоначальному сообщению. Столкнувшись с этими чужеродными элементами, внимательный и достаточно опытный читатель стремится оправдать их появление в тексте — «решить уравнение» (см. § 25). А решить уравнение в данном случае означает вообразить другую, первичную коммуникативную ситуацию, стоящую за той, в которой сам читатель фигурирует на правах адресата. Иначе говоря, надо осознать, что эти чужеродные элементы отражают чужое слово, и понять, чье именно, для чего необходимо представить себе душевное состояние персонажа, восстановить его по словесной или интонационной детали, по скупому намеку. Таким образом, мы снова приходим к уже многократно провозглашенному принципу: целое через часть — вот закон всякого словесного искусства.
Часть, деталь, скупой намек, как правило, эффективнее, чем подробное описание. Применительно к душевному состоянию человека это вдвойне верно, потому что подробно и точно изобразить его «впрямую» все равно нельзя 32; кроме того, несобственно-прямая речь вообще не решает задачу аналитического изображения, ее цель (одна из целей) — вызвать сопереживание (но не только!), для чего нужно оставить определенный простор воображению читателя (известно, что чересчур подробно описывать внешность героини опасно — пусть лучше читатель сам дорисует ее облик в соответствии со своими установками в этой области).
Таким образом, несобственно-прямая речь, с самого начала требуя творческой активности от читателя 33, апеллируя к его жизненному опыту, заставляет его по нескольким словам, по субъективно окрашенной конструкции вообразить и прочувствовать душевное состояние героя. Но одновременно несобственно-прямая речь выражает иной взгляд на мир и на данного персонажа — последний выступает не только как субъект, но и как объект, мы смотрим на него одновременно изнутри и извне. Такая двойная оптика вообще свойственна искусству; но здесь она непосредственно и одновременно реализуется на малом пространстве абзаца или даже одной фразы.
§ 102. Приметы несобственно-прямой речи в тексте
Нет нужды доказывать, что для интерпретации художественного текста умение выделить и правильно истолковать куски, передающие речь или мысль персонажей, имеет первостепенное значение. В несобственно-прямой речи голос персонажа иной раз настолько тесно слит с авторским, что отделить один от другого, порой даже осознать, что та или иная мысль или оценка принадлежит персонажу, а не повествователю (или наоборот), не всегда бывает легко (особенно когда читаешь текст на неродном языке).
Исходя из этих соображений, мы завершим раздел о несобственно-прямой речи перечислением важнейших признаков, которые позволяют выделить эту форму передачи чужого слова из массива авторского повествования. Многие из них уже так или иначе упоминались в предыдущих параграфах, но, очевидно, есть смысл свести сказанное по этому поводу воедино.
I. Внешние признаки. Под внешними признаками имеется в виду грамматическое оформление несобственно-прямой речи (лицо и время), а также композиционные приемы введения ее в авторское повествование. Поскольку первое было достаточно подробно описано в начале § 99, мы остановимся здесь только на втором моменте — способах введения несобственно-прямой речи.
Как было частично отмечено выше, высказыванию или более крупному сегменту текста, несущему несобственно-прямую речь, может предшествовать:
1) авторское высказывание, эксплицитно называющее или описывающее акт речи, мысли, восприятия либо чувство, испытываемое персонажем, в форме скрытой косвенной или косвенной речи (см. примеры из Флобера в § 99 и 100);
2) высказывание, передающее слова или мысль персонажа в форме прямой речи (см. пример из § 99);
3) высказывание, приписывающее персонажу некое действие, имплицирующее акт речи, мысли или восприятия. Так, внутренний монолог Гомеца, часть которого была приведена в § 100, вводится фразой: «Passe-moi le journal, dit-il à Ritchie», после чего дается курсивом цитата из газеты. Очевидно, что просьба была исполнена и Гомец начал читать; в свою очередь процесс чтения предполагает определенные мысли и эмоции по поводу прочитанного.
Эти три случая можно обобщить: несобственно-прямая речь, как правило, требует наличия в поле зрения повествователя и читателя некоего персонажа, который либо говорит, либо думает, либо испытывает какое-то чувство, либо воспринимает какие-то объекты или явления фабульного пространства. Однако наличие такого субъекта еще не свидетельствует о том, что в последующей части текста имеет место несобственно-прямая речь: это почти необходимое, но отнюдь не достаточное условие.
II. Внутренние признаки. Под внутренними признаками имеются в виду некоторые особенности содержания сегмента текста, передающего слова, мысли или чувства персонажа в форме несобственно-прямой речи, а также некоторые типовые средства выражения этого специфического содержания. Если суть несобственно-прямой речи в неполной ассимиляции первоначального высказывания (речевого или мыслительного акта), в частичном сохранении его специфических черт, обусловленных позицией субъекта, то, очевидно, внутренними признаками несобственно-прямой речи и будут эти следы первоначального сообщения, элементы плана выражения и плана содержания, соответствующие не позиции повествователя, а позиции персонажа. Такие признаки могут характеризовать не только коммуникативный, но и номинативный аспект повествования, содержащего несобственно-прямую речь.
1. Признаки, характеризующие номинативное содержание несобственно-прямой речи.
1) Несобственно-прямая речь отражает такие, и только такие элементы фабульного пространства, такие референтные ситуации, которые могут стать предметами речи или сознания персонажа, находящегося в поле зрения автора и читателя.
2) Истолкование этих референтных ситуаций должно соответствовать хотя бы в общих чертах позиции указанного персонажа, т.е. тому, как он может воспринять и интерпретировать их.
Эти признаки характеризуют все приведенные выше примеры несобственно-прямой речи.
Сколько-нибудь исчерпывающий список конкретных примет, по которым мы могли бы судить о том, что истолкование референтной ситуации соответствует позиции персонажа, а не повествователя, вряд ли может быть составлен. Можно, однако, назвать три наиболее часто встречающихся случая:
а. Способ лексической номинации того или иного лица или объекта отражает точку зрения персонажа: On avait sonné. Mme de Fontanin s'élança dans le vestibule; elle voulait ouvrir elle-même. Mais c'était un jeune homme barbu qu'elle ne connaissait pas... Un accident? (Martin du Gard). В речи повествователя этот «бородатый молодой человек» с самого начала романа фигурирует под именем — это хорошо известный читателю Антуан Тибо.
Несколько иное, тоже достаточно частое проявление этой закономерности — оценочные слова, существительные и прилагательные: Mme Chadut... piquait dans un vase plein de sable d'horribles tulipes de plastique rose (Bazin).
b. Утверждение или предположение, содержащееся в высказывании, противоречит тому, что является истинным с точки зрения повествователя и, следовательно, читателя. Так, в последнем примере из «Семьи Тибо» вопрос Un accident? однозначно соответствует точке зрения госпожи де Фонтанен, поскольку нам-то известно, что Даниэль и Жак сбежали из дома.
c. Локализация референтной ситуации или отдельных ее элементов посредством указательных местоимений, указательных прилагательных и наречий места и времени подчиняется позиции персонажа, а не повествователя:
En fin de compte, ce n'avait pas été si terrible (Bazin).
Et quel était ce bruit? Un coup de sifflet à roulettes? (Bazin).
Du fond de sa mémoire, surgissaient, maintenant qu'il était trop tard, des lambeaux de cette confession préparée durant le voyage... (Mauriac).
Il regarda la chaussée avec angoisse et colère. La même catastrophe: là-bas, sur la grasse terre noire, sous la fumée, du sang et des cris; ici, entre les maisonnettes de brique rouge, de la lumière, tout juste de la lumière et des suées (Sartre).
Однако усматривать в любом употреблении cela или ce признак несобственно-прямой речи было бы неправильно: указательные местоимения и прилагательные действительно часто отсылают непосредственно к референтной ситуации 34 и тем самым свидетельствуют о заимствовании точки зрения персонажа, но нередко они обозначают какой-то элемент не ситуации, а левого контекста, и в таком случае могут соответствовать позиции повествователя.
Роль, аналогичную роли указательных прилагательных, могут играть и артикли, определенный и неопределенный, случаи, казалось бы, немотивированного употребления того и другого, которые нередко ставят в тупик преподавателей и студентов, как правило, объясняются заимствованием точки зрения персонажа и отражают его истолкование референтной ситуации. Пример:
Trois heures en France.
«Nous voilà beau», dit le type.
Il restait pétrifié sur son siège. Sarah voyait la sueur ruisseler sur sa nuque; elle entendait la meute des claxons (Sartre).
Этот персонаж появляется здесь в первый раз, и его появление никак не подготовлено; очевидно, что определенный артикль (как и способ номинации) отражает точку зрения другого персонажа, центрального в данном эпизоде. Употребление неопределенного артикля, обусловленное позицией персонажа, может быть проиллюстрировано примером из «Семьи Тибо» (пункт «а») — ип jeune homme barbu.
2. Признаки, характеризующие коммуникативное содержание несобственно-прямой речи и средства его выражения.
В принципе субъективная точка зрения персонажа, не ассимилированная точкой зрения повествователя, может отразиться в любом аспекте коммуникативного содержания отрезка, содержащего несобственно-прямую речь (об аспектах коммуникативного содержания высказывания см. § 12–15). В соответствии с этим конкретные приметы субъективной точки зрения персонажа могут быть обнаружены как в стиле этого отрезка, так и в специфических средствах эксплицитного выражения коммуникативного содержания (таких, например, как модальные слова). Мы перечислим их именно в таком порядке.
1) Стилистические приметы несобственно-прямой речи.
Общий признак может быть сформулирован так: несобственно-прямая речь характеризуется (хотя и необязательно) наличием таких стилистически маркированных элементов, которые могут быть соотнесены с субъектом первоначальной речи и с занимаемой им позицией. На практике стилистические приметы несобственно-прямой речи — это более или менее явные отклонения от общей стилистической нормы повествования, присущей данной эпохе и данному жанру, во-первых, и от внутренней стилевой нормы авторского повествования, во-вторых.
Стилистические сигналы несобственно-прямой речи бывают в основном трех типов:
a. Слова, выражения, формы, конструкции, обладающие явным социально-жанровым компонентом стилистического значения, соотносимым со статусом и позицией персонажа. Таковыми чаще всего бывают фамильярные и просторечные выражения, а также арготизмы, диалектизмы и т.п. Например: Non, décidément, il ne lui était pas possible de se présenter devant le chien du commissaire ou devant l'un de ses suppléants. C'était trop risqué (Bazin). Chien du commissaire (арго) — секретарь комиссариата полиции; персонаж, чьи размышления воспроизводит это высказывание, — вор.
b. Слова, выражения, обороты речи, типичные для определенной идеологической, философской, политической, эстетической и т.п. позиции — той, которую занимает персонаж. См. пример, приведенный в § 99, в частности 6-й абзац отрывка («...De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire...»), и комментарий к нему.
c. Синтаксические конструкции, а также лексические единицы, типичные для эмоциональной речи и соотносимые по этому признаку с душевным состоянием персонажа. См. пример из Сартра, приведенный в § 100, и комментарий к нему.
2) Приметы несобственно-прямой речи, связанные с целенаправленностью первоначального высказывания.
Общий принцип здесь тот же: несобственно-прямую речь сигнализируют высказывания, обладающие такой целенаправленностью, которая невозможна или маловероятна в речи повествователя. Из них наибольшее распространение, особенно при передаче содержания сознания, имеют вопросительные предложения. См. примеры к пунктам II. l.a и II.1.с, а также первый пример из § 99.
3) Приметы несобственно-прямой речи, связанные с модальностью первоначального высказывания.
Формальными сигналами модальности, соответствующей позиции персонажа (а не повествователя), чаще всего выступают:
a. слова-предложения oui и non, соотносимые, как правило, с ситуацией и субъектом первичного высказывания, а не авторского повествования, поскольку они суть формы диалога (хотя бы внутреннего, скрытого); см. пример к пункту II.2. 1а;
b. модальные глаголы (devoir, pouvoir), грамматическим субъектом которых является не субъект предполагаемой первоначальной речи, а какой-то иной компонент референтной ситуации; например: Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée de malheur (Aragon);
c. модальные наречия (peut-être, sans doute, certainement, pro-bablement и др.), выражающие оценку достоверности сообщаемого факта субъектом первоначальной речи; см. пример к пункту II. 2. 1а;
d. субъективно-оценочные по своему значению выражения, подчиняющие себе придаточное: (c'est) dommage que..., le pire, c'était..., une veine que... и т.п.; например: Une déveine tout de même que cette permission ne fût pas arrivée quinze jours plus tôt (Aragon);
e. модальные наречия и междометия, выражающие субъективное отношение говорящего к сообщаемому факту: heureusement, malheureusement, par bonheur, hélas и т.д.; например: il fallait descendre au plus vite et sans se faire remarquer. Par chance, il у avait à vingt mètres un autre escalier... (Sartre);
f. наречия типа même, seulement, encore, déjà, enfin, plutôt и др., несущие «модальную рамку» (см. выше, § 12); например: Zeber l'a enfin laissé seul. Il ôte sa veste, desserre le nœud de sa cravate (Nourissier).
Этот формальный признак соотнесенности модальности высказывания с позицией персонажа является, по-видимому, наименее достоверным, так как такого рода наречия достаточно часто отражают и авторское отношение к описываемой ситуации.
Конечно, и предыдущие пять формальных сигналов субъективной модальности могут в принципе отражать точку зрения повествователя а не персонажа; однако для позиции повествователя неуверенность в сообщаемом факте или явно выражаемая его оценка в общем не характерны. Тем не менее, поскольку нормы авторского повествования все же достаточно разнообразны (особенно в новейшей литературе), во всех указанных в пункте 3 случаях полезно прибегнуть к проверке. Для этого надо перифразировать высказывание таким образом, чтобы содержащееся в нем модальное отношение воплотилось в соответствующем по значению глаголе, превратив его таким образом в косвенную речь. И если контекст и фабульная ситуация свободно допускают употребление в качестве субъекта этого глагола имени персонажа, значит, модальность исходной формы отражает позицию последнего, а сама фраза представляет собой несобственно-прямую речь; например: Une déveine tout de même que cette permission ne fût pas arrivée quinze jours plus tôt → Cependant, Raoul regrettait que cette permission ne fût pas arrivée plus tôt. Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse → Aurétien supposait que Césarée était une ville aux voies larges, très vide et silencieuse.
Как явствует из примеров, большинство из названных признаков не являются обязательными. Абсолютно необходимыми можно считать лишь два общих признака, характеризующих номинативное содержание несобственно-прямой речи и заключающихся в том, что несобственно-прямая речь отражает лишь те референтные ситуации, которые могут быть предметом речи или сознания персонажа, и истолковывает их так, как их мог бы истолковать сам персонаж, а не повествователь. Однако, будучи необходимыми, они не являются достаточными, поскольку определяют более общее явление — сближение точки зрения повествователя с точкой зрения персонажа.
Очевидно, для того чтобы какой-то сегмент текста был воспринят как несобственно-прямая речь, необходимо и достаточно:
— чтобы в поле зрения повествователя и читателя находился какой-то персонаж, включенный в определенную фабульную ситуацию, — потенциальный субъект речевого или мыслительного акта;
— чтобы номинативное содержание отрывка потенциально соответствовало тому, что этот персонаж может сказать, подумать или почувствовать;
— чтобы в данном отрывке присутствовала хотя бы одна из названных выше конкретных примет несобственно-прямой речи.
§ 103. Неканонические формы введения чужого слова.
Субъективно окрашенная косвенная речь
Кроме «чистых» форм введения чужого слова, которые были рассмотрены выше, в текстах можно встретить немало случаев, которые не укладываются или не вполне укладываются в схему «прямая речь — косвенная речь — несобственно-прямая речь». Наиболее частыми являются два типа отклонений (если вообще их можно считать таковыми): 1) косвенная или скрытая косвенная речь, сохраняющая своеобразие первоначального высказывания, и 2) внешне немотивированное или не вполне мотивированное введение чужого слова в авторскую речь.
Сначала коротко о первом. Пример такой косвенной речи (или несобственно-прямой речи, оформленной как косвенная) — начало отрывка из «Госпожи Бовари» — уже был приведен в § 98. У Флобера это вообще довольно частое явление:
Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles, où ne parviennent jamais les cœurs médiocres.
Elle songeait quelquefois que c étaient là pourtant les plus beaux jours de sa vie, la lune de miel, comme on disait.
Очень яркий пример такого типа имеется в рассказе Мопассана «В полях»:
... la mère Tuvache les agonisait d'ignominies, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie.
Подобные построения нередки и у других писателей:
Mais, ce soir, Bernard avait le sentiment de sa force... Il admirait qu'aucune difficulté ne résiste à un esprit droit et qui raisonne juste (Mauriac).
Gomez pensa aux matins secs et tragiques de Madrid, à cette noble lumière, au-dessus d'AIcala, qui était encore de l'espoir... (Sartre).
В таких конструкциях заложено внутреннее противоречие: мыслительный или, реже, речевой акт, названный словом передающего субъекта (повествователя), задает взгляд со стороны на думающего или говорящего персонажа, в то время как содержание мысли (речи), переданное в придаточном предложении, не освобождено от своей субъективной оболочки. Так, например, более или менее последовательный перевод последнего примера в регистр авторской речи должен был бы дать примерно следующее: Gomez pensa aux matins de Madrid et à la lumière qui s'élevait au-dessus d'Alcala. Cette lumière signifiait pour lui que tout espoir n'était pas encore perdu, malgré le tragique des événements.
Нет нужды доказывать, что в результате такой перестройки фраза почти полностью теряет свою экспрессию, свой личный тон — мысль и чувство отчуждаются от своего субъекта.
В приведенных примерах указанная противоречивость ощущается не более чем в обычной несобственно-прямой речи, каковая, как было показано в предыдущих параграфах, противоречива по самой своей природе. Однако подобное рассогласование между подчиняющей и подчиненной частью высказывания, между синтаксисом и лексикой (а также стилем), может быть специально подчеркнуто:
... le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, messieurs les Jurés. Il disait qu'à la vérité, je n'en avais point, d'âme, et que rien d'humain, et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible (Camus).
Такое невиданное сочетание в одном предложении типичных признаков косвенной и прямой речи (включая даже обращение!) служит остранению и дискредитации того стиля, который воспроизводится в придаточном, и тем самым стоящего за ним идеологического кругозора. Пародийный эффект усугубляется в данном случае тем, что повествователь является в то же время предметом первоначальной речи — персонаж (прокурор) говорит о рассказчике, которого судят.
§ 104. Немотивированное многоголосие
Второй тип отклонений от обычных форм введения чужого слова — введение его в авторскую речь без явной фабульной мотивировки — это прежде всего разновидность несобственно-прямой речи, характеризующаяся тем, что первое из трех условий, сформулированных в конце § 102, не соблюдено или соблюдено не полностью: в поле зрения повествователя и читателя нет конкретного субъекта, которому можно было бы приписать выражение, не согласующееся с позицией повествователя; или же, если потенциальный субъект чужого слова есть, последнее не приурочено к конкретному моменту фабульного времени и конкретной точке фабульного пространства, т.е. неизвестно, когда и где данный субъект подумал или сказал это, и подумал ли (сказал ли) он это вообще или только мог подумать либо сказать.
Один из частых случаев такого рода — характеристика персонажа или его поведения, данная как будто повествователем, но частично отражающая взгляд персонажа на самого себя:
Hippolyte Cérès, tolérant mais libre penseur, n'admettait que le mariage civil (Anatole France).
Mademoiselle Clarence se plaça au côté de sa mère, devant le vicomte Cléna, et elle "se tint longtemps agenouillée sur son prie-Dieu, car l'attitude de la prière est naturelle aux vierges sages et fait valoir les formes (Anatole France).
Во втором примере выделенный сегмент воспроизводит то, что она сама могла бы сказать о мотивах своего поведения; это, если так можно выразиться, лицемерное слово персонажа; а второе сказуемое этого же предложения с его дополнением отражает истинный мотив — то, что она на самом деле думала.
Другой случай — воображаемый монолог персонажа, не приуроченный ни к какому конкретному моменту его существования и как бы обобщающий его взгляд на ту или иную ситуацию или проблему. Вот, например, как начинается роман Арагона «Базельские колокола»:
Cela ne fit rire personne quand Guy appela M. Romanet Papa. C'était avant le dîner, près des capucines, autour de la petite table peinte où l'on voyait un pêcheur de crevettes jouant aux billes avec un montreur d'ours, qu'un artiste, Danois paraît-il (comme le chien de la villa verte), avait décorée pour payer sa note ou finir de payer sa note, c'est toujours ça. Pourtant tout le monde avait ri quand le bébé des dames à carreaux avait dit Papa au patron de l'hôtel, qui ressemblait au montreur d'ours, seulement avec une moustache, et des yeux tout à fait différents. Personne n'était très sûr, il faut dire, de ne pas se fourvoyer un peu, parlant avec son voisin, Cela prend toujours un diable de temps en villégiature de savoir qui est qui, et les messieurs surtout: au bord de la mer ils ne sont pas si communs qu'à la ville, après, quand on les rencontre.
Совершенно очевидно, что эта речь отражает точку зрения человека, который сам принадлежит к описываемому пространству, — это вытекает прежде всего из способа номинации людей и объектов. Из этого же, а также из общего характера номинативного содержания (и в том, и в другом отношении особенно характерна последняя фраза) можно сделать также вывод, что «первоначальный субъект» — женщина; более того, можно предположить, что у нее есть ребенок и что она воспитывает его одна (отсюда внимание к тому, чей ребенок кого назвал папой). Так выясняется, между прочим, что несобственно-прямая речь, как и прямая речь персонажа, может нести достаточно богатую и разнообразную информацию о субъекте, если мы таковой не располагаем.
Можно было бы предположить, что вообще все повествование будет вестись от лица героя (или героини?). Но на следующей странице выясняется, что все это — воображаемый внутренний монолог героини романа, Дианы де Нетанкур, в будущем Дианы Брюнель, которая действительно в данный момент не замужем и имеет сына Ги.
Третий случай: несобственно-прямая речь отражает взгляд целой группы людей, более или менее четко очерченной.
Классический пример такого построения мы находим в главе VII романа Золя «Западня», где торжественный обед в честь дня рождения героини — прачки Жервезы — почти целиком описан так, как его воспринимали хозяева и гости, не столько те или иные конкретные персонажи, сколько «общество» в целом. Мы приведем лишь короткий отрывок из длинного — в несколько страниц — текста:
La société, lancée, n'avait plus honte de se montrer à table; au contraire, ça la flattait et réchauffait, ce monde attroupé, béant de gourmandise: elle aurait voulu enfoncer la devanture, pousser le couvert jusqu'à la chaussée, se payer là le dessert, sous le nez du public, dans le branle du pavé. On n'était pas dégoûtant à voir, n'est-ce pas? Alors, on n'avait pas besoin de s'enfermer comme des égoïstes.
В этом отрывке легко обнаружить прежде всего несколько фамильярных и просторечных элементов, характерных для изображаемого социального пространства: ça, se payer (в значении 's'offrir' или 'prendre'), sous le nez de qn, on (в значении 'nous'); кроме того, две последние фразы как бы непосредственно воспроизводят сам ход рассуждения, саму интонацию пирующих. Все это вместе взятое и создает впечатление, что мы слышим их коллективный голос.
Последний из тех, что мы назовем, и наиболее трудный для восприятия случай — это никак не мотивированное с точки зрения фабульного действия введение чужого слова, отражающего чуждую идеологическую позицию, с целью его дискредитации. Такая смена голоса внутри авторского повествования нередко встречается в творчестве Анатоля Франса, в частности в «Острове пингвинов» 35:
Les plus anciens de ces rois ont laissé seulement un nom. Encore ne savons-nous ni le prononcer ni l'écrire. Le premier Draconide dont on connaisse l'histoire est Brian le Pieux, estimé pour sa ruse et son courage aux guerres et dans les chasses.
Il était chrétien, aimait les lettres et favorisait les hommes voués à la vie monastique. Dans la salie de son palais où, sous les solives enfumées, pendaient les têtes, les ramures et les cornes des bêtes sauvages, il donnait des festins auxquels étaient conviés tous les joueurs de harpe d'Alca et des îles voisines, et il y chantait lui-même les louanges des héros. Equitable et magnanime, mais enflammé d’un ardent amour de la gloire, il ne pouvait s'empêcher de mettre à mort ceux qui avaient mieux chanté que lui.
Выделенные сегменты отрывка — традиционные формулы, как будто вырванные из учебника по истории для начальной школы, — контрастируют с его началом, где господствует простое слово. Здесь соединены два голоса, две манеры, два стиля: собственно авторский и пародируемый автором апологетический стиль официальной историографии, националистической и клерикальной по своему духу, которая стремится представить в благоприятном свете даже самые неприглядные факты отечественной истории. Возвышающие перифразы, характерные для этого стиля, дискредитируются путем выявления того, что на самом деле скрывается за ними, как в последней фразе этого отрывка: «справедливый и великодушный король» на самом деле оказывается деспотом и варваром, причем последнее сообщается в той же фразе и тем же стилем: не просто il tuait ceux qui avait mieux chanté que lui, a il ne pouvait s'empêcher de mettre à mort ceux qui avaient mieux chanté que lui. Выражаясь словами Л.Н. Толстого, автор как бы смеется над теми, «кто бы и в самом деле так говорил».
Чужое слово, восходящее к неопределенному адресанту, иногда вводится в повествование и в форме прямой речи:
Ses répits, il les trouvait naguère dans l'abrutissement des barbituriques, nuits d'encre, bénies, qu'il lui semblait traverser sans un rêve. Ou bien au volant, suivant à travers la ville des itinéraires aberrants, son corps occupé à la mécanique des gestes et laissant le vide, lentement, le noyer. Ce qu'ils appellent: Réfléchir. Moi, si quelque chose me préoccupe, mon cher, hop, la voiture et un tour au hasard, rien de tel pour réfléchir. Non: le vide. C'était une aubaine après la crispation de ses comédies. Il se dénouait (Nourissier, La Crève).
Повествование в этом отрывке представляет собой приближенную к авторскому слову несобственно-прямую речь, воспроизводящую содержание сознания центрального персонажа. Однако фраза «Moi, si quelque chose me préoccupe...» — это вовсе не слова героя, а воображенные им (или повествователем?) слова одного из бесчисленного множества тех, кто обозначен местоимением ils, — людей «нормальных», устроенных, чувствующих себя вполне комфортабельно в мире, в противоположность герою, который выбился из колеи.
Еще один пример, на этот раз из Арагона, для которого этот прием вообще очень характерен:
La pluie intermittente n'empêche pas le public de cerner le palais, comme des mouches attirées par la chair décomposée. La foule s'est un peu apaisée à sept heures, quand on a eu la bonne idée de renvoyer les voitures. Il n'y aura rien de toute façon avant neuf heures: un petit groupe de mousquetaires et de garde du corps reste de garde, les autres, qu'ils aillent dîner dans les restaurants du quartier! Ne vous éloignez pas trop, de toute façon, nous autres, nous ferons mouvement ce soir (La Semaine sainte).
Здесь примерно та же стилистическая композиция, что и в предыдущем примере: прямая речь, воспроизводящая неизвестно чьи слова, вклинивается в несобственно-прямую речь, отражающую поток сознания героя. Разница же в том, что там за прямой речью стоял некий обобщенный субъект, а здесь, по всей видимости, конкретное, но неназванное лицо, вероятно, офицер полка, в котором служит герой — Теодор Жерико.
Введение в повествование контрастирующих друг с другом чужих слов — в форме ли прямой или несобственно-прямой речи, явной или скрытой, либо в форме немотивированных включений, как в приведенных выше примерах из Анатоля Франса, — в некоторых текстах практикуется настолько часто, что само повествование становится принципиально разностильным. Именно это имеет место в «Острове пингвинов». Художественный смысл такого повествования в творчестве Анатоля Франса, для которого оно особенно характерно, — столкновение различных идеологических кругозоров, полемика, борьба с традиционной возвышающей фразеологией, стремление освободить простую истину от многовековых наслоений красивой лжи. В других текстах, систематически практикующих многоголосие (например, у Арагона), такой постоянной пародийной установки может и не быть. Но суть, структурный инвариант художественного смысла остается тем же: со-противопоставление частных позиций, стоящих за стилем, в результате которого, как мы уже говорили в § 92, возникает более глубокое и многостороннее познание объекта, а сами эти позиции вовлекаются в круг изображаемых явлений и подвергаются авторскому суду.
§ 105. Сказ как особый вид повествования от лица персонажа
До сих пор мы рассматривали, как передается мысль и речь персонажей, не являющихся повествователями. Перейдем теперь к стилистическим закономерностям повествования от лица персонажа (тип. II.2) и от лица подставного автора (тип. II.1).
Повествование от лица персонажа формально представляет собой прямую речь — устный рассказ или письменный текст (дневник, мемуары и т.п.), в котором повествователь говорит от своего лица. В синтаксическом плане такое повествование действительно подчиняется нормам прямой речи — говорящий или пишущий субъект обозначается местоимением первого лица (хотя бывают и исключения, когда повествование от персонажа как бы маскируется под безличное 36). Однако в плане стилистическом повествование типа II.2 (по крайней мере, во французской литературе), как правило, ближе к авторскому слову, чем к диалогам персонажей: речь рассказчика, даже если она мотивируется как устный рассказ, передается еще более условно, чем диалоги действующих лиц. По выражению В.В. Виноградова, «диалог крепче скован узами бытового правдоподобия» 37, чем речь вымышленного рассказчика.
В литературоведении и в стилистике художественной речи широко распространен термин «сказ». Под сказом понимается «особый тип повествования, строящегося как рассказ некоего отдаленного от автора лица (конкретно поименованного или подразумеваемого), обладающего собственной речевой манерой» 38. Этот термин применяется главным образом к повествованию, имитирующему «непрофессиональный», в первую очередь устный рассказ. Таким образом, сказ в первом, широком смысле слова — это не что иное, как наше повествование типа II. 2, в котором точка зрения повествователя определяет не только «оптику», но и стиль.
В каком бы из двух смыслов, широком или узком, мы ни брали это понятие, между русской и французской литературой в использовании сказового повествования обнаруживается значительное различие: в русской литературе сказ возникает раньше и имеет более разнообразные формы и значительно более широкое распространение, чем во французской. Уже в первой половине XIX в. русская литература знает такие образцы сказа, как «Капитанская дочка» Пушкина, «Бэла» Лермонтова и некоторые ранние новеллы Гоголя, где и манера повествования, и стиль обусловлены социально и характеристически: Пушкин тонко и ненавязчиво имитирует мемуарный слог XVIII в., в котором отражается одновременно и личность героя-повествователя — «среднего разума дворянина Петра Гринева» 39, Лермонтов создает убедительный образ речи скромного армейского штабс-капитана, обусловленный социально и психологически, а у Гоголя отчетливо звучит голос «простонародного» рассказчика — «дьячка ***ской церкви», которому приписывается повествование в «Вечере накануне Ивана Купала», «Пропавшей грамоте» и «Заколдованном месте».
Во французской литературе XIX в. до начала 80-х гг. ничего подобного нет. Повествование от лица фиктивного рассказчика достаточно распространенный прием; однако в подавляющем большинстве построенных таким образом текстов личность повествователя, его точка зрения в лучшем случае определяет отбор материала и его освещение, но не стиль: адвокат Дервиль (рассказчик в «Гобсеке») изъясняется тем же слогом, что и сам Бальзак; Октав, герой и повествователь в «Исповеди сына века» — «стилистический двойник» самого Мюссе; лишена стилистического своеобразия речь рассказчика во «Взятии редута» Мериме, а слог приговоренного к казни у Гюго («Le dernier jour d'un condamné») настолько лишен социальной определенности (впрочем, не только слог), что о герое решительно ничего нельзя сказать, кроме того, что это человек крайне чувствительный. Малоубедительны в стилистическом плане «демократические» рассказчики у Доде (в таких его новеллах, как «Битва на кладбище Пер-Лашез» и «Монолог на корабле»). Даже бесчисленные повествователи у Мопассана в той мере, в какой они принадлежат к тому же социальному кругу, что и автор, не отличаются по стилю друг от друга и лишь минимально — от автора. Однако у Мопассана же имеются образцы и подлинного сказа, имитирующего устную речь людей из народа. В совершенно ином ключе выдержано сказовое повествование в форме дневника героя, ученого-палеографа, в романе Анатоля Франса «Преступление Сильвестра Боннара», вышедшем в свет примерно в то же время, в начале 80-х гг. Но одним из первых, если не самым первым, был Мериме, который за сорок лет до этого дал в «Кармен» очень интересный и тонкий, хотя и весьма условный, «портрет» речи дона Хосе. Некоторые из этих образцов сказа мы рассмотрим в следующем параграфе.
§ 106. Стилистика сказового повествования
В принципе воспроизведение звучащего слова в литературе следует оценивать по нескольким параметрам, соответствующим основным компонентам стиля, в первую очередь по тому, как передаются общие свойства устной спонтанной речи, а также социальная окрашенность речи рассказчика или персонажа (об этом уже упоминалось в параграфе, посвященном использованию прямой речи для передачи диалогов). Говоря о сказе, надо добавить еще один аспект: ориентированность на партнера, поскольку невозможно представить себе устный рассказ, не обращенный к кому-то. Именно поэтому в повествование типа II.2 так часто вводится фигура адресата (или адресатов), нередко почти бессловесная, но важная для мотивировки рассказывания и для определения коммуникативной ситуации.
Рассмотрим несколько примеров, начиная с Мериме:
Deux ou trois heures après, j'y pensais encore, quand arrive dans le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous dit que, dans la grande salle des cigares, il y avait une femme assassinée, et qu'il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de prendre deux hommes et d'y aller voir. Je prends mes hommes et je monte. Figurez-vous, monsieur, qu'entré dans la salle je trouve d'abord trois cents femmes en chemise, ou peu s'en faut, toutes criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu tonner. D'un côté, il y en avait une les quatre fers en l'air, couverte de sang, avec un X sur la figure qu'on venait de lui marquer en deux coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les meilleures de la bande, je vois Carmen tenue par cinq ou six commères. La femme blessée criait: «Confession! confession! je suis morte!» Carmen ne disait rien: elle serrait les dents, et roulait des yeux comme un caméléon.
Как показывает этот отрывок, последний из названных выше аспектов сказа — ориентированность на адресата — представлен у Мериме вполне явно; в специальном исследовании можно было бы показать, что дело здесь не только в наличии обращений типа Figurez-vous, monsieur, но и в том, что сам момент рассказа не выпадает из поля зрения читателя — Хосе периодически возвращается из прошлого в настоящее, оценивает прошлое с точки зрения настоящего.
Посмотрим, как обстоит дело с другими аспектами.
Согласно фабуле повести, Хосе рассказывает свою историю, естественно, по-испански; кроме того, его рассказ дается не прямо, а в переложении повествователя-француза. Однако, несмотря на такую, в сущности, двойную перекодировку, его речи придано совершенно определенное стилистическое своеобразие — стиль как будто вполне согласуется с личностью рассказчика.
В создании этого своеобразного колорита важную, но не решающую роль играет стилистически маркированная лексика: во-первых, иноязычные включения — испанские слова (такие, как don, gitanilla, manzanilla, cuarto, duro и т.п.) и калькируемые фразеологические обороты, а также баскские и цыганские выражения (последние главным образом в речи Кармен). Эти в общем немногочисленные элементы придают речи Хосе необходимый национальный колорит. Социальная же ее маркированность обеспечивается фамильярными и просторечными элементами. В приведенном отрывке имеется один неявный испанизм — сравнение comme un caméléon (во Франции хамелеонов нет, а в Южной Испании их много) — и несколько стилистически сниженных выражений: ne pas entendre Dieu tonner, les quatre fers en l'air (в применении к человеку, а не к лошади), bande (применительно к данной референтной ситуации) и commères. Как видим, вторых существенно больше, чем первых, но и они в общем немногочисленны: можно найти целые страницы текста без единого фамильярного слова.
Не менее важен здесь общий лексический фон: в рассказе Хосе нет ни одного слова, стилистическое значение которого противоречило бы заданной тональности и не вязалось бы с образом повествователя, задаваемым как стилем, так и другими уровнями текста. Это же, хотя и с некоторыми оговорками, можно сказать о синтаксисе: явно нелитературных конструкций в нем нет, как нет и «речевого брака», присущего спонтанной речи; однако, по тогдашним представлениям, в нем нет и ничего такого, что бы решительно противоречило заданному стилю 40, — синтаксис рассказа Хосе подчеркнуто прост.
Иначе говоря, стилистическое своеобразие, противопоставленность речи Хосе литературной повествовательной норме той эпохи достигаются не столько введением нелитературных или не вполне литературных элементов, сколько отсутствием непременных атрибутов художественного повествования, вообще «изящного слога». Эта подчеркнутая простота воспринимается особенно остро по контрасту с изысканной речью повествователя-француза — закон со-противопоставления, о котором мы уже много говорили применительно к «Кармен», определяет и восприятие стиля.
Так скупыми языковыми средствами создается достаточно условный, но в целом психологически убедительный сказ. Такая установка хорошо согласуется с художественной манерой Мериме в целом, для которой характерны сдержанность, недосказанность, намек. Однако не следует думать, что он один поступает таким образом: изложенная техника построения сказа может рассматриваться как общий принцип создания художественного образа чужого стиля, так называемой стилизации (см. § 108).
Очевидно, что сам этот принцип выборочного и условного отражения особенностей стиля есть всего лишь одно из конкретных проявлений общего закона искусства: целое через часть.
Возьмем теперь два примера из Мопассана: первый из рассказа «Омут», а второй из рассказа «Знак».
1. «Ici, m'sieu l'président, il faut que j'entre dans le détail.
«Y avait cinq minutes que nous étions là quand la ligne du voisin s'met à plonger deux fois, trois fois; et puis voilà qu'il en amène un, de chevesne, gros comme ma cuisse, un peu moins p't-être, mais presque! Moi, le cœur me bat; j'ai une sueur aux tempes, et Mélie qui me dit: «Hein, pochard, l'as-tu vu, celui-là?»
«Sur ces entrefaites, M. Bru, l'épicier de Poissy, un amateur de goujon, lui, passe en barque et me crie: «On vous a pris votre endroit, monsieur Renard?» Je lui réponds: «Oui, monsieur Bru, il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages.»
2. Et voilà la pendule qui se met à sonner cinq heures, et Raoul rentre tous les jours à cinq heures et demie! S'il revenait avant que l'autre fût parti, songe donc! Alors... alors... j'ai perdu la tête... tout à fait... j'ai pensé... j'ai pensé... que... que le mieux... était de... de... de... me débarrasser de cet homme le... le plus vite possible... Plus tôt ce serait fini... tu comprends. ... et... et voilà... voilà... puisqu'il fallait... et il le fallait, ma chère ... il ne serait pas parti sans ça... Donc, j'ai... j'ai ... j'ai mis le verrou à la porte du salon... Voilà.
Сразу бросается в глаза, что условность воспроизведения устного рассказа в обоих примерах неизмеримо меньше, чем у Мериме — особенности речи того и другого персонажа воспроизводятся гораздо полнее. В первом примере говорящий — мелкий торговец, который выступает в качестве обвиняемого в суде присяжных. Его речь очень четко окрашена социально и эмоционально; имитируется главным образом «простонародное» произношение и разговорный синтаксис. Во втором примере некая баронесса (молодая женщина) рассказывает своей подруге (маркизе) одно из своих галантных похождений. Здесь социальной окраски практически нет, если не считать того, что ее рассказ несет такой характерный отпечаток женской речи, как эвфемистичность — мужчина в аналогичной ситуации скорее всего назвал бы вещи своими именами. Однако очень тщательно воспроизводится психологическая специфика речи, которая внешне проявляется в непрерывных паузах колебания и повторах, что вообще свойственно спонтанному говорению, а здесь «обозначает» замешательство, смущение персонажа.
Точность и полнота воспроизведения первоначальной речи в обоих случаях связаны с двумя обстоятельствами: 1) и там, и здесь субъект является носителем статуса, в определенном отношении противоположного статусу автора и его потенциальных читателей 41 (Мопассан — это все-таки в основном писатель для мужчин); 2) и там, и здесь текст представляет собой случай, переходный от диалогизированного повествования типа I.1 к повествованию типа II.2; а диалоги персонажей Мопассан воспроизводит, как правило, очень скрупулезно.
Вообще, как неоднократно отмечалось, характерность речи в сказе тем ярче, чем рельефнее обрисован говорящий персонаж. «Образ субъекта, повествователя «определяет», вставляет в более или менее строгие социально-характеристические рамки сказовую структуру, когда осуществлен акт его именования» 42 — писал по этому поводу академик В.В. Виноградов. Видимо, обобщая, можно сказать: речевое своеобразие в сказе тем сильнее, чем полнее и точнее охарактеризован коммуникативный акт со всеми его параметрами: кто, кому, где, когда, зачем и как это рассказывает. Эта формула объясняет и большую условность сказа по сравнению с диалогом: коммуникативная рамка диалога, как правило, четче очерчена, чем коммуникативная рамка сказа.
§ 107. Надо ли стремиться к максимальной точности в передаче чужого слова?
Можно ли считать, что чем меньше условность сказа, тем лучше? Думается, что нет. Во-первых, как уже говорилось, нельзя оценивать ту или иную литературную технику вообще, безотносительно к тому, зачем и как она применяется, а также — что очень важно — в отрыве от историко-литературного контекста. Художественный эффект — это всегда отношение: отношение употребленного слова, образа, композиционного приема и т.п. как к своему контексту и фабульному референту, так и к общепринятым нормам. Во втором примере из Мопассана паузы и повторы, которые вообще свойственны спонтанной речи, воспринимаются как знаки особого психического состояния героини не сами по себе, а на фоне ее же речи в предыдущей части рассказа, где этих явлений нет или почти нет — рассказывая о начале своего похождения, она говорит «правильно», — а также на фоне общей стилистической нормы, которой подчиняется в эту эпоху повествование от лица персонажа. Иначе говоря, значимость этих особенностей ее речи в кульминационный момент рассказа обусловлена не только и не столько их собственным коннотативным значением, сколько противопоставленностью содержащего их куска контексту: с одной стороны, мы фиксируем изменения в стиле ее речи, а с другой — догадываемся, какие чувства она может испытывать, и ассоциируем одно с другим, тем более что эти свойства спонтанной речи действительно усиливаются и становятся более заметными в ситуации внутреннего конфликта.
Таким образом, в данном отрезке данного текста «фотографичность» воспроизведения речи художественно оправдана — это стилистическая деталь, которая наглядно демонстрирует состояние героини. А теперь представим себе, что передача постоянных свойств спонтанного говорения стала нормой в литературе и что в предыдущей части новеллы точно воспроизведены все паузы колебания и прочие шероховатости, присущие почти любому неподготовленному устному рассказу; ясно, что приведенный нами отрывок немедленно потерял бы свою психологическую значимость, растворившись в контексте, получилось бы, что и в этот особо щекотливый момент она говорит, как говорила раньше.
Обобщим сказанное. В сфере воспроизведения чужого слова, и в частности в сказе, чрезмерное сближение с «натурой» — реальной, живой речью — лишает художника свободы маневра, т.е. возможности отбирать типичное, наиболее важное, оставляя в стороне несущественное. Добиваться фотографической точности при воспроизведении речи — это, во-первых, накладно и ненужно, как накладно и ненужно тащить на сцену настоящие деревья, чтобы изобразить лес; это, во-вторых, вредно, если добиваться точности ради точности, а не для достижения тех или иных художественных эффектов. Но последнее возможно лишь при условии, что у художника остается свобода выбора. Условность — не неизбежное зло, а непреложный закон искусства и непременное условие его существования. При передаче речи ее, теоретически рассуждая, можно было бы и избежать, но здесь бы и пришел конец искусству речевого портрета.
§ 108. Стилизация как основная форма повествования от подставного автора
Основные стилистические закономерности и тенденции, характеризующие сказ как форму повествования от лица персонажа (тип II.2), действуют и в повествовании, приписываемом подставному автору (тип II.1). Повествование такого типа, стилистически ориентированное на определенные литературные образцы, именуется в литературоведческом обиходе стилизацией. Следует различать два значения этого термина: широкое и узкое. Стилизация в широком смысле слова — это «намеренная и явная имитация того или иного стиля ... полное или частичное воспроизведение его важнейших особенностей» 43. Из этого определения следует, что стилизация в широком смысле термина включает в себя и сказ, и диалог, и несобственно-прямую речь постольку, поскольку эти формы воспроизводят, хотя бы частично, стиль чужого слова.
Однако термин «стилизация» чаще употребляется в более узком смысле — для обозначения особого типа повествования, ориентированного на определенный литературный стиль.
Как и сказ, стилизация предполагает художественное истолкование чужого стиля и стоящего за ним иного мировоззрения, иной культуры; вследствие этого воспроизводимый стиль, как правило, подвергается определенной деформации в соответствии с авторской трактовкой оригинала. Стилизация бывает как «серьезной», «однонаправленной», по выражению М.М. Бахтина, так и более или менее иронической, пародийной. Примером пародийной стилизации могут служить романтические стихи, которые Ленский пишет в ночь перед дуэлью, или новеллы Анатоля Франса, стилизованные под жития христианских святых.
Наиболее известные образцы стилизации в русской и французской литературе XIX в. уже были названы в § 80. Здесь мы рассмотрим один характерный пример стилизованного текста — небольшой отрывок из повести Флобера «Легенда о святом Юлиане Странноприимце».
«Святой Юлиан» стилизован под средневековую житийную литературу. Но стилизация очень тонка и характеризуется прежде всего отрицательным признаком: полным отсутствием слов и оборотов, которые могли бы показаться слишком новыми. У Флобера нет откровенных, вопиющих архаизмов, таких, понимание которых было бы затруднено; однако очень много слов и оборотов обладает иногда почти неуловимым, иногда более сильным ароматом старины. Легкий налет архаизма и стилизации лежит на всем тексте, и нелегко выделить в языке элементы, которые его создают, тем более что созданию средневекового колорита во многом способствуют и нестилистические, чисто композиционные средства. Вот один из наиболее отчетливо стилизованных кусков:
D'autres fois, une troupe de pèlerins frappaient à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre; et quand ils étaient repus, ils racontaient leurs voyages: les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la Crèche et le Sépulcre. Puis ils donnaient au jeune seigneur des coquilles de leurs manteaux.
Безусловный архаизм здесь только один: nefs, в современном языке navires — корабли; nef в современном языке употребляется в другом значении: неф, часть церкви. Слегка архаично в тексте слово âtre — очаг. В новом языке здесь было бы foyer, cheminée или просто feu. Repu и erreurs формально не архаизмы, но здесь они употреблены в старых, неупотребительных теперь значениях: repu, repaître говорится обычно только о животных или же, наоборот, в переносном значении в высоком стиле, например: poète repu de chimères или scélérat repu du sang de ses victimes; erreurs в прямом значении, как скитания, блуждания, для современного языка тоже не характерно. Созданию и уточнению средневековой и религиозной окраски содействуют слова Crèche и Sépulcre с определенным артиклем и без всяких определений: и так должно быть ясно всякому доброму католику, что это 1а Crèche et le Sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ. Последняя фраза характерна не языком, а, скорее, композиционной неожиданностью и каким-то простодушием перехода от Долей и Гроба господня к ракушкам, которые паломники дарили Юлиану; а он в этой фразе назван так, как его, по-видимому, называли слуги в замке и паломники: jeune seigneur.
Таким образом, и в сфере стилизации, являющейся основной формой повествования типа II. 1, ведущим принципом выступает принцип условного изображения чужого стиля. Попытки полного воспроизведения языка эпохи и стиля определенной литературной традиции встречаются в литературе, но они, как правило, малоудачны. Чужое слово, включаясь в художественный текст, становится предметом искусства и, как всякий предмет искусства, не копируется, а условно изображается.
§ 109. Два аспекта значимости авторского слова
Переходя к рассмотрению проблем, связанных со структурой авторского слова, следует подчеркнуть, что используемое нами разграничение «авторское слово / чужое слово» в известной мере условно и относительно; во-первых, как уже говорилось, аукториальный повествователь, являющийся носителем авторского слова, это все-таки не совсем автор, во-вторых же, что еще важнее, между явно авторским и явно чужим словом лежит множество переходных случаев, далеко не всегда поддающихся однозначной квалификации. Мы уже видели, что между типами повествования и характером слова (чужое слово или авторское слово) нет однозначного соответствия. Так, повествование типа II. 2 необязательно пользуется чужим словом, стилистически противопоставленным авторскому. «Нужно иметь в виду, что композиционные формы сами по себе еще не решают вопроса о типе слова. Такие определения, как Icherzählung 44, рассказ рассказчика, рассказ от автора и т.п., являются чисто композиционными определениями. Эти композиционные формы тяготеют, правда, к определенному типу слов, но необязательно с ним связаны» 45.
Именно поэтому квалификация типа слова бывает иногда затруднена: формально повествование приписывается рассказчику, явно не идентичному автору, но стиль повествования практически не отличим от авторского или, если и отличим, то минимально. Как отмечает М.М. Бахтин, именно так построены многие рассказы и повести у Тургенева. Мы отметили выше аналогичное явление во многих рассказах Мопассана. Примеры можно было бы умножить.
Сказанное, однако, не отменяет самого принципа разграничения авторского слова и чужого слова, и в каждом конкретном случае надо попытаться понять, используя все наличные данные, кто же является субъектом повествования, как соотносится его голос и его идеологическая позиция с голосом и позицией автора и в какой степени надо принимать на веру его утверждения и его оценки.
В той информации, которую несет стиль авторской речи, следует выделять два аспекта: 1) коммуникативный, создающий наряду с другими уровнями образ повествователя (в данном случае близкий к образу автора), и 2) номинативный, или изобразительный. Для того чтобы пояснить, что имеется в виду под вторым, изобразительным аспектом стиля, воспользуемся еще одной цитатой из М.М. Бахтина: «Слово героя обрабатывается именно как чужое слово, как слово лица, характерологически или типически определенного, т.е. обрабатывается как объект авторской интенции, а вовсе не с точки зрения своей собственной предметной направленности. Слово автора, напротив, обрабатывается стилистически в направлении своего прямого предметного значения. Оно должно быть адекватно своему предмету (познавательному, поэтическому или иному). Оно должно быть выразительным, сильным, значительным, изящным и т.п. с точки зрения своего прямого предметного задания — нечто обозначить, выразить, сообщить, изобразить. И стилистическая обработка его установлена на чисто предметное понимание» 46.
Конечно же, стилистическая обработка авторского слова направлена не только на «предметное понимание», т.е. не только на изобразительность; в этом с М.М. Бахтиным целиком согласиться нельзя. Не менее важной заботой автора (осознанной или неосознанной) является «самоподача» — конструирование образа повествователя и, в конечном счете, своего собственного образа. Но что в отличие от явно чужого слова, являющегося объектом художественного изображения, авторскому слову присуща прямая изобразительность, направленность на фабулу — это сомнению не подлежит.
Правда, «работая на фабулу», изобразительность стиля самим своим наличием (или отсутствием), своей интенсивностью, способами своей реализации (проще говоря, тем, в чем и как она проявляется) в конечном счете также характеризует повествователя, способствует формированию его образа. Но до этого она существует сама по себе. Именно поэтому мы начнем с нее.
§ 110. В чем состоит изобразительность стиля
Наиболее распространенный взгляд на эту проблему сводится в конечном счете к утверждению, что «художник рисует словами», что каждое или почти каждое слово несет образ в силу первичной, исконной образности художественного произведения. Такой подход часто влечет за собой смешение разных уровней структуры текста: изобразительность художественной детали выдается за изобразительность слова, называющего эту деталь.
С нашей точки зрения, изобразительность стиля начинается там, где художественный эффект обусловлен выбором единицы плана выражения в определенной точке синтагматической цепи — единицы плана выражения, а не содержания — и где при замене этой единицы какой-то другой, номинативно эквивалентной, но не обладающей какими-то иными свойствами, указанный эффект пропадает или существенно ослабляется.
На чем же основана изобразительность стиля?
Известно, что подавляющее большинство узуальных единиц языка представляют собой условные, психологически не мотивированные знаки, в которых связь между означаемым и означающим воспринимается как случайная, произвольная. Русское слово «кот» никак не «рисует» соответствующее животное, равно как и французское chat. Однако даже в таком «абстрактном» языке, как французский, существует множество слов и в особенности фразеологизмов, в которых связь между выражением и содержанием ощущается как более или менее естественная, органичная: означающее в тех или иных отношениях как бы похоже на свое означаемое, слово выступает не как условный ярлык, а как образ соответствующего понятия. Такая мотивированность знака, реальная или кажущаяся, придает ему особое свойство — экспрессивность. О разных видах мотивированности и о связанной с ней экспрессивности применительно к языку вообще мы писали в другой книге, к соответствующему разделу которой мы позволим себе отослать теперь читателя 47.
Так вот, изобразительность стиля в художественном тексте состоит в таком отборе средств выражения и в такой организации словесного ряда, в результате которых план выражения в той или иной мере сам становится наглядным образом описываемого отрезка фабульного содержания — слова, предложения и последовательности предложений не только обозначают его комбинациями конвенциональных значений, но и как бы непосредственно изображают другими своими свойствами, которые в обычной речи, как правило, остаются незамеченными, такими, например, как звучание, длина, позиция в речевой цепи, ритм, внутренняя форма.
Иначе говоря, они становятся, как выражаются в семиотике, иконическими, т.е. изобразительными знаками соответствующего содержания. Такая «сверхсемантизация» словесного ряда свойственна в первую очередь поэзии; однако в менее явной форме она присуща и художественной прозе. В последующих параграфах мы перечислим важнейшие ее проявления в прозаическом тексте.
§ 111. Парадигматические средства словесной изобразительности.
Компаративные тропы
Важнейшим классом средств словесной изобразительности, основанных на установлении «сверхсемантической» связи между означающим и означаемым, являются тропы. Основные виды тропов — метафора, сравнение, метонимия — были описаны нами в главе IV «Стилистики французского языка», которую можно было бы целиком перенести в эту книгу. К сказанному там следовало бы добавить сказанное здесь в § 26 и 30, а именно, что метафорические высказывания и прочие высказывания, содержащие тропы, могут рассматриваться в ряду разнообразных «речевых аномалий» и несут богатый и разнообразный как референциальный, так и коммуникативный подтекст. Но, как уже говорилось выше (см. § 72), компаративные тропы, основанные на сближении или совмещении двух или нескольких значений в какой-то точке речевой цепи, реализуют на уровне словесного ряда общий принцип построения художественного текста — принцип со-противопоставления элементов — и, следовательно, как правило, оказываются включенными в сложные композиционные сцепления деталей, мотивов и целых фабульных линий. Мы видели, в частности, как в «Терезе Дескейру» постоянная параллель между пейзажем и душевным состоянием героини время от времени как бы стягивается в одном высказывании, представляющем собой метафору или сравнение, где элемент пейзажа выступает как образ, а состояние героини как тема. Именно поэтому в метафоре часто концентрируется основная мысль отрывка или целого текста.
Из этого же вытекает и важное методологическое следствие: в ходе интерпретации компаративные тропы необходимо рассматривать не как изолированные явления, а как компоненты образной системы произведения, в тесной связи с явлениями других уровней текста, а также друг с другом и с иными средствами словесной изобразительности 48.
Сказанное можно проиллюстрировать анализом образных сравнений и метафор в рассказе Мопассана «В полях». Это сделать сравнительно нетрудно, потому что стиль рассказа отличается большой сдержанностью: на весь текст приходится лишь 5 более или менее индивидуальных компаративных тропов 49. Тем весомее является каждый из них. Приведем все пять:
1–2. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas (стр. 8).
3. ... les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes (стр. 16–18).
4. La mère empâtait elle-même le petit (стр. 22).
5. Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin (стр. 117–118).
Все они так или иначе связаны с детьми: дети, все вместе или поодиночке, либо являются темой (1, 2), либо входят в состав темы (3, 4, 5) каждого из этих образных выражений. Наиболее тесно связаны между собой сравнение 3 и метафора 4: оба выражения не только характеризуют процесс подготовки к еде и самой еды, но и в какой-то степени приравнивают детей к домашней птице, подчеркивая тем самым грубо приземленный, почти животный характер повседневного существования крестьян и отсутствие с их стороны всяких сантиментов по отношению к детям. Тем самым эти тропы хорошо согласуются с деталями групп 2 и 3, отмеченными в § 65. К ним примыкают две поддерживающие друг друга метафоры 1 и 2, характеризующие в первую очередь отношение родителей к детям: для слова produit словарь le Petit Robert дает в числе других значений «animal considéré du point de vue de l'hérédité»; эта метафора акцентирует, следовательно, чисто физиологическую связь между родителями и детьми, в то время как le tas приписывает последним признак нерасчлененности и как бы приравнивает их даже не к животным, а к неодушевленным предметам.
Несколько особняком стоит как будто сравнение 5, характеризующее в первую очередь поведение госпожи д'Юбьер; однако и здесь ребенок сближается с неодушевленным объектом.
Таким образом, во всех без исключения тропах подчеркивается пассивность, бессловесность и как бы даже неодушевленность детей: их собирают в кучу, набивают им брюхо пищей, их утаскивают, как приглянувшуюся безделушку из магазина, невзирая на их вопли... И, как выявляется уже в самой фабуле, их продают и покупают, а когда не удается купить одного, покупают другого... До поры до времени они лишены индивидуальности, в полном смысле слова взаимозаменяемы, различаясь лишь возрастом. Действительно, des produits dans le tas! И в этом смысле, в отношении к ним как к объектам, госпожа д'Юбьер, одержимая неудовлетворенными материнскими чувствами, в принципе не отличается от лишенных чувствительности крестьян.
Индивидуальность в глазах матери, а также автора и читателей, обретает в конце концов лишь тот из детей, которого не продали. И тем трагичнее финал рассказанной Мопассаном истории — мы помним, чем это оборачивается в итоге и для сына, и для родителей.
Так рассмотрение компаративных тропов как элементов образной системы произведения позволяет не только подкрепить сделанные на предыдущих этапах выводы, но и обнаружить в некоторых случаях мотивы, ранее ускользнувшие от исследователя.
Проведенный анализ выявляет также одну любопытную закономерность функционирования словесных образов в тексте — присущую им тенденцию к группировке. Эта тенденция проявляется в двух планах. Во-первых, несколько тропов часто имеют общую тему (или соприкасающиеся темы) и при этом подхватывают, усиливают друг друга, приписывая теме сходные признаки, развивая один и тот же мотив, который может проходить через весь текст. Именно таковы сравнения и метафоры, отмеченные нами в рассказе Мопассана. Во-вторых, они нередко возникают в непосредственной близости друг от друга, образуя своего рода комплексы.
В словесных комплексах, объединяющих несколько семантически близких тропов и развивающих один мотив, нередко используются и другие средства словесной изобразительности — повтор, противопоставление, синтаксический параллелизм и т.п. Но прежде чем говорить об этом явлении, необходимо рассмотреть прочие изобразительные средства стиля.
§ 112. Другие парадигматические средства словесной изобразительности
Помимо компаративных тропов, к парадигматическим средствам словесной изобразительности можно отнести еще ряд явлений. Одно из них — так называемый звуковой символизм, т.е. реальное или воображаемое (устанавливаемое под влиянием контекста) соответствие между звучанием и значением 50. Аналогичная связь может также устанавливаться между длиной слова и его значением. Эти явления, достаточно подробно описанные в § 49 «Стилистики», характерны в первую очередь для поэзии, но встречаются и в прозе.
Иконическим знаком иногда становится и графический облик сегмента текста. Примером такой изобразительности может послужить миниатюра Ж. Ренара «Муравьи»:
Chacune d'elles ressemble au chiffre 3.
Et il y en a!
Il y en a!
Il y en a 333333333333... jusqu'à l'infini.
Здесь исходное сравнение («Каждый из них похож на цифру 3») развертывается в своеобразный математический образ: 3333333333333 ... — это и простое соположение муравьев и чудовищно большое число; абстрактное математическое выражение становится пиктограммой.
Рассмотрим теперь несколько более подробно явления изобразительности в синтаксисе. Они заключаются в том, что между построением фразы или более крупного сегмента текста (ритмом, членением, порядком следования компонентов) и характером описываемого процесса обнаруживается определенное соответствие, в силу которого сам рисунок фразы или абзаца воспринимается как образ референтной ситуации.
Такую изобразительную функцию может нести необычный порядок членов предложения, отражающий последовательность протекания описываемого процесса и(или) его восприятия:
Toute la société, avec un fracas de chaises remuées, se mit debout; les bras se tendirent, les verres se choquèrent, au milieu d'une clameur (Zola).
В этом примере построение начального предложения фразы (подлежащее — обстоятельство сопутствующего действия — сказуемое) соответствует реальной последовательности этапов развертывающегося процесса и его восприятия наблюдателем: сначала раздается грохот отодвигаемых стульев и лишь затем гости встают (отметим попутно, что точке зрения непосредственного наблюдателя подчинено и второе предложение фразы, где имеет место метонимическое замещение субъекта: действуют как бы не сами гости, а их руки и бокалы; согласимся, что именно так воспринимается зрелище многолюдного застолья в момент тоста).
Несколько иной случай — ритм фразы отражает темп протекания действия — обнаруживается в рассказе Мопассана «В полях»:
Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux (стр. 91–93).
Для сравнения — другая фраза, где действующим лицом выступает госпожа д'Юбьер:
Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser de caresses ennuyeuses (стр. 36–39).
Сам строй фразы, описывающей трапезу крестьян, делает ощутимой ту замедленность их движений, о которой прямо говорится в тексте, в то время как в другом примере множество следующих друг за другом процессных глаголов-сказуемых, соединенных в одной фразе (как и множество дополнений в конце ее), становится иконическим знаком быстро протекающих и сменяющих друг друга действий, которые, в свою очередь, выступают как характерная деталь — внешнее проявление темперамента героини.
В приведенных примерах синтаксический рисунок фразы является прежде всего иконическим знаком реально совершающегося «внешнего» действия и лишь затем — восприятия последнего наблюдателем. В следующих случаях синтаксис отражает и изображает особенности протекания только психического процесса — восприятия, мысли или чувства:
Julien remarqua qu'il y avait sur l'autel des cierges qui avaient plus de quinze pieds de haut (Stendhal).
По поводу этой фразы М.Н. Эпштейн приводит мнение А. Альбала, автора книги «Le Travail du style enseigné par les corrections manuscrites des grands écrivains» (P., 1911), который считал, что фразу следовало бы перестроить и сказать: Julien remarqua sur l'autel des cierges de plus de quinze pieds de haut. Не соглашаясь с ним, М.Н. Эпштейн пишет: «Фраза, действительно, стала компактной, легкой, закругленной, избавилась от повторов — но и образ, который она создает у читателя, уже иной, не стендалевский». И далее: «Все эти «лишние» служебные слова — «что на алтаре были свечи, которые были вышиной...» ничего не прибавляют сами по себе к содержанию фразы, но расчленяют его таким образом, что оно становится соизмеримым с движением человеческого взгляда, постепенно охватывающего предметы. Взгляд скользит вверх, с алтаря на свечи (мы угадываем, что Жюльен поднимает голову). «Что... были... которые были» — это вещи в процессе их восприятия» 51. Действительно, стендалевская фраза фиксирует процесс восприятия, тогда как вариант Альбала — его результат.
Balayant vivement de leur raie noire toute l'étendue de la vitre, se succèdent sans interruption les poteaux de ciment ou de fer; s'écartent, redescendent, reviennent, s'entrecroisent, se multiplient, se réunissent, rythmés par leurs isolateurs, les fils téléphoniques semblables à une complexe portée musicale... (Butor).
Фраза передает впечатление человека, смотрящего в окно движущегося поезда, и препозиция сказуемых (а также обособленного причастного определения во втором предложении) по отношению к подлежащим очень точно соответствует этому взгляду: сначала воспринимается движение и лишь затем опознается объект. Кроме того, само количество однородных сказуемых во втором предложении (7 глаголов подряд!), сама длина этой части фразы становятся образом бесконечно тянущихся вдоль железнодорожной линии проводов. Очевидно, что подобные построения, изображающие процесс восприятия, возникают чаще всего при заимствовании повествователем точки зрения персонажа:
Du fond de sa mémoire, surgissaient, maintenant qu'il était trop tard, des lambeaux de cette confession préparée durant le voyage (Mauriac).
Здесь движение совершается уже целиком в сфере психики героини — Терезы Дескейру, и синтаксис фразы непосредственно изображает, как из глубин ее памяти всплывают обрывки подготовленной исповеди: обратный порядок слов и тормозящее движение фразы придаточное предложение, вклинивающееся между сказуемым и подлежащим, заставляют читателя ощутить медленность и постепенность этого процесса.
Количество примеров можно было бы многократно умножить, но необходимости в этом нет: и так ясно, что изобразительность синтаксиса — широко распространенное свойство художественной речи, присущее в первую очередь той литературе, которая стремится к показу, а не к рассказу.
§ 113. Синтагматические средства словесной изобразительности
В отличие от парадигматических, устанавливающих связь между означающим и означаемым, синтагматические средства словесной изобразительности состоят в использовании формальных и (или) позиционных характеристик двух и более означающих для установления отношений между их означаемыми. Простейший и всем хорошо известный синтагматический прием изобразительности — это повтор.
Самая общая функция повтора, как в обиходной, так и в художественной речи, состоит в подчеркивании значения повторяющихся элементов. Вспомним в этой связи начало рассказа «В полях», где в первых десяти строках 7 раз повторяется словосочетание les deux + существительное: les deux chaumières, les deux aînés, les deux cadets, les deux mères, les deux pères, les deux paysans, les deux portes voisines; к ним примыкает les huit noms. Художественный смысл этого повтора ясен: подчеркнуть одинаковость двух семей.
Повтор — полный или частичный — вообще играет чрезвычайно важную роль среди средств словесной изобразительности, поскольку он лежит в основе и иных, более сложных явлений, которые будут названы ниже.
Одним из таких явлений, основанных на повторе, является рифма. Суть ее заключается в том, что между определенными словами, периодически появляющимися в тексте, устанавливаются отношения частичной фонетической и позиционной эквивалентности (ведь рифмующиеся слова занимают одинаковые позиции в стихотворной строке). Вследствие этого поэтический текст получает дополнительные «скрепы», обеспечивающие особое его внутреннее единство или, по выражению Б.А. Ларина, «тесноту словесного ряда», а сами эти слова как семантические единицы, независимо от наличия или отсутствия синтаксических связей между ними, вступают в отношения со-противопоставления. «Рифма обязательно влечет за собой семантическое сближение рифмующихся единиц» 52.
В прозе из этой группы средств языковой изобразительности наибольшее значение имеет синтаксический параллелизм — также вид повтора. Проиллюстрировать это явление можно опять-таки началом новеллы «В полях»: предложения, содержащие упомянутый выше повтор (les deux + существительное), подобны друг другу и в синтаксическом плане, поскольку в подавляющем большинстве из них повторяющаяся группа выступает в качестве подлежащего и занимает при этом начальное положение. Такой вид повтора называется, как известно, анафорой. Синтаксический параллелизм нередко связан также с антитезой. Этот прием настолько хорошо известен и настолько прозрачен по смыслу, что приводить примеры нет надобности.
Рассмотрим теперь более сложный случай синтаксического параллелизма. Мы представим его примером из миниатюры Ж. Ренара «Лошадь»:
C'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part.
Вторая, третья и начало четвертой фразы построены по одной схеме: каждая состоит из двух предложений; в первом субъектом выступает Je повествователя, а во втором il, обозначающее лошадь; в первом предикатом является действие, умеющее целью вызвать некое действие со стороны лошади, а во втором — то самое действие, которое и требовалось «каузировать». Таким образом, тут имеет место не просто синтаксический, а синтаксико-семантический параллелизм, поддержанный лексическими повторами. Смысл такого построения опять-таки ясен: оно подчеркивает функциональное единство этих трех фраз, которые совместно не просто выражают, а изображают неукоснительное послушание лошади и в то же время удивление хозяина перед этим послушанием. Но параллелизм осложняется синтаксическим контрастом: второе предложение последней фразы вдруг сворачивает с наезженного пути, ломает ритм: ... au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part. Эта часть предложения становится тем самым не только конвенциональным, но и иконическим знаком, образом воображаемого действия лошади, которое нарушило бы гармонию безоговорочного подчинения.
Прежде чем закончить этот параграф, приведем еще один пример. Это фраза из знаменитой сцены смерти Эммы Бовари:
Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile, et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine.
Здесь параллелизм менее явный, чем в предыдущих примерах, но бесспорный. Фраза описывает последовательность действий священника. Эта последовательность выражена серией синтаксически однородных «блоков» — сказуемых, подчиненных одному подлежащему, с зависящими от них элементами. Таким образом, то, что священник говорит Эмме, синтаксически как бы приравнивается к тому, что он делает перед этим. Эта синтаксическая эквивалентность, усиленная определенным ритмическим сходством между первой и второй половиной фразы, подчеркивает семантический контраст между ними — между конкретным, подчеркнуто бытовым характером действий священника, описываемых в начале фразы, и абстрактным, мистическим и высокоторжественным характером тех действий (если их так можно назвать), к которым он призывает Эмму. И одновременно синтаксическая эквивалентность имплицирует, что для священника все это вещи одного порядка, привычные профессиональные жесты: вытереть пальцы, выбросить ватку, которой он совершал помазание, и призвать умирающего положиться на милосердие божие.
Этот скрытый сарказм в описании обряда подчеркивается еще и тем, что слова священника переданы примерно так же, как слова прокурора в «Постороннем» Камю (см. § 103): в форме косвенной речи, но с сохранением лексики первоначального высказывания, что, как мы видели, создает отчуждающий эффект.
§ 114. Объединение различных средств словесной изобразительности
В § 111 мы упомянули о том, что в словесных комплексах, составленных из созвучных друг другу метафор и сравнений, часто обнаруживаются и другие изобразительные средства, как парадигматические, так и синтагматические. В качестве примера такого объединения словесных образов можно привести начало романа Бальзака «Лилия в долине»:
À quel talent nourri de larmes devrons-nous un jour la plus émouvante élégie, la peinture des pâtiments subis en silence par les âmes dont les racines, tendres encore, ne rencontrent que de durs cailloux dans le sol domestique, dont les premières frondaisons sont déchirées par des mains haineuses, dont les fleurs sont atteintes par la gelée au moment où elles s'ouvrent? Quel poète nous dira les douleurs de l'enfant dont les lèvres sucent un sein amer et dont les sourires sont réprimés par le feu dévorant d'un œil sévère?
Отрывок состоит из двух фраз; по своему номинативному (и не только номинативному) содержанию вторая в сущности ничего не добавляет к первой — налицо семантический повтор. Этот повтор усилен интонационным подобием — обе фразы суть риторические вопросы — и синтаксическим параллелизмом — обе завершаются серией придаточных предложений, вводимых относительным местоимением dont. Благодаря этим придаточным синтаксический параллелизм возникает и внутри каждой из фраз. Через обе фразы проходит серия метафор (они выделены курсивом), развивающих один мотив: страдания беззащитного ребенка — жертвы родительского бессердечия. Наконец, каждая или почти каждая из этих метафор содержит более или менее явную антитезу (см., в частности, racines tendres — durs cailloux и sourires — œil sévère). К этому можно добавить, что во второй фразе обнаруживается даже рифма: amer — sévère, связывающая два эмоционально созвучных прилагательных.
Это нагромождение однонаправленных стилистических средств приводит к тому, что при восприятии между ними возникает своего рода резонанс: они усиливают друг друга и навязывают читателю определенное впечатление, нагнетают эмоцию. В английской стилистике такое скопление средств словесной изобразительности называют конвергенцией; последняя определяется как «схождение в одном месте пучка стилистических приемов, участвующих в единой стилистической функции» 53.
Не следует думать, что конвергенция — явление редкое. Конечно, такие образцы ее, как только что приведенный отрывок, найдешь далеко не у каждого писателя. Однако менее бросающиеся в глаза схождения двух или нескольких изобразительных средств встречаются достаточно часто. Их немало и среди приведенных в этой главе примеров; так, во фразе Золя «Toute la société, avec un fracas de chaises remuées, se mit debout; les bras se tendirent, les verres se choquèrent, au milieu dune clameur», как уже отмечалось, метонимические обозначения действующих лиц (выделены курсивом), отражающие впечатление непосредственного наблюдателя, сочетаются с построением фразы, воспроизводящим описываемое действие и процесс его восприятия. Конвергенцию можно обнаружить и в примере из Бютора, равно как и во фразе, описывающей ласки, которыми госпожа д'Юбьер осыпает приглянувшегося ей ребенка (все три примера фигурируют в § 112).
По мнению И.В. Арнольд, конвергенции выделяют наиболее важное в тексте, обеспечивая восприятие этой информации читателем, благодаря избыточности выражения: «Взаимодействуя, стилистические приемы оттеняют, высвечивают друг друга, и передаваемый ими сигнал не может пройти незамеченным» 54.
Дело, видимо, не столько в этом, сколько в самой сущности средств словесной изобразительности, и прежде всего метафоры, в том, что они позволяют выйти за рамки узуальных языковых значений, частично преодолеть линейность речи, высказать одновременно многое, отразить в слове глубоко индивидуальный взгляд на вещи, индивидуальное мироощущение, воздействуя при этом не только и не столько на рациональное мышление, сколько на воображение читателя, заставляя его прочувствовать и пережить формулируемое таким образом художественное содержание. Ясно, что конвергенция, схождение согласованных между собой средств словесной изобразительности, которые, так сказать, льют воду на одну мельницу, должно существенно усиливать этот эффект.
Перечень приемов словесной изобразительности, данный в четырех последних параграфах, не претендует на полноту: мы назвали в основном те из них, которые употребительны в прозе и лишь наиболее частые поэтические. Но даже такой беглый обзор позволяет сделать три важных вывода:
1. «Работая на фабулу», средства словесной изобразительности в тоже время выражают, как правило, отношение повествователя к описываемой ситуации. Это особенно явно проявляется, с одной стороны, в тропах, а с другой — в синтаксическом параллелизме.
2. Семантический механизм всех названных приемов основан на принципе со-противопоставления, выявления различного в сходном и сходного в различном.
3. Та информация, которую несут все средства словесной изобразительности, представляет собой не что иное, как подтекст — референциальный и частный коммуникативный (отношение адресанта к референтной ситуации).
И последнее. Мы приурочили рассмотрение средств словесной изобразительности к разделу об авторском слове. Ясно, однако, что те же средства могут функционировать и в повествовании от лица вымышленного рассказчика, особенно в таких текстах, где речь повествователя не противопоставлена литературной повествовательной норме.
§ 115. Коммуникативный аспект информативности стиля. Стилевые черты
Обращаясь к общему коммуникативному аспекту значимости авторского стиля, надо учитывать прежде всего два момента, уже затронутых выше:
1. Как и в любом сообщении, в художественном тексте стиль повествования создает образ повествователя не сам по себе, а в тесном взаимодействии с другими уровнями. Ведь образ адресанта — это общий коммуникативный подтекст, складывающийся из оценки и того, о чем идет речь в сообщении, и того, что об этом говорится, и того, как это сказано. В обычном, «нормальном» повествовании коннотативная информация, которую несет стиль, отчасти дублирует, а отчасти дополняет коннотативное содержание (коммуникативный подтекст), которое несут фабула и сюжет (на несоответствии значимости стиля коннотативному содержанию других уровней, в первую очередь фабулы, основаны такие комические жанры, как пародия — в классическом смысле этого слова — и бурлеск, характеризующиеся тем, что о «низком» содержании говорится «высоким» стилем и, наоборот, о «высоком» содержании — «низким» стилем).
2. Коммуникативная значимость индивидуального стиля проявляется на фоне той стилевой нормы (или норм), которая регулирует построение авторского повествования в текстах данного жанра в данную эпоху. Это очень существенный момент. Так, например, сухость, сдержанность и простота стиля у Стендаля могут быть оценены в полной мере лишь на фоне «словесного буйства» романтиков, и если мы хотим более или менее ясно представить себе образ автора «Красного и черного», надо отдавать себе отчет в том, что эти качества его стиля сознательно полемичны, как полемичен, например, герой «Воспитания чувств» Флобера по отношению к таким бальзаковским героям, как Растиньяк и Люсьен Шардон.
Далее, в отличие от образа рассказчика — персонажа или подставного автора, — в образе аукториального повествователя внешние социологические и исторические контуры не актуальны: его «анкетные данные» и так ясны, хотя историческая характерность стиля и повествования в целом могут выступить на первый план для читателя иной эпохи (об этом уже говорилось в § 93). Следовательно, надо идти вглубь и попытаться представить себе повествователя именно как личность.
Что же может добавить к личностной характеристике повествователя анализ стиля повествования?
В общем, в основе оценки авторского стиля должны лежать, по-видимому, фундаментальные стилистические категории — они же основные составляющие стилистического значения: эмоциональность, нормативность (стилистическая возвышенность / сниженность) и спонтанность. Может показаться, что последний признак неприложим к авторскому повествованию, неспонтанному по определению. Однако по своим объективным синтаксическим свойствам авторское повествование может тяготеть либо к типично письменной речи, либо, наоборот, к разговорной.
Если говорить более конкретно, то можно наметить некоторый набор стилевых черт, своего рода дифференциальных признаков, присущих именно литературному повествованию. Эта задача чрезвычайно сложна в силу многогранности самого объекта классификации — художественного стиля — и тесной связанности различных его аспектов между собой. Мы назовем 5 основных признаков такого рода, вполне отдавая себе отчет в том, что они частично пересекаются друг с другом и не являются ни вполне взаимонезависимыми, ни исчерпывающими.
1. Степень эмоциональности стиля.
2. Насыщенность текста средствами словесной изобразительности. Подчиненный этому признак — преобладание тех или иных стилистических средств в тексте.
3. Степень развитости синтагматических связей (об этом признаке, который можно рассматривать как стилистический лишь с определенными оговорками, уже шла речь в § 94; мы к нему больше возвращаться не будем).
4. Общий характер построения фразы.
5. Ведущая тенденция (или тенденции) в отборе лексики.
Очевидно, что названные признаки могут характеризовать не только авторскую речь, но и речь подставного повествователя. Они дополняют и уточняют внешние, социологические и характерологические контуры его образа, позволяя тем самым сопоставить заявленный образ и его речевую реализацию, оценить меру условности в построении речевой партии рассказчика.
§ 116. Эмоциональность стиля
Противопоставляя литературно-художественную речь в целом другим классам речевых жанров, можно утверждать, что эмоциональность является ее неотъемлемым внутренним свойством (об этом достаточно подробно говорилось в главе II). Но это свойство постоянно присуще плану содержания художественных текстов; что же касается плана выражения в узколингвистическом смысле этого термина, то он вовсе необязательно наделен явными признаками эмоциональной речи. Иначе говоря, исконная эмоциональность художественной литературы может быть явной, эксплицитной, но может быть и скрытой, непосредственно не отражающейся в стиле, — самую волнующую историю можно рассказать внешне бесстрастно.
Эмоциональность стиля может меняться в очень широких пределах от одного литературного направления к другому, от автора к автору, от текста к тексту (в творчестве одного и того же автора) и даже от куска к куску внутри одного и того же текста. Так, стиль прозы классицизма — сдержанный, гармоничный, внутренне единый и насквозь рациональный — избегает открытого проявления чувств не только в авторском повествовании, но и в речевых партиях персонажей и подставных повествователей, поскольку внутренний пафос этой литературы заключается, как уже говорилось, в выявлении общезначимого, инвариантного, тогда как подлинная, живая эмоция всегда субъективна, всегда является достоянием отдельной личности.
В противоположность классицизму, романтическая проза эмоциональна, так сказать, по определению: культ неповторимой личности и индивидуального чувства — один из краеугольных камней эстетики романтизма; вполне естественно, что он непосредственно отражается в стиле.
В отличие от классицизма и романтизма, реализм не знает единой стилистической нормы; в его рамках сосуществуют различные и даже в некоторых отношениях диаметрально противоположные стилевые тенденции. Мы уже неоднократно сопоставляли и противопоставляли творчество Стендаля и Бальзака, считающихся основоположниками реализма во французской литературе; будучи антиподами во многих отношениях, они противостоят друг другу и по степени эмоциональности стиля. Повествователь у Бальзака постоянно восторгается, ужасается, недоумевает, негодует, обличает и т.п., тогда как у Стендаля он лишь время от времени иронизирует.
Надо полагать, что степень эмоциональности стиля отражает не только и не столько индивидуальные характеристические свойства автора, сколько его принципиальные идейно-эстетические установки, его взгляд на искусство. В частности, высокая патетика бальзаковского стиля (как, впрочем, и стиля Гюго) соответствует его представлению о высокой миссии художника — учителя жизни, носителя высшего знания, высшей мудрости, недоступной простым смертным, тогда как внешняя бесстрастность Стендаля хорошо согласуется с его идеей романа — «зеркала, которое проносят по большой дороге и которое отражает то лазурь неба, то грязные лужи и ухабы», т.е. романа — объективного свидетельства.
Проявления эмоциональности в литературно-художественной речи в принципе те же, что и в других речевых сферах. Поэтому общие закономерности и конкретные лингвистические признаки эмоциональной речи, выявленные в главе VI «Стилистики», вполне приложимы к художественной литературе вообще и к авторской речи в частности. Так, исследователи неоднократно отмечали, что Гюго и Бальзак ищут нужное выражение как бы непосредственно в тексте, на глазах у читателя, нагромождая синонимы и перифразы, дополняющие и усиливающие друг друга 55 (иллюстрацией этой особенности бальзаковского стиля может послужить отрывок из «Лилии в долине», приведенный в § 114). Этим они отличаются, например, от Флобера, который в авторской речи всегда дает завершенное построение, готовый результат. Но перебор синонимического ряда с целью выбора нужного слова, производящийся непосредственно в сообщении, — явление, очень распространенное в спонтанной эмоциональной речи, в основе которого лежит, надо полагать, ощущение неадекватности употребленного выражения индивидуальному чувству говорящего.
Восклицание, ложный вопрос, эллипс, лексический повтор, нагромождение синонимов (т.е. семантический повтор), стремление к гиперболизации, эмоционально-оценочная лексика и фразеология — все эти свойства аффективной речи легко обнаружить в прозе Руссо, Шатобриана, Гюго, Виньи, Жорж Санд, Готье, Бальзака, Золя, Роллана, Барбюса и многих, многих других. Несколько образцов такого патетического стиля можно найти среди приведенных выше примеров. Пожалуй, наиболее характерные среди них — это отрывок из «Человека, который смеется», приведенный в § 86, и начало «Лилии в долине», фигурирующее в § 114. Читатель сам легко найдет во всех трех примерах многие из названных здесь явлений, типичных для эмоциональной речи.
§ 117. Образность стиля
С эмоциональностью, с потребностью донести до читателя оттенки индивидуального чувства тесно связана и словесная образность 56 — не случайно два других примера, названных в этой же связи, сочетают высокую степень эмоциональности с обилием словесных изобразительных средств.
Так степень эмоциональности естественно смыкается с таким признаком стиля, как насыщенность текста средствами словесной образности.
Однако эти признаки не перекрывают друг друга, а лишь частично пересекаются. Конечно, патетический стиль в литературном повествовании не обходится без метафор, сравнений и прочих средств словесной образности (хотя, строго говоря, эмоциональная речь необязательно метафорична); с другой стороны, любая индивидуальная метафора несет определенный эмоциональный заряд. Но, во-первых, среди средств словесной изобразительности есть и такие, которые собственной эмоциональности практически лишены; таковы, в частности, явления изобразительного синтаксиса и синтаксический параллелизм (см. примеры из Золя, Мопассана, Бютора, Ренара и Флобера в § 112–113). Во-вторых же, лексические изобразительные средства тоже могут использоваться по-разному, выполнять разные художественные функции. В частности, от метафор и сравнений того типа, который преобладает у Гюго и Бальзака — гиперболизирующих, нагнетающих эмоцию, — следует отличать компаративные тропы преимущественно изобразительного характера, которые несут в первую очередь номинативное имплицитное содержание, а не аффективное отношение повествователя к сообщаемому факту. Таковы, например, метафоры и сравнения, отмеченные нами выше в рассказе Мопассана «В полях».
Этот тип тропов часто обнаруживается также у Флобера:
Son visage maigre... était plus plissé, de rides qu'une pomme de rainette flétrie (Madame Bovary).
... leur grand amour, où elle vivait plongée, parut se diminuer sous elle, comme l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son lit, et elle aperçut la vase (Madame Bovary).
Преобладание тропов того или другого функционального типа, как и чисто количественный аспект, общая насыщенность текста средствами словесной изобразительности — очень существенная характеристика стиля. Интенсивная гиперболическая метафоричность отличает, как уже говорилось, романтическую прозу, вообще стиль тех писателей, которые стремятся открыто воздействовать на читательские эмоции, тогда как преимущественное употребление изобразительных тропов при общей умеренной концентрации средств словесной образности (вплоть до почти полного их отсутствия) типично для литературы, последовательно стремящейся к показу и к относительно безличному повествованию.
Но все это, конечно, не более чем общие закономерности — конкретный материал чрезвычайно разнообразен и поддается лишь весьма приблизительной схематизации. Исследование средств словесной образности (в частности, компаративных тропов), характерных для творчества каждого оригинального писателя, обнаруживает неповторимое своеобразие его стиля и нередко позволяет выявить какие-то глубинные, сугубо индивидуальные черты его мироощущения.
Говоря о компаративных тропах в таком-то тексте или в творчестве такого-то писателя, мы должны в первую очередь определить, что с чем сближается, какие понятийные категории выступают по преимуществу как темы и образы метафор и сравнений. Так, для творчества М. Пруста характерны развернутые метафоры, описывающие бессознательные или не вполне осознаваемые психические процессы путем материализации и даже персонификации различных свойств личности, проявлений душевной жизни, чувственных представлений, ощущений и т.п., которые наделяются определенной самостоятельностью и вступают во взаимодействие друг с другом. Таким образом моделируется неуловимый и не поддающийся прямому описанию процесс. Пример такой развернутой метафоры был приведен в «Стилистике» 57.
Для стиля романов Ж.-П. Сартра, отличающегося в целом высокой степенью образности, очень типичны метафоры и сравнения, материализующие такие понятия и понятийные сферы, как небо, земля, воздух, время и т.п.:
1. Il accueillit avec soulagement la déchirure sonore du ciel: l'avion brillait au soleil (La Mort dans L'âme).
2. La soie du matin caressait son visage (La Mort dans L'âme).
3. La terre haussait vers ce mourant son visage renversé, le ciel chaviré coulait à travers lui avec toutes ses étoiles (La Mort dans L'âme).
4. Ça n'était pas de la chaleur, c'était une maladie de l'atmosphère: l'air avait la fièvre, l'air suait, on suait dans la sueur (La Mort dans L'âme).
5. La nuit était douce et sauvage, la chair tant de fois déchirée de la nuit s'était cicatrisée (La Mort dans L'âme).
6. ... la molle viande bleue de cette journée avait reçu l'éternité comme un coup de faux (La Mort dans L'âme).
7. Dix heures venaient à peine de sonner, mais midi était déjà présent dans la chambre, fixe et rond, un œil. Au-delà, il n'y avait rien qu'un après-midi vague qui se tordait comme un ver (L'Âge de raison).
Понятия, выступающие как темы, не только материализуются, но и в большинстве случаев получают какие-то признаки живой плоти 58 (примеры 4–7). К этим тропам примыкают метафоры и сравнения, в которых такие человеческие проявления, как, например, голос или даже мысль, отделяются от их носителей и приобретают черты живых существ.
8. C'était voluptueux, sa voix flottait au fond de sa gorge, douce comme du coton et elle ne pouvait plus sortir, elle était morte (L'Age de raison).
9. La chaînette d'or étincelait sur le cou brun; la cruauté, l'horreur, la pitié, la rancune tournaient en rond, c'était atroce et confortable; nous sommes le rêve d'une vermine, nos pensées s'épaississent, deviennent de moins en moins humaines; des pensées velues, pattues courent partout, sautent d'une tête à l'autre: la vermine va se réveiller (La Mort dans L'âme).
Думается, что этот более или менее случайный набор цитат уже характеризует какие-то существенные стороны мироощущения автора. Эти образы взяты, строго говоря, не из авторской речи — в чистом виде таковой в романах Сартра вообще нет; все они приписываются восприятию персонажей, которые, несмотря на существенные идеологические и психологические различия между ними, в этом отношении оказываются поразительно схожими между собой. Это фамильное сходство и позволяет рассматривать эти и подобные им словесные образы как проявление непосредственно авторского взгляда на мир,, которым Сартр наделяет своих персонажей.
Как справедливо заметил Ю.С. Степанов, «метафора Сартра — это одновременно как бы и краткий очерк, и иллюстрация его философии» 59. Здесь не место для того, чтобы прослеживать связь между тем и другим. Отметим лишь, что свойства, типичные для этих образов, — оживление, «физиологизация» неживого и расчеловечивание, дегуманизация человеческого, — соответствуют ощущению шатающегося, кошмарного мира, который потерял свой обычный облик, незыблемость своих контуров, и передают в конечном счете состояние сознания, которое открывает для себя, что «существование предшествует сущности», как гласит одна из заповедей сартровского экзистенциализма.
§ 118. Общий характер построения фразы
Под общим характером построения фразы имеется в виду относительная близость текста к синтаксису спонтанной либо, наоборот, неспонтанной речи. Ясно, что внешние черты спонтанности «нормальная» авторская речь не воспроизводит, они встречаются, да и то нечасто, либо в речи персонажей, либо в сказе. Но внутренние свойства, характеризующие спонтанную и неспонтанную речь, вполне могут быть использованы для описания авторского повествования. Эти свойства проявляются в трех связанных друг с другом показателях:
1) степень дискретности синтаксических конструкций;
2) большая или меньшая предикативность речи;
3) преобладание первичных либо производных синтаксических структур.
Мы обратимся только ко второму и третьему показателям, поскольку первый трудно поддается объективному учету.
В «Стилистике» мы попытались показать, что спонтанная речь стремится к предикативности, т.е. оперирует преимущественно малораспространенными предложениями, отражая внеязыковую действительность в виде цепи последовательно развертывающихся кадров, каждый из которых обычно передает одно-два отношения элементов референтного пространства. В противоположность ей неспонтанная речь обычно стремится выразить стоящую за ней действительность в форме более или менее развернутых синтетических картин, в которых одно отношение, представляющееся наиболее важным, оформляется как главное, предикативное, а остальные — второстепенные, сопутствующие — как атрибутивные или подчиненные предикативные.
Степень предикативности речи легко поддается численному выражению — ее проще всего измерить количеством графических слов, приходящихся на одну предикативную группу. Во французских неподготовленных интервью, которые брались в качестве образцов спонтанной речи, этот показатель был равен в среднем 6,3.
Как же обстоит дело со степенью предикативности авторской речи во французской литературе хотя бы XIX—XX вв.?
Исчерпывающего ответа на этот вопрос мы, естественно, дать не можем. Нами было проведено выборочное обследование десяти отрывков по 500–515 слов из девяти произведений семи различных авторов. Результаты его таковы (цифры даются в округлении):
| 1. | Н. de Balzac. Les Illusions perdues | — 13,4 слова на предикативную группу | |
| 2. | Stendhal. Le Rouge et le Noir | — 10,7 | |
| 3. | Stendhal. La Chartreuse de Parme | — 8,1 | |
| 4. | G. Flaubert. Madame Bovary | — 9,3 | |
| 5. | G. Flaubert. Education sentimentale | — 8,6 | |
| 6. | E. Zola. Au bonheur des Dames | — 13,4 | |
| 7. | G. de Maupassant. Aux champs | — 10,0 | |
| 8. | J. Renard. Poil de Carotte | — 7,4 | |
| 9. | F. Nourissier. La Crève (I) | — 8,8 | |
| 10. | F. Nourissier. La Crève (II) | — 7,7 |
Конечно, эти результаты достаточно случайны и носят сугубо предварительный характер. Прежде всего следует учитывать, что используемый нами показатель — среднее количество слов, приходящихся на одну предикативную группу, существенно меняется внутри одного и того же произведения (см., например, выборки 9 и 10). В частности, длина предикативной группы, как неоднократно отмечалось, существенно уменьшается в рассказе о конкретных событиях и увеличивается в описании; именно этим, вероятно, можно объяснить разницу между цифрами, характеризующими два произведения Стендаля: отрывок из «Красного и черного» (начало главы XIV второго тома) носит аналитический характер, объясняет чувства Матильды, тогда как кусок из «Пармской обители» (часть главы III первого тома) представляет собой чистое повествование — рассказ о похождениях Фабрицио во Франции.
Для того чтобы получить более или менее достоверные и сравнимые между собой данные, надо было бы взять как минимум по пять выборок из каждого текста и подвергнуть полученные результаты необходимой статистической обработке 60.
Но и эти, достаточно случайные цифры наглядно демонстрируют общую тенденцию — ту противоположность, которая наблюдается между стилем Бальзака и Золя, с одной стороны, и стилем всех остальных — с другой, нагруженность фразы Бальзака и Золя, ее распространенность за счет многочисленных определений и обстоятельств и сдержанность, относительную скупость фразы Стендаля, Флобера и Мопассана, не говоря уже о Ренаре и нашем современнике Нурисье. При этом фраза Стендаля, Мопассана, Флобера, Ренара в сущности мало похожа на фразу спонтанной речи — ее отличает от последней законченность, завершенность конструкции, свойственная этим писателям; в этом отношении проза Бальзака, как ни странно, ближе к спонтанному говорению, потому что она, как уже отмечалось, развивается непредсказуемо для самой себя, подхватывая и дополняя уже сказанное. Однако по чисто объективным синтаксическим данным и Стендаль, и Флобер, и Мопассан «спонтаннее», чем Бальзак и Золя. Что же касается Нурисье, то он и в самом деле имитирует спонтанное говорение не только синтаксисом, но и всем строем речи, в том числе и чисто содержательными особенностями, самим ходом мысли, сцеплением ассоциаций:
Ne le regardez pas. Pas tout de suite. Ayez un peu pitié. Ne le regardez pas se regarder. Ne le regardez pas se tirer la peau, l'œil, se soulever la lèvre sur des gencives blanchâtres et une langue chargée. Il y a eu des sauces hier soir, des sauces et de la conversation...
Перейдем теперь к другому аспекту построения фразы, связанному с оппозицией спонтанность/неспонтанность, — к доле первичных и производных синтаксических структур в авторском повествовании. Напомним в этой связи, что первичной синтаксической структурой, вслед за рядом лингвистов, мы считаем такое построение предложения, в котором действие или состояние выражается глаголом в личной форме, лица и предметы — существительными и местоимениями, а качества и свойства лиц и предметов — прилагательными. Производные же структуры характеризуются прежде всего тем, что исходно предикативные отношения оформляются как атрибутивные — предикативные синтагмы свертываются, превращаясь в именные: A a tué В → A est 1'assassin de В; Ils se sont rencontrés en mars dernier → Leur rencontre a eu lieu en mars dernier.
Производные структуры типичны в первую очередь для административной и научной речи; однако они достаточно широко распространены и в художественной литературе, начиная, по крайней мере, с классицизма (в приведенных ниже примерах выделены курсивом именные группы, обозначающие действия, состояния и качества):
Pendant les premiers jours de sa connaissance avec Daniel, Lucien ne remarqua pas sans chagrin une certaine gêne causée par sa présence dès que les intimes était réunis (Balzac).
Cette découverte, qui dans tout autre moment l'aurait plongée dans les remords et dans une agitation profonde, ne fut pour elle qu'un spectacle singulier mais comme indifférent (Stendhal).
La vue de sa personne troublait la volupté de cette méditation. Emma palpitait au bruit de ses pas; puis, en sa présence, l'émotion tombait, et il ne lui restait ensuite qu'un immense étonnement qui se finissait en tristesse (Flaubert).
L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui (Maupassant).
Как видно из приведенных примеров, производные конструкции возникают чаще всего тогда, когда речь заходит о чувствах и мыслях персонажей, в частности, когда их чувства и мысли становятся самостоятельными объектами авторского анализа. Может быть, поэтому в рассказе Мопассана «В полях» обнаруживаются всего четыре (!) фразы, построенные по таким моделям: как было отмечено еще в главе V, в этой новелле то, что персонажи думают и чувствуют, дается почти исключительно через внешние проявления их состояний.
Доля производных конструкций особенно велика в творчестве писателей последних десятилетий XIX в., так или иначе связанных с движением художников-импрессионистов, в частности в прозе Золя и Гонкуров. Применительно к ним, в первую очередь к Золя, в критике и истории литературы возникает даже термин style substantif — субстантивный стиль.
Субстантивный стиль Золя развивает тенденцию к субстантивации, обнаруживающуюся, как мы только что видели, еще в прозе классицизма; но, в отличие от предшественников, Золя субстантивирует не только «психические объекты», но и вполне конкретные процессы:
Tous les arrivages entraient par cette trappe béante; c'était un engouffrement continu, une chute d'étoffes qui tombaient avec un ronflement de rivière (Au Bonheur des Dames).
Il y avait des échanges de regards muets, de portières à portières, et personne ne causait plus, dans cette attente que coupaient seuls les craquements des harnais et le coup de sabot impatient d'un cheval (La Curée).
У Золя редко встретишь фразы типа Elle sourit; Il tressaillit de surprise и т.п.; такие высказывания, как правило, оформляются при помощи отглагольного существительного:
Quand elle reconnut le comte, elle eut un sourire (Nana).
Elle eut un haussement d'épaules (L'œuvre).
Elle eut un sursaut d'étonnement (Le Docteur Pascal) 61.
Высказывается мнение, что такая субстантивация выполняет изобразительную функцию: «агент действия рассматривается не как действующее лицо, а, скорее, как место действия... Поскольку подлежащее действия не производит, а происходит оно внутри героя, то само действие является в какой-то степени непроизвольным» 62. Вообще можно, видимо, утверждать, что субстантивация предиката в высказывании, сообщающем о непосредственно наблюдаемом факте, приводит к тому, что это высказывание начинает восприниматься как сообщение о впечатлении, производимом фактом, а не о самом факте, т.е. имплицитно вводит наблюдателя и его точку зрения, ср., например, первую из приведенных выше цитат из Золя и ее возможный глагольный эквивалент: ... → des pièces d'étoffes s'y engouffraient continuellement, у tombaient en ronflant comme une rivière. В этом и заключается, в первую очередь, импрессионизм Золя и Гонкуров.
В целом субстантивный стиль Золя представляет собой важный шаг на пути усложнения языковой формы художественного повествования. Можно сказать, что проза Золя вообще завершает определенную линию эволюции языка художественной литературы, ту линию, которая откровенно стремится к формальному совершенству, к своего рода прециозности, систематически противопоставляя себя обыденной речи 63. Эта прециозность, подчеркнутая «литературность» стиля Золя проявляется как в свойственной ему повышенной метафоричности, так и в особой лексико-грамматической организации фразы, в результате которой смысловой центр высказывания переходит с глагола на существительное, т.е. в субстантивном стиле.
Этой линии эволюции противостоит другая — линия сближения литературы с повседневной речью. Анализ степени производности синтаксических структур и позволяет более или менее объективно разграничить эти две тенденции, выявить авторскую установку на подчеркнутую литературность повествования либо на обычную речь.
§ 119. Ведущие тенденции в отборе лексики
Если, говоря о синтаксисе авторской речи, мы смогли выделить какие-то общие свойства, постоянные признаки, которые характеризуют любой текст (любой текст может быть оценен по степени развитости синтагматических связей, по степени предикативности и по доле производных синтаксических структур), то лексический состав авторского повествования характеризуется гораздо большим разнообразием. Мы назовем здесь лишь самые общие мерки, с которыми можно и нужно подходить к лексическому составу различных текстов, т.е. основные оппозиции, пригодные для оценки авторской тенденции, проявляющейся в выборе слов.
Одна из таких оппозиций — это противоположность между словом общего и словом конкретного значения. Один и тот же объект, например жемчужное ожерелье, можно назвать родовым термином, скажем la parure, а можно видовым: le collier de perles 64, причем последнее может получить и какие угодно индивидуализирующие признаки, например: collier de perles roses d'une belle eau.
Принципиальная установка на слово общего значения — одна из типичнейших черт классицистического стиля. Она проявляется не только и не столько при номинации конкретных предметов (последние в прозе классицизма вообще упоминаются редко), сколько в характеристике человеческих качеств и чувств, равно как и в номинации событий. Так, например, первые страницы «Принцессы Клевской», где описываются наиболее выдающиеся личности, состоявшие при дворе Генриха II, полны такими определениями, как beau (belle), bien fait(e), brave, magnifique, plein d'esprit, parfaite pour l'esprit, esprit vaste et profond, esprit vif и т.п. Эти определения прилагаются к самым разным людям, как мужчинам, так и женщинам; но о красоте и уме ни одного из них не сказано почти ничего более определенного. Портрет же самой героини звучит так:
La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle; tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charmes.
Для сравнения можно было бы привести любое описание из любого романа Золя, например вот это (мы приводим его не полностью):
Ses étranges cheveux fauve pâle, dont la couleur rappelait celle du beurre fin, étaient à peine cachés par un mince chapeau orné d'une touffe de rosés du Bengale. Elle continuait à cligner les yeux, avec sa mine de garçon impertinent, son front pur traversé d'une grande ride, sa bouche, dont la lèvre supérieure avançait, ainsi que celle des enfants boudeurs (La Curée).
Ясно, что мы имеем дело с прямо противоположными установками: в одном случае — возвести конкретное к общему, а в другом — зафиксировать единственный и неповторимый момент реального существования конкретного лица во всем его своеобразии (в котором, однако, должна проглядывать и общая закономерность). Очевидно также, что эта тенденция в отборе лексики тесно связана с самим принципом отбора фабульного материала. В реалистической прозе — прозе индивидуализирующей — конкретное слово появляется не столько вместо абстрактного для описания того же участка фабульного пространства, сколько для обозначения деталей, вообще не фигурирующих в прозе обобщающей, каковой является проза классицизма.
Другая оппозиция в сфере лексики авторского повествования может быть сформулирована так: слово высокое, подчеркнуто литературное/ слово всякое. На одном полюсе этой оппозиции мы найдем опять-таки классицистическую прозу, а на другом — множество писателей XIX—XX вв., начиная с Гюго и Бальзака и кончая нашими современниками, такими, как Кено, Труайа, Нурисье, Коншон, Фалле и др. Посмотрим же, в каких направлениях совершается отход от классической литературной нормы в творчестве тех писателей, которые от нее отклоняются.
Для творчества Бальзака характерно в первую очередь горизонтальное расширение словаря, заимствование слов из самых различных областей человеческого знания — истории, философии, права, экономики, эстетики, физики, зоологии, ботаники, астрономии, журналистики, печатного дела и т.д. и т.п. Эту лексическую «всеядность» Бальзака объясняют его стремлением к синтетическому изображению действительности, к показу изображаемого с самых разных точек зрения, «многообразием идей, с которыми сочетается данный предмет во всех областях жизни» 65. Если брать не отдельные тексты Бальзака, а его творчество в целом, необычайное лексическое богатство последнего можно объяснить также его универсализмом — тем, что он стремится охватить самые различные сферы человеческой деятельности и социального бытия.
Для реализма вообще характерно частичное заимствование языка изображаемой среды. Этим, в первую очередь, объясняется колоссальное расширение лексического диапазона литературы XIX—XX вв. по сравнению с классицистической прозой. Словарь Золя, например, подобно бальзаковскому, включает в себя специфические термины многих социальных групп — парижских рабочих, углекопов Севера, биржевых дельцов, солдат, служащих большого магазина и т.д. За счет этого в его творчестве осуществляется значительное расширение лексического диапазона не только по горизонтальной, но и по вертикальной шкале, т.е. включение в художественный текст «низких» слов — элементов просторечия и даже арго. Однако здесь обнаруживается любопытное явление: если, например, «торговая» или «биржевая» лексика свободно входит в повествование от автора, то стилистически сниженные элементы в собственно авторскую речь не включаются: они остаются в основном показателями чужого слова (см. пример из «Западни», приведенный в § 104).
Так будет и впредь: «низкое» слово останется в основном привилегией речи персонажей, сказа или внутреннего монолога в форме несобственно-прямой речи. Попытки ввести его в авторское повествование предпринимались неоднократно. Около тридцати лет назад, в середине 50-х гг., известный французский критик и теоретик литературы Р. Барт писал: «Немалая часть современной литературы испытывает более или менее осознанные порывы странной мечты: создать такой литературный язык, который обрел бы естественность социальных наречий. В качестве недавнего и хорошо известного примера можно вспомнить диалоги в романах Ж.-П. Сартра. Но какими бы успешными ни были эти попытки, все они представляют собой лишь копии, своего рода арии, окруженные длинными речитативами в духе вполне традиционного письма.
Р. Кено, в частности, хотел продемонстрировать, что письменная речь во всех ее аспектах может получить устную окраску; у него социализация литературного языка охватывает все уровни письма: графику, лексику и — что еще важнее, хотя и менее очевидно — само движение речи. Конечно, манера письма Кено не выводит его за пределы литературы, потому что читает его лишь ограниченная часть общества; это не разрешение всех проблем, а всего лишь опыт и развлечение. Тем не менее, впервые письмо перестало быть традиционно литературным» 66.
Думается, что Р. Барт преувеличивал и размах тенденции, и значение опытов Р. Кено. Конечно, у последнего можно встретить фразы такого, например, типа: Enfin se présente un flicard alerté par les bêlements de la rombière <Zazje dans le métros> Но наряду с ними в том же романе (в том числе и на той же странице) — целые абзацы более или менее традиционного литературного повествования, куда «низкая» лексика вводится лишь эпизодически.
За пределами чужой речи стилистически сниженное слово завоевало права гражданства лишь в повествовании типа II.1, в частности в автобиографических книгах писателей с уголовным прошлым, таких, как А. Будар или А. Сарразен, где оно социально и психологически оправдано. Что же касается «анонимного» авторского повествования, то оно такую лексику не принимает — последняя, надо полагать, не согласуется с ролью, типовым образом писателя, существующим по сей день в головах читающей публики. Поэтому появление стилистически сниженного слова в авторском повествовании обычно воспринимается как сигнал заимствования точки зрения персонажа.
Количество «стилевых черт», по-видимому, можно было бы умножить. Следует, однако, помнить, что они важны и интересны не сами по себе, а именно как элементы той неповторимой и целиком не сводимой к логическим формулам системы, каковой является художественная манера автора. Выявляя тот или иной признак стиля, надо стараться понять, как он входит в эту систему, как согласуется с образом повествователя, какие новые штрихи добавляет он к этому образу. К сожалению, дать более конкретные указания относительно того, как это осуществить на деле, мы не можем. Успех здесь во многом зависит от эрудиции интерпретатора, от знания историко-литературного контекста, от читательского опыта и — последнее по счету, но не по важности — от интуиции. Без нее интерпретация текста превращается в мертвую схоластику.
§ 120. Заключение
Итак, мы последовательно рассмотрели основные уровни структуры эпического текста, выделяя важнейшие «конструктивные узлы» каждого уровня, т.е. проблемы, которые встают перед автором на соответствующем этапе работы над текстом, и указывая каждый раз наиболее распространенные решения этих проблем, зафиксированные в истории литературы. Конечно, всего многообразия как проблем, так и возможных решений нам охватить не удалось, да мы к этому и не стремились: литература бесконечно разнообразна и неисчерпаема; она живет и развивается, каждый день внося что-то новое в коллективный тезаурус человечества. Каждый подлинно художественный, а значит, и подлинно новаторский текст ломает устоявшиеся представления, неписаные нормы литературного творчества. Поэтому ни одна книга подобного типа не может дать готовые ответы на все вопросы, возникающие в процессе интерпретации художественного текста. Но таких ответов не могут дать и все существующие в мире монографии и статьи о литературе, вместе взятые. Интерпретация текста, как и простое чтение, всегда творчество или, точнее, сотворчество.
Однако мы убеждены, что, обращаясь к любому эпическому тексту, исследователь, в том числе и студент, занимающийся интерпретацией в учебных целях, не может пройти мимо проблем, которые мы затронули в этой книге. Без фабулы, сюжета и стиля эпического текста нет, и подлинное, содержательное, а не формальное его истолкование не может не обращаться ко всем трем основным уровням его структуры, так как текст существует как художественный лишь в их единстве. Но надо ни на минуту не упускать из виду, что анализ структуры текста — не самоцель, а средство постижения его смысла. Именно в этом, а не в выявлении структурных особенностей фабулы, сюжета и стиля состоит конечная задача интерпретации.
Интерпретация текста — сложная и трудоемкая работа. Если сложить вместе все параграфы и абзацы этой книги, посвященные рассказу Мопассана «В полях», который мы использовали в качестве демонстрационного материала, получится текст, в несколько раз превышающий по объему мопассановский, хотя содержание этого рассказа нам, конечно, не удалось исчерпать. Что же, это вполне естественно — такова специфика художественного текста. Его содержание подобно айсбергу: одна десятая на поверхности, девять десятых — под водой, в подтексте.
В самом деле, все те художественные смыслы, которые мы пытались сформулировать, говоря о композиции «Героя нашего времени», о повествователях в «Кармен» или о несобственно-прямой речи у Флобера, — все это различные аспекты подтекста, с разговора о котором мы начали эту книгу. Интерпретация текста — это и есть, в сущности, извлечение и формулирование подтекста, точнее интегрального смысла художественного произведения, который без подтекста просто не существует.
В заключение — два слова о рекомендуемом ходе работы над художественным текстом. Очевидно, что план этой книги, начиная с главы III, может служить и планом анализа. В частности, можно воспользоваться в качестве образца теми параграфами и отдельными замечаниями, которые посвящены новелле Мопассана «В полях», в особенности если объект интерпретации тоже короткий рассказ. Если же интерпретируется отрывок из большого текста, то необходимо хотя бы в общих чертах определить место этого отрывка в системе целого и лишь затем сосредоточиться на его внутренней структуре.
В ходе работы рекомендуется четко отделять фабулу от сюжета и стиля, но в рамках анализа двух последних уровней возможны перестановки по сравнению с предлагаемой здесь схемой. В частности, характеризуя образ повествователя, можно сразу же привлекать стилистические данные.
Остается пожелать читателю успешной, творческой работы.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
10 |
Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proches d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre féconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait quatre. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient six ans et les deux cadets quinze mois environs; les mariages, et ensuite les naissances, s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas; et les deux pères confondaient tout à fait. Les huit noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse; et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eaux de Rolle-port, était occupée par les Tuvache, qui avaient trois filles et un garçon; l'autre maison abritait les Vallin, qui avaient une fille et trois garçons. |
| 20 | Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. A sept heures, le matin, puis à midi, puis à six heures, le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois, vernie par cinquante ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et trois oignons; et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit. Un peu de viande au pot-au-feu, le dimanche, était une fête pour tous; et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant: «Je m'y ferais bien tous les jours.» |
| 30 | Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle: — Oh! regarde, Henri, ce tas d'enfants! Sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière! L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: — Il faut que je les embrasse! Oh! comme je voudrais en avoir un, celui-là, le tout petit. |
| 40 | Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser de caresses ennuyeuses. Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres; et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. |
| 50 | Elle s'appelait Mme Henri d'Hubières. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle; et, sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, elle pénétra dans la demeure des paysans. Ils étaient là, en train de fendre du bois pour la soupe; ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença: — Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien... je voudrais bien emmener avec moi votre... votre petit garçon... Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. |
| 60 | Elle reprit haleine et continua: — Nous n'avons pas d'enfants; nous sommes seuls, mon mari et moi ... Nous le garderions... Voulez-vous? La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda: — Vous voulez nous prend'e Charlot? Ah ben non, pour sûr. Alors M. d'Hubières intervint: |
| 70 | — Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions, par hasard, descendants, il partagerait également avec eux. Mais, s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de vingt mille francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et, comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de cent francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière s'était levée toute furieuse. — Vous voulez que j'vous vendions Charlot? Ah! mais non; c'est pas des choses qu'on d'mande à une mère, ça! Ah! mais non! Ce s'rait une abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi; mats il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Mme d'Hubières, éperdue, se mit à pleurer; et, se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglots, une voix d'enfant dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, elle balbutia: — Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas! |
| 80 | Alors, ils firent une dernière tentative. — Mais, mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole: — C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi... Allez-vous-en, et pi, que j'vous revoie point par ici. C'est i permis d'vouloir prendre un étant comme ça! Alors, Mme d'Hubières, en sortant, s'avisa qu'ils étaient deux tout petits, et elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée qui ne veut jamais attendre: — Mais l'autre petit n'est pas à vous? |
| 90 | Le père Tuvache répondit: — Non, c'est aux voisins; vous pouvez aller, si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Les Vallin étaient à table, en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre eux deux. M. d'Hubières recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuations, de précautions oratoires, d'astuce. |
| 100 | Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus; mais, quand ils apprirent qu'ils auraient cent francs par mois, ils se considérèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda: — Que qu't'en dis, l'homme? Il prononça d'un ton sentencieux: — J'dis qu'c'est point méprisable. Alors Mme d'Hubières, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur, et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda: — C'te rente de douze cents francs, ce s'ra promis d'vant l'notaire? M. d'Hubières répondit: — Mais certainement, dès demain. |
| 110 | La fermière, qui méditait, reprit: — Cent francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du p'tit; ça travaillera dans quéqu'z'ans ct'éfant; il nous faut cent vingt francs. Mme d'Hubières, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite; et, comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna cent francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussitôt, servirent de témoins complaisants. |
| 120 | Et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Vallin. Les parents, chaque mois, allaient toucher leurs cent vingt francs chez le notaire; et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache les agonisait d'ignominies, répétant sans cessa de porte en porte qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. |
| 130 | Et parfois elle prenait en ses bras son Charlot avec ostentation lui criant, comme s'il eût compris: — J't'ai pas vendu, mé, j't'ai pas vendu, mon p'tiot. J'vends pas m's éfants, mé. J'sieus pas riche mais vends pas m'séfants. Et, pendant des années et encore des années ce fut ainsi chaque jour; chaque jour des allusions grossières étaient vociférées devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot. Et ceux qui parlaient d'elle disaient: — J'sais ben que c'était engageant; c'est égal, elle s'a conduite comme une bonne mère. |
| 140 | On la citait; et Charlot, qui prenait dix-huit ans, élevé avec cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Vallin vivotaient à leur aise, grâce à la pension. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. |
| 150 | Il prenait vingt et un ans, quand, un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit: — C'est là, mon enfant, à la seconde maison. Et il entra comme chez lui dans la masure des Vallin. La vieille mère lavait ses tabliers; le père infirme sommeillait près de l'âtre. Tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit: — Bonjour, papa; bonjour, maman. |
| 160 | Ils se dressèrent, effarés. La paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia: — C'est-i té, m'n étant? C'est-i té, m'n étant? Il la prit dans ses bras et l'embrassa, en répétant: «Bonjour, maman.» Tandis que le vieux, tout tremblant, disait, de son ton calme qu'il ne perdait jamais: «Te v'ià-s-il revenu, Jean?» Comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et, quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit aux vieux: — Faut-i qu'vous ayez été sots pour laisser prendre le p'tit aux Vallin. |
| 170 | Sa mère répondit obstinément: — J'voulions point vendre not'éfant. Le père ne disait rien. Le fils reprit: — C'est-i pas malheureux d'être sacrifié comme ça. Alors le père Tuvache articula d'un ton coléreux: — Vas-tu pas nous r'procher d't'avoir gardé! Et le jeune homme, brutalement: — Oui, j'vous r'proche, que vous n'êtes que des niants. Des parents comme vous ça fait l'malheur des éfants. Qu'vous mériteriez que j'vous quitte. |
| 180 | La bonne femme pleurait dans son assiette. Elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié: — Tuez-vous donc pour élever d's éfants! Alors le gars, rudement: — J'aimerais mieux n'être point né que d'être c'que j'suis. Quand j'ai vu l'autre, tantôt, mon sang n'a fait qu'un tour. Jem'suisdit: «Vlà c'que j'serais maintenant.» Il se leva. — Tenez, j'sens bien que je ferai mieux de n'pas rester ici, parce que j'vous le reprocherais du matin au soir, et que j'vous ferais une vie d'misère. Ça, voyez-vous, j'vous l'pardonnerai jamais! |
| 190 | Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit: — Non, c't'idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie aut'part. Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Vallin festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et, se tournant vers ses parents, cria: — Manants, va! Et il disparut dans la nuit. |
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Методика поаспектного анализа литературного произведения, изложенная в «Интерпретации текста», приложима в первую очередь к сколько-нибудь протяженным текстам — таким, например, как разбираемая в книге новелла Мопассана. Однако, как было указано в § 41 возможен и иной метод работы — анализ может сопровождать, последовательно комментировать текст, фразу за фразой, повторяя тот путь, который проходит читатель. Такой последовательный анализ применим лишь к произведениям малого объема — короткому стихотворению, прозаической миниатюре, а также к коротким отрывкам, вычлененным из протяженных текстов.
Но и такая методика обязательно должна включать моменты, когда взгляд исследователя обращается к тексту в целом — за деревьями, как известно, леса не увидишь. При любой методике собственно интерпретации предшествует чтение текста от начала до конца, и, прежде чем углубиться в анализ первой фразы или абзаца, интерпретатор уже имеет общее представление о произведении и может предварительно судить о каких-то его аспектах. С другой стороны, любое осмысленное чтение текста — это не просто скольжение от фразы к фразе, а последовательная интеграция, усвоение, перевод на уровень глубинных смыслов всего содержания непрерывно растущего левого контекста, так чго каждая последующая фраза воспринимается не сама по себе, а как очередной шаг развертывания этого интегрального содержания, общего смысла. Из этого следует, что последовательный анализ должен все время возвращаться назад, к уже прочитанному и прокомментированному; а когда текст прочитан до конца и разобрана последняя фраза, совершенно необходимо обобщение, заключительный взгляд на весь пройденный путь.
Исходя из того, что практические занятия по интерпретации чаще всего проводятся именно на материале малых текстов или отрывков, автор счел необходимым включить в это пособие образец анализа двух миниатюр Жюля Ренара из сборника «Естественные истории». Интерпретация этих текстов выполнена согласно только что описанной методике — как последовательный анализ с использованием каких-то приемов поаспектного анализа там, где это представляется уместным и целесообразным.
О СБОРНИКЕ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ»
В 1895 году Жюль Ренар записал в своем дневнике: «Я хочу попытаться вставить в книжку целую деревню — всю целиком от мэра до свиньи» 2. Этот замысел целиком не осуществился (как не осуществился замысел молодого Толстого написать «Историю вчерашнего дня»), хотя о крестьянах Ренар писал практически всю свою жизнь и в конце концов сам стал мэром деревни, о которой идет речь. А «Естественные истории», вышедшие первым изданием в следующем, 1896 году, — это, фигурально выражаясь, о свинье, вообще о животных, с которыми постоянно сталкивается человек, живущий в сельской местности средней полосы Франции (характерно, что никаких экзотических зверей и птиц здесь нет). Иначе говоря, «литературные портреты» животных, каковыми является большинство текстов, входящих в сборник, должны рассматриваться как органическая (хотя, конечно, и не самая важная) часть образа французской деревни, созданного Ренаром.
Но у сборника есть и собственно литературные корни. Его название — «Histoires naturelles» — отсылает любого сколько-нибудь образованного читателя того времени к классическому труду известного писателя, философа и натуралиста XVIII века Жоржа Луи Бюффона «Естественная история» («Histoire naturelle générale et particulière»). Это колоссальное по объему и грандиозное по замыслу сочинение, в котором автор пытается охватить умственным взором чуть ли не всю картину мироздания — животных, птиц, рыб, растения, минералы, а также историю Земли, — не всегда заботясь о соответствии своих априорных построений естественнонаучным данным; достаточно сказать, что животные классифицируются не по их реальному родству, а по степени близости к человеку и полезности для него, причем, наряду с энциклопедическими сведениями, значительное место отводится этическим и эстетическим оценкам. Все это излагается высокопарным слогом, в лучших традициях классической риторики, что в значительной мере обусловило огромный успех сочинения у читающей публики того времени.
Название сборника Ж. Ренара почти повторяет название трактата Бюффона; разница лишь в числе: не «Histoire naturelle», a «Histoires naturelles», от чего, однако, коренным образом меняется значение слова histoire: если в единственном числе с данным прилагательным оно фразеологическое (histoire naturelle = естествознание), то во множественном histoires значит «истории», т.е. «рассказы» или «анекдоты». Таким образом, уже в самом названии — игра слов, приглашение к со-противопоставлению, указание на пародийность по отношению к Бюффону. Пародийный, юмористический характер сборника отмечал в своем дневнике и сам Ренар: «Бюффон описывал животных, чтобы доставить удовольствие людям. Я же хотел бы порадовать самих животных. Мне хотелось бы, чтобы мои «Естественные истории» вызвали улыбку у животных, если бы они могли их прочитать» (с. 320).
Тексты, входящие в сборник, разнообразны по объему и по характеру. Некоторые сводятся к одной или нескольким фразам, содержащим метафору или сравнение: «La Couleuvre. — De quel ventre est-elle sortie, cette colique?. L'Araignée. — Une petite main poilue crispée sur des cheveux. Le Corbeau. — L'accent grave sur le sillon 3.» С другой стороны, есть тексты, существенно более развернутые, занимающие несколько страниц (таких, правда, немного). Большинство же располагаются между этими двумя полюсами и занимают полстраницы-страницу.
По характеру фабульного материала тексты делятся на две группы: одни рассказывают какой-то случай, эпизод, соотносимый с определенным моментом времени и обычно происходящий с участием повествователя или других людей; другие же Являются вневременными статическими описаниями, собственно портретами животных.
Мы выбрали для анализа два средних по размеру текста, представляющих как ту, так и другую группу и, как мы надеемся, способных затронуть современного читателя. Для удобства рассуждения в том и в другом абзацы пронумерованы.
Le Cerf
1. J'entrai au bois par un bout de l'allée, comme il arrivait par l'autre bout.
2. Je crus d'abord qu'une personne étrangère s'avançait avec un pot de fleurs.
3. Puis je distinguai le petit arbre nain, aux branches écartées et sans feuilles.
4. Enfin le cerf apparut net et nous nous arrêtâmes tous deux.
5. Je lui dis:
— Approche. Ne crains rien. Si j'ai un fusil, c'est par contenance, pour imiter les hommes qui se prennent au sérieux. Je ne m'en sers jamais et je laisse ses cartouches dans leur tiroir.
6. Le cerf écoutait et flairait mes paroles. Dès que je me tus, il n'hésita point: ses jambes remuèrent comme des tiges qu'un souffle d'air croise et décroise. Il s'enfuit.
7. — Quel dommage! lui criai-je. Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t'offrais, de ma main, les herbes que tu aimes, et toi, d'un pas de promenade, tu portais mon fusil couché sur ta ramure.
Текст рассказывает о встрече с оленем в лесу. Такая встреча — не бог весть какое, но все же событие, предполагающее определенный исход. Поэтому в тексте явственно просматривается классическая пятичастная схема эпизода (см. § 52 «Интерпретации»): 1) положение дел до начала действия (первая половина 1-го абзаца); 2) событие, нарушающее равновесие, — встреча с оленем (1–4-й абзацы); 3) момент неопределенности: что сделает человек, что сделает олень? (5-й и 6-й абзацы, первая фраза); 4) развязка — олень убегает (6-й абзац, кроме первой фразы); 5) новая ситуация, возникающая после и в результате развязки (7-й абзац).
Поведение оленя вполне естественно и предсказуемо: при виде человека, да еще с ружьем, он убегает, хотя и не сразу. Что касается человека, то от него можно было бы ожидать и иной реакции, поскольку у него в руках ружье. И то, что побуждение воспользоваться им у него как будто вовсе не возникает, что вместо этого он пытается вступить с оленем в диалог, является самым существенным моментом фабулы.
По поводу этого текста авторитетный исследователь творчества Ренара Леон Гишар пишет: «Он хотел бы быть чем-то вроде святого Франциска 4 и беседовать с птицами и зверями» 5. На наш взгляд, эта формула точно передает общий дух текста и, в частности, речи повествователя, обращенной к оленю. Но францисканский мотив дружбы с диким зверем обнаруживается во всем строе текста, вплоть до синтаксического рисунка фраз. В первом абзаце, который предвосхищает и обобщает следующие три, обращает на себя внимание синтаксический параллелизм двух частей фразы: второе предложение, говорящее о животном (... comme il arrivait par l'autre bout), построено совершенно так же (даже с повторами, синонимическим и полным), как и первое, в котором речь идет о человеке. Этим сразу же как бы задается тон равенства между зверем и человеком. Забегая вперед, отметим, что в 4-м абзаце такой же эффект производит объединение зверя и человека в одном местоимении nous.
2–4-й абзацы соответствуют трем последовательным этапам сближения и узнавания. В каждом свой образ восприятия оленя человеком: во 2-м — незнакомец с цветами в горшке; в 3-м — карликовое дерево с растопыренными голыми ветками; в 4-м — олень, названный прямым словом (так сказать, нулевая метафора). Эти образы, в соединении с теми, что появляются в 6-м абзаце в совокупности составляют «портрет» оленя. И здесь любопытная закономерность: животное все время уподобляется растению (значительно чаще, в том числе и в творчестве Ренара, бывает наоборот: одушевляется неодушевленное). Видимо, это происходит потому, что олень — плоть от плоти леса; кроме того, что еще важнее, для Ренара растение — дерево или цветок — это и красота, и щедрость, и беззащитность, и высшая естественность. В его дневниковых записях, например образ дерева возникает тогда, когда автор говорит о собственной жене, о детях или о музыке (с. 364, 367); есть и такая запись: «Если бы мне удалось договориться с Богом, я попросил бы его превратить меня в дерево» 6. Таким образом, олень здесь удостоен наивысшего комплимента, на который способен автор.
В 5-м абзаце, помимо уже отмеченного «францисканского» мотива дружбы со зверем, который составляет его основное содержание, существенны два момента, характеризующие повествователя. Первый из них — это мотив самоуничижения, почти эксплицитно содержащийся в предложении «Si j'ai un fusil, c'est... pour imiter les hommes qui se prennent au sérieux». Если автор подражает «людям, принимающим себя всерьез», значит, сам себя он к таковым не причисляет. Второй же момент выводится не непосредственно из данного текста, а из контекста всего сборника. Дело в том, что в «Естественных историях» важное место занимает тема охоты — охоты за образами, впечатлениями (текст, открывающий сборник, так и называется — «Le Chasseur d'images»), но также и охоты в самом прямом смысле этого слова — на птиц и зверей. Так, например, почти рядом с «Оленем» располагается такой «жестокий» текст, как «Куропатки». Но в таком случае, говоря оленю, что он никогда не пользуется своим ружьем и даже патроны оставляет дома, повествователь явно лжет и при этом знает, что будет уличен во лжи читателем. «Ecrire, c'est presque toujours mentir», — запишет шесть лет спустя Ренар в своем дневнике.
В 6-м абзаце на мгновение как будто устанавливается контакт: «Le cerf écoutait et flairait mes paroles». Последний образ представляется очень точным: олень остается диким лесным зверем, который по-своему, по-звериному, воспринимает и оценивает человеческую речь, — un frère farouche, как позже Ренар назовет крестьянина. Но пока речь длится, олень стоит на месте — он убегает только тогда, когда человек замолкает. Это что же, магия слова — хотя бы и лживого?
Итак, францисканская идиллия не состоялась; дикий брат отверг предложенную дружбу, не поверил автору, как не поверят или не до конца поверят ему, даже избрав своим мэром, его двуногие дикие братья — жители деревни Шитри.
Да и смешно было бы надеяться на осуществление мечты о дружбе с лесным зверем — об этом почти прямо говорит последний, седьмой абзац текста. В том, что повествователь кричит оленю вслед, мечта доводится до абсурда: олень не только принимает пищу из рук охотника, но и несет его ружье на рогах! Повествователь издевается над самим собой, над своими иллюзиями.
В итоге — о чем же текст? О встрече с оленем в лесу? Да, но в первую очередь — о человеке, а не об олене: о предложенной и отвергнутой дружбе, о силе и слабости слова, о недостижимости правды и о несбыточности мечты.
Le Cheval
1. Il n'est pas beau, mon cheval. Il a trop de nœuds et de salières; il a les côtes plates, une queue de rat et des incisives d'Anglaise. Mais il m'attendrit. Je n'en reviens pas qu'il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner.
2. Chaque fois que je l'attelle, je m'attends à ce qu'il me dise: non, d'un signe brusque, et détale.
3. Point. Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d'aplomb, recule avec docilité entre les brancards.
4. Aussi je ne lui ménage ni l'avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu'à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre. Je le flatte de la main et de la voix. J'éponge ses yeux, je cire ses pieds.
5. Est-ce que ça le touche?
6. On ne sait pas.
7. Il pète.
8. C'est surtout quand il me promène en voiture que je l'admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l'arrête et il m'arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part.
9. Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié.
10. Est-ce qu'il ne va pas bientôt se réveiller de son demi-sommeil, et prenant d'autorité ma place, me réduire à la sienne?
11. A quoi pense-t-il?
12. Il pète, pète, pète.
Этот текст, в отличие от первого, представляет собой как будто чисто статическое описание, портрет лошади. В силу этого он непосредственно сопоставим с соответствующей частью трактата Бюффона. Глава о лошади открывает у последнего раздел, посвященный домашним животным (поскольку лошадь, по мнению Бюффона, занимает первое место среди них). Всего в ней около 60 страниц. Приведем (в сокращении) два отрывка из начала этой главы.
La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats; aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l'affronte; ... il partage aussi ses plaisirs; à la chasse, aux tournois, à la course, il brille, il étincelle; ... non seulement il fléchit sous la main de celui qui le guide, mais il semble consulter ses désirs ... c'est une créature qui renonce à son être pour n'exister que par la volonté d'un autre, qui sait même la prévenir, ... qui, se livrant sans réserve, ne se refuse à rien, sert de toutes ses forces, s'excède et même meurt pour mieux obéir.
Le cheval est de tous les animaux celui qui, avec une grande taille, a le plus de proportion et d'élégance dans les parties de son corps; ... la régularité des proportions de sa tête lui donne ... un air de légèreté qui est bien soutenu par la beauté de son encolure. Le cheval semble vouloir se mettre au-dessus de son état de quadrupède en élevant sa tête; dans cette noble attitude il regarde l'homme face à face; ... sa crinière accompagne bien sa tête, orne son cou, et lui donne un air de force et de fierté; sa queue traînante et touffue couvre et termine avantageusement l'extrémité de son corps ...
Отвлекаясь от разницы в объеме, следует отметить, во-первых, что у Бюффона речь идет о лошади вообще, а у Ренара — о вполне конкретном животном, принадлежащем автору. В этом можно усмотреть принципиальную установку, характерную для творчества Ренара в целом, — недоверие к широким обобщениям, стремление к «работе с натуры». Но главное в том, что у Бюффона — парадный портрет, а у Ренара — натуралистическая зарисовка, противопоставленная ему по всем линиям.
Как реплика в споре звучит уже самая первая фраза текста Ренара — «Il n'est pas beau, mon cheval», — и конкретизирующая ее,уничижительная характеристика в том же абзаце. В целом, если у Бюффона лошадь — гордое, темпераментное, изящное, пропорционально сложенное существо, смотрящее человеку прямо в глаза, беспредельно преданный и чуткий слуга и друг, не только понимающий, но и предупреждающий все желания хозяина, то у Ренара вместо этого хрестоматийного образа — страшноватая фигура тупого раба, который неизвестно, что думает и думает ли вообще, так как постоянно находится в состоянии полусна.
Контраст обнаруживается не только в образе лошади, но и в самой тональности текста, в его стиле. 1-й абзац сразу задает очень личную, разговорную, даже фамильярную интонацию. В этом отношении наиболее значимы сегментация в первом предложении, два слегка фамильярных, юмористически окрашенных сравнения — «queue de rat» и «incisives d'Anglaise» (последнее вывернуто наизнанку: принято считать, что у англичанок лошадиные зубы, а не наоборот) — и откровенно фамильярное — «Je n'en reviens pas que...» (т.е. «Je suis extrêmement surpris» в переводе на нейтрально-литературный язык).
Выше было отмечено, что «Лошадь» Ренара, в отличие от «Оленя», — статическое описание, лишенное действия. Однако в этой миниатюре есть своя внутренняя динамика — динамика авторского размышления и чувства; именно ей в первую очередь подчинен строй текста. И здесь обнаруживается, что «Лошадь» — не только пародия на Бюффона, что текст примечателен и без оглядки на классический образец.
Последняя фраза 1-го абзаца в первый раз формулирует основную идею текста, по существу резюмирует весь текст, но в легком, как уже было сказано, фамильярном тоне. Дальше идет развитие, конкретизация. Во 2-м и 3-м абзацах легкий, разговорный тон сохраняется (например, фамильярный глагол détaler). Интересно отметить, что сама разбивка на абзацы здесь подчинена внутренней, психологической динамике: разрыв между «je m'attends à ce qu'il me dise: non d'un signe brusque et détale» и ответом «Point», выделенным в отдельное предложение, воспринимается как интонационно-графический знак ожидания и удивления.
4-й абзац — нагромождение эмоционально и функционально синонимичных предложений; все вместе и каждое по отдельности они означают одно и то же: я о ней забочусь, как могу. Эта серия предложений тоже как будто воспроизводит спонтанный синтаксис (обычный для аффективной речи синонимический многократный повтор); но вместе с тем в ней обнаруживаются элементы строгой, почти стиховой организации: предложения сгруппированы попарно, и внутри каждой пары не только сходно построенные, но и равные по длине (по числу слогов) синтаксические единицы (ср.: «J'éponge ses yeux, je cire ses pieds»). А тон всего абзаца уже иной: беспокойный, оправдывающийся.
Затем следует серия из трех коротких абзацев-предложений: вопрос, который резюмирует это беспокойство, неопределенный ответ и, наконец, единственная реакция лошади, ее ответ на все явления внешнего мира, в том числе и на заботы хозяина: «Il pète». Контраст с 4-м абзацем просто кричащий — контраст между самими денотатами, действиями, и контраст чисто количественный: четыре строки, 60 слогов — и двусложная, предельно короткая фраза (тоже абзац!); наконец, контраст стилистический: конечно, никакой возвышенной лексики в четвертом абзаце не было, но едва допустимое в литературе слово, да еще в такой сильной позиции, производит впечатление настоящего взрыва. И естественно, что читатель начинает подозревать в нем наличие какого-то глубинного, скрытого смысла — аномалия стимулирует поиск подтекста (см. § 27–28 «Интерпретации»). И сама лошадь, несмотря на всю свою конкретность, приобретает какие-то, пока еще неопределенные, символические очертания.
В 8-м абзаце конкретизация основной мысли текста продолжается. Абзац в целом представляет собой типичный пример отстранения — литертурного приема, суть которого заключается в том, что самые обычные явления подаются как неожиданные, нелепые, странные. Удивление повествователя послушанием лошади выражено в серии одинаково построенных и в общем синонимичных предложений, сгруппированных попарно по такой схеме: 1) субъект (я) + предикат, выраженный глаголом побуждения, объектом которого является лошадь; 2) субъект (лошадь) + предикат, обозначающий действие, на которое было направлено побуждение; причем в каждой такой паре эта структура подчеркивается более частными синтаксическими соответствиями и даже полными лексическими повторами. И на этом фоне полной гармонии второе предложение последней пары вдруг ломает ритм, как бы сворачивает с наезженного пути: «... au lieu d'aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part»; т.е. фраза выступает как иконический знак того, чего не делает, но могла бы сделать лошадь 7.
В 9-м абзаце во фразе из трех совершенно одинаковых предложений, различающихся между собой лишь значимым субстантивным элементом аналитического глагола (peur, honte, pitié), развертывается, формулируется прямым, точным и сильным словом то, что в начале текста было несколько небрежно намечено, как «Je n'en reviens pas qu'il reste à mon service...».
10-й абзац подхватывает и развивает, обобщая ее, высказанную в 8-м абзаце мысль о бунте лошади. Формулируемый в нем вопрос уже трудно истолковать только в прямом смысле и трудно удержаться от параллели между миром животных и миром людей, между образом лошади и собирательной фигурой крестьянина в творчестве Ж. Ренара. Иначе говоря, комплекс вины перед лошадью — не отражение ли комплекса вины перед крестьянами, а воображенный автором бунт лошади — не отголосок ли подспудных мыслей о возможности крестьянской революции? Текст, во всяком случае, допускает такое толкование.
11-й абзац, в сущности, повторяет и тем самым усиливает сказанное в 5-м и 6-м абзацах. И заданный в нем вопрос находит такой же ответ в последнем, двенадцатом абзаце — троекратное (и тем отсылающее к 9-му абзацу) «Il pète, pète, pète». Эта троекратность отражает не столько интенсивность действия лошади, сколько эмоцию повествователя, вызванную тем, что можно истолковать как равнодушие, неблагодарность, а главное — невозможность взаимопонимания между хозяином и слугой.
Нетрудно усмотреть общность глубинной темы обоих разобранных нами текстов «Лошади» и «Оленя». И там, и здесь лучшие намерения повествователя — высшего, так сказать, по рангу — наталкиваются на стену непонимания и неблагодарности со стороны низшего. Эта тема, надо думать, была близка Ренару отнюдь не только применительно к животным.
Если вернуться теперь к Бюффону и попытаться очертить контуры общей картины мира, стоящей за «Естественной историей» последнего и за «Естественными историями» Ренара, то можно сделать следующий вывод. У Бюффона — оптимистический образ гармоничного и неизменного мира, где человек — венец творения, так сказать, абсолютный монарх, ни на секунду не сомневающийся в законности и незыблемости своей власти, вокруг которого в строго иерархическом порядке располагаются все остальные твари. У Ренара же, по крайней мере в лучших его миниатюрах, — видение странного, непроницаемого мира, где человек — не законный монарх, а узурпатор, неизвестно по какому праву властвующий над животными и растениями и осознающий незаконность своей власти над ними, король, не понимающий своих подданных и даже заискивающий перед ними, но все попытки которого найти с ними общий язык обречены на провал.
И последнее. На наш взгляд, далеко не все тексты сборника способны привлечь современного читателя, тем более что трактат Бюффона, духу и стилю которого они противостояли в момент их создания, в наше время прочно забыт, а соответствующий дух и стиль безвозвратно дискредитированы. Пока и поскольку Ренар не выходит за пределы «бестиария», зверинца, «Естественные истории» не становятся фактом большой литературы; несмотря на точность деталей и оригинальность образов, они остаются словесными безделушками, пусть даже мастерски сделанными. Ведь литература — это все-таки, прежде всего, человековедение. Но там, где истинной темой становится человек — в первую очередь сам автор с его комплексами и его проблемами — литературная игра порой перерастает в настоящую поэзию.
ПРИМЕЧАНИЯ
Глава I
1 См.: Степанов Г.В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа художественного текста. — В кн.: Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. М., Наука, 1982.
2 . Л., Просвещение, 1978.
3 Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. М.–Л., Просвещение, 1966, с. 66.
4 См.: Крат. лит. энцикл., 1978, т. 9, с. 330.
5 «Философия слова и лингвистика знают лишь пассивное понимание слова, притом по преимуществу в плане общего языка, то есть понимание нейтрального значения высказывания, а не его актуального смысла» (. — В кн.: Вопросы литературы и эстетики. М., Худож. лит., 1975, с. 94).
6 V.: . — Langue française, N° 4, décembre 1969. La sémantique, p. 31.
7 V.: Todorov T. Symbolisme et interprétation. P., Ed. du Seuil, 1978, p. 38.
8 «Высказывания всегда входят в определенные экстралингвистические ситуации, причем таким образом, что одни и те же языковые знаки могут передавать совершенно различные сообщения в различных ситуациях» (Ромметвейт Р. Слова, значения и сообщения. — В кн.: Психолингвистика за рубежом. М., Наука, 1972, С. 56).
9 , с. 153.
10 В некоторых коммуникативных ситуациях (человек пишет дневник или разговаривает сам с собой) в качестве адресата выступает сам адресант, но и тогда адресант и адресат не тождественны, потому что человек, выступающий в роли адресата собственной речи, всегда смотрит на самого себя как бы со стороны.
11 См. об этом: Леонтьев А.А. Психология общения. Изд-во Тартуского ун-та, 1974, с. 187 и сл., а также: Maingueneau D. Initiation aux méthodes de l'analyse du discours. Problèmes et perspectives. P., Hachette, 1976, pp. 143–144.
12 Вводимое нами понятие деятельностной ситуации в общем соответствует модели прошлого — настоящего и модели будущего, которые используются в психологии и психолингвистике. См. об этом: Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., КомКнига/URSS, 2007, с. 146–153.
13 Известная румынская исследовательница Т. Слама-Казаку пользуется для обозначения этого или сходного понятия термином «тотальный контекст» (см.: Slama-Cazacu T. Langage et contexte, s'Gravenhage, 1961, pp. 215–216). Во избежание омонимии мы предпочитаем сохранить термин «контекст» лишь за той частью деятельностной ситуации, которая получила словесное выражение в процессе общения между партнерами.
14 См.: . — В сб.: Структурализм «за» и «против». М., Прогресс, 1975, с. 198.
15 См.: Пиотровский Р.Г., Рахубо Н.П., Хажинская М.С. Системное исследование лексики научного текста. Кишинев, Штиинца, 1981.
16 См., например: Гак В.Г. Высказывание и ситуация. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики 1972. М., Наука, 1973, с. 358.
17 Подробнее об этом см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., УРСС, 2002, раздел «Человек в языке».
18 Репродукция одного из наскальных рисунков, найденных археологами в Сахаре; заимствовано из кн. Lhote H. A la découverte des fresques du Tassili, P., Arthaud, 1958.
19 Структура, которую высказывание приписывает референтной ситуации, в иной системе терминов называется семантической структурой или семантическим уровнем предложения (см., например: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. М., Высш. школа, 1981, с. 60).
20 См.: Пиотровский Р.Г., Рахубо Н.П., Хажинская М.С. Указ. соч., с. 20–21.
21 Такое толкование десигната (сигнификата) высказывания предлагает — хотя и в иных терминах — Г.Г. Сильницкий. См.: Сильницкий Г.Г. Семантические и валентностные классы английских каузативных глаголов. Автореф. докт. дис. Л., 1974 с. 3. Другие концепции десигната см. в кн.: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка, с. 10–11; Смысловое восприятие речевого сообщения. М., Наука, 1976, с. 39–43; Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., УРСС, 2004, с. 27 и сл.; . М., ЛКИ/URSS, 2007, с. 36–37.
22 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 162.
23 См.: Гак В.Г. Высказывание и ситуация, с. 366–367, 371–372; Он же. К диалектике семантических отношений в языке. — В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., Наука, 1976, с. 77–78 и 83–84; Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. М, УРСС, 2004, с. 142.
24 См.: Гак В.Г. О двух типах знаков в языке (высказывание и слово). — В кн.: Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967, с. 14–18.
25 Напомним, что темой в лингвистике называют слово или словосочетание, обозначающее объект или явление (как правило, известное), о котором сообщается нечто в предложении, и выступающее таким образом как исходная точка сообщения. Теме противопоставляется рема — часть предложения, содержащая то новое, что сообщается относительно уже известных элементов ситуации, названных в теме.
26 Причиной такой противоречивости суждений является нечеткость, размытость многих наших понятий и соответствующих им значений естественного языка. См. об этом: Пиотровский Р.Г., Рахубо Н.П., Хажинская М.С. Указ. соч., с. 10–12.
27 См.: , с. 184 и далее.
28 См., например: Адмони В.Г. Типология предложения. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., Наука, 1968, с. 288–289.
29 См.: Основы теории речевой деятельности. М., Наука, 1974, с. 25.
30 Кацнельсон С.Д. Указ. соч., с. 115, 120.
31 См. об этом: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис, с. 66–69.
32 Гак В.Г. Указ. соч., раздел «Коммуникативные категории предложения», 132–168; там же и библиография.
33 См.: Балли Ш. Французская стилистика. М., УРСС, 2001, с. 202–217; . Л., Просвещение, 1978, с. 229–257.
34 См.: Ван Дейк Т. Вопросы прагматики текста. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII, с. 293.
35 См.: Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., Наука, 1974, с. 68.
36 См.: Вежбицка А. Метатекст в тексте. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII. с. 407–409.
37 Подробнее о перформативах см.: Арутюнова Н.Д. Указ. соч., с. 46–48, а также; Maingueneau D. Op. cit., pp. 128–129.
38 См.: Реферовская Е.А. Лингвистические исследования структуры текста. Л., Наука, 1983, с. 5.
39 Вежбицка А. Указ. соч., с. 403.
40 Там же, с. 404.
41 Todorov T. Op. cit. и Maingueneau D. Op. cit.
42 В самом деле, car отнюдь не является простым синонимом parce que, так как выражает не объективную причину факта, описанного в предыдущем высказывании (как это делает parce que), а именно аргумент, основание, позволившее адресанту выразить мысль, содержащуюся в предыдущем высказывании: ... nous dûmes avoir la même pensée, car il me jeta un coup d'œil interrogateur, presque brutal (Sagan) .
43 Это выражение чаще употребляется именно в значении «Послушай» («Послушайте»), чем «Скажи» («Скажите»).
44 О конверсивах см.: Апресян Ю.Д. Указ. соч., с. 256–283, а также: Долинин К.А. Указ. соч., с. 176.
45 См. об этом: Рязанова Л.М. Формы наименования адресата речи в современном французском языке, Автореф. канд. дис. / ЛГПИ им. А.И. Герцена. Л., 1983.
46 См.: . М., Наука, 1971, с. 95.
47 Кондаков Н.И. Логический словарь. М., Наука, 1971, с. 395.
48 Иначе говоря, то важнейшее свойство правильно построенного текста, которое мы называем связностью, в очень большой мере основывается на взаимосвязанных сведениях относительно референтного пространства, которые содержатся в тезаурусе, как адресата, так и адресанта и не находят прямого выражения в речи. См. об этом: Беллерт И. Об одном условии связности текста. — Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII, с. 172–207.
49 V.: Todorov T. Op. cit., pp. 14–15.
50 Подробнее о пресуппозициях см.: Кифер Ф. О пресуппозициях. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII, а также: Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., Изд-во МГУ, 1976.
51 См.: Беллерт И. Указ. соч., с. 175–176.
52 V.: Ducrot О. Présupposés et sous-entendus; см. также: . — ВЯ, 1982, № 4.
53 V.: Gordon D., Lakov G. Postulats de conversation. — Langages, 1973, N° 30.
54 О. Дюкро называет его принципом мотивированности (Ducrot О. Dire et ne pas dire. P., Herman, 1972).
55 См.: Звегинцев В.А. Указ. соч.
56 Todorov Т. Op. cit., p. 29.
57 Ibid., p. 26.
58 Основы теории речевой деятельности, с. 305.
59 См.: Долинин К.А. Указ. соч., с. 28–31.
60 Кон И.С. Социология личности. М., Наука, 1967, с. 23.
61 Основы теории речевой деятельности, с. 306.
62 См.: . — В кн. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство, 1979.
63 Основы теории речевой деятельности, с. 307.
64 См.: Национально-культурная специфика речевого поведения. М., Наука, 7977, с. 48–50.
65 Звегинцев В.А. Указ. соч., с. 221.
66 См.: Степанов Ю.С. Французская стилистика. В сравнении с русской. М.: URSS, 2006. с. 21–24; Он же. Семиотика, с. 91–97; Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., Просвещение, 1981, с. 8–9; , гл. I; Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., Наука, 1980, с. 41–53.
67 Подробнее об этом см.: Долинин К.А. Указ. соч., с. 28–31.
68 См.: Национально-культурная специфика речевого поведения. М., Наука, 1977, с. 48–50.
69 О внутренней норме сообщения см.: Степанов Ю.С. Французская стилистика. В сравнении с русской. М.: КомКнига/URSS, 2006. с. 39, 288–289.
70 См.: Долинин К.А. Указ. соч., гл. IV.
71 V.: Todorov T. Op. cit., p. 25, et aut.
72 См.: . М., Искусство, 1970, с. 94–96.
73 См., например: Dubois J., Edeline F. et aut. Rhétorique générale. P., Larousse, 1970 (рус. пер.: Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкерберг Ж.М. и др. Общая риторика. М., Прогресс, 1986. Изд. 2. М.: КомКнига/URSS, 2006).
74 См.: Лабов Ч. Исследование языка в его социальном контексте. — В кн.: Новое в лингвистике. М., Прогресс, 1975. Вып. VII, с. 172.
75 См. об этом: Риффатер М. Критерии стилистического анализа. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1980. Вып. IX; Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., Просвещение, 1981, с. 53 и сл.; сходное понятие отклонения использует Ж. Дюбуа и его соавторы (см.: Dubois J., Edeline F. et aut. Op. cit.; рус. пер.: Дюбуа Ж. и др. Цит. соч.).
Глава II
1 См.: Основы теории речевой деятельности. М., Наука, 1974, с. 289.
2 Напомним, что мы имеем в виду типовые свойства жанров, потому что на практике возможны различные подходы к одним и тем же текстам: для критика, который собирается писать рецензию, или для студента, готовящегося к экзамену по литературе, роман явно включается в их профессиональную деятельность; с другой стороны какую-нибудь лоцию или даже железнодорожное расписание можно читать «просто так», «для интереса».
3 См.: Смысловое восприятие речевого сообщения. М., Наука, 1976, с. 42.
4 V.: Maingueneau D. Op. cit., p. 119.
5 См.: Долинин К.А. Указ. соч., гл. VII.
6 См.: Смысловое восприятие речевого сообщения, с. 40–41.
7 См.: Одинцов В.В. Стилистика текста. M.: КомКнига/URSS, 2006, с. 91.
8 Там же, с. 92.
9 См.: Долинин К.А. Указ. соч., гл. VI.
10 См.: Изенберг X. О предмете лингвистической теории текста. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Наука, 1978. Вып. VIII, с. 47–48.
11 См.: Лурия Л.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., Изд-во МГУ, 1975, с. 60–67. Изд. 2. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2007.
12 См.: Беллерт И. Указ. соч., с. 172.
13 Подробнее о лексико-семантических повторах как средстве связи между высказываниями в тексте см. в кн.: Реферовская Е.А. Указ. соч., с. 55–69.
14 Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и теории коммуникации. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979, с. 28.
15 См.: Одинцов В.В. Указ. соч., с. 111.
16 См.: Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, с. 28.
17 См.: Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979, с. 52.
18 См.: Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979, с. 51.
19 Там же, с. 62.
20 См.: Гаузенблас К. О характеристике и классификации речевых произведений. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII. с. 75–76.
21 См.: . М., Искусство, 1970, 70–71.
22 См.: Основы теории речевой деятельности, с. 253.
23 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., Гослитиздат, 1956, т. 10, с. 303.
24 Диалоги действующих лиц в данном случае в расчет не принимаются, так как мы рассматриваем отношение автор — читатель.
25 Добролюбов Н.А. Собр. соч. В 9-ти т. М., 1962, т. 5, с. 22.
26 Гегель Г. Соч. М., 1958, т. 14, с. 194.
27 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976, с. 341.
28 См.: Рунин Б.М. Логика науки и логика искусства. — В кн.: Содружество наук и тайны творчества / Под ред. В.С. Мейлаха. М., Искусство, 1968, с. 116.
29 Хотя в прошлом — в античные времена, да и позже — существовал жанр дидактической поэмы, например знаменитая поэма Тита Лукреция Кара «О природе вещей» (1 в. до н. э.), в которой автор излагал стихами атомистическую теорию Эпикура. Эту, с нашей точки зрения, странность можно объяснить тем, что в античные времена искусство и наука не противостояли друг другу так четко, как теперь.
30 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 258.
31 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 90-та т. М., Гослитиздат, 1956, т. 81, с. 46. Здесь и далее ссылки будут даваться на это издание.
32 Плеханов Г.В. Искусство и литература. М., Гослитиздат, 1948, с. 232.
33 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 7.
34 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 30, с. 18–19.
35 Добролюбов Н.А. Указ. соч., с. 22.
36 Шрейдер Ю.А. Стремление к новому синтезу. — Вопросы литературы, 1976, № 11, с. 31.
37 Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература. — Полн. собр. соч., т. 12, с. 104.
38 Долинин К.А. Указ. соч., с. 135–137, 141.
39 См.: Маркс К. К критике политической экономии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 7.
40 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 62 (примечание).
41 Парыгин Б.Д. Проблемы опосредованности в социальной психологии. — В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М., Наука, 1975, с. 38.
42 Нечкина М.Н. Функция художественного образа в историческом процессе. — В кн.: Содружество наук и тайны творчества. М., Искусство, 1968, с. 75.
43 Нечкина М.Н. Указ. соч., с. 75–76.
44 Мамардашвили М. Обязательность формы. — Вопросы литературы, 1976, № 11, с. 77.
45 Нечкина М.Н. Указ. соч., с. 88.
46 См. об этом: Крат. лит. энцикл., т. 6, статья «Род литературный», а также . — Полн. собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1954, т. 5; Кожанов В.В. К проблеме литературных родов и жанров. — В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., Наука, 1964, т. 2; Поспелов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., Наука, 1965; Тимофеев Л.И. Теория литературы. М., Просвещение, 1962.
47 Мы отвлекаемся здесь от того, что драму, как правило, воспринимают со сцены, а не читают.
48 Крат. лит. энцикл., т. 6, с. 322.
49 Крат. лит. энцикл., т. 5, с. 931.
50 Там же, т. 6, с. 322.
51 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 62, с. 268–269.
52 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 11.
53 Рунин Б.М. Логика науки и логика искусства. — В кн.: Содружество наук и тайны творчества, с. 126. См об этом также: Степанов Г.В. Несколько замечаний о специфике художественного текста. — В кн.: Сборник научных трудов МГПИИЯ. М., 1976. Вып. 103. Лингвистика текста.
54 Толстой Л.Н. Указ. соч., т. 62, с. 269.
55 . Л., Госиздат, 1925, с. 137. Существуют и другие толкования фабулы и сюжета (см., например Кожиное В.В. Сюжет, фабула, композиция. — В кн.: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., Наука, 1964, кн. 2).
56 Сапаров М. Художественное произведение как структура. — В кн.: Содружество наук и тайны творчества. М., Искусство, 1968, с. 163–164.
Глава III
1 См.: Бремон К. Логика повествовательных возможностей. — В кн.: Семиотика и искусствометрия. М., Мир, 1972, с. 112.
2 Это сходство было отмечено и использовано для анализа семантической структуры предложения французским ученым А. Греймасом (см.: Greimas A. Sémantique structurale. P., Larousse, 1966).
3 См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., УРСС, 2002, гл. «Человек в языке».
4 V. Albérès R.-M. Histoire du roman moderne. Nouvelle édition. P. Albin Michel, 1962, p. 400.
5 История французской литературы. М.–Л., Изд-во АН СССР, 1946, т. I, с. 347.
6 См.: . М.–Л., Гослитиздат, 1959, с. 99, 132.
7 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 287.
8 Там же, с. 278.
9 Впрочем, враждебные герою силы (а они обязательны, иначе не было бы конфликта) могут и не воплощаться в персонажах, например буря на море, неполадки в системах космического корабля, болезнь и т.п.
10 О конверсии см.: Апресян Ю.Д. Указ. соч., с. 256–283.
11 . Л , Academia, 1928, с. 45–46.
12 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 291.
13 Лотман Ю.М. Указ. соч. с. 295.
14 , М., Сов. писатель, 1970, с. 121.
15 Используя принятую нами терминологию, здесь следовало бы сказать не «движение сюжета», а «движение фабулы».
16 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 288.
17 См.: Томашевский Б.В. Указ. соч.
18 См.: Тодоров Ц.Тодоров Ц. Поэтика. — В кн.: Структурализм: «за» и «против». М., Прогресс, 1975, с. 86.
19 См.: Тодоров Ц. Указ. соч., с. 88.
20 Там же.
21 См. об этом: Долинин К.А. Указ. соч., § 112.
22 Крат. лит. энцикл., т. 7, с. 308. Думается, однако, что вряд ли правильно рассматривать волшебную сказку как жанр, для которого типично чисто хроникальное построение, т.е. дискретная фабула.
23 Крат. лит. энцикл., т. 7, с. 308.
24 В этом отношении характерно, что в рассказе Мопассана о некоторых событиях, несомненно важных для героев, например о смерти сына, сообщается лишь мимоходом: эти события не имеют прямого отношения к основному конфликту.
25 О фантастике в литературе см. статью «Фантастика». — Крат. лит. энцикл., т. 7, с. 887–895; а также: Todorov Т. Introduction à la littérature fantastique. P., Ed. du Seuil, 1971.
26 См.: . М., Худож. лит., 1965.
27 Подробнее об этом см.: Долинин К.А. О стиле романа «Остров пингвинов», — В кн.: Anatole France. L'ile des Pinguins. M., Ecole supérieure, 1967.
28 См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 236–242.
29 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 245. Согласно концепции М.М. Бахтина, роману такого типа присуще особое, гак называемое авантюрное время, выпадающее из повседневного и как бы не имеющее реальной длительности.
30 Бахтин М.М. Указ. соч., с. 247.
31 Бахтин М.М. Указ. соч., с. 247.
32 Крат. лит. энцикл., т. 8, с. 216.
33 Из доступных работ, посвященных этой теме, назовем прежде всего статью «Характер» (см.: Крат. лит. энцикл., т, 8), а также: Бахтин М.М. Эпос и роман. В кн.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики; Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства. — В кн: Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., Наука, 1962; . Л., Сов. писатель, 1971.
34 См : Бахтин М.М. Указ. соч., с. 476–477.
35 См.: Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 286.
36 Бахтин М.М. Указ. соч., с. 476.
37 Там же, с. 477.
38 Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 287.
39 Гегель Г.В.Ф. Эстетика. М., 1969, т. 2, с. 233.
40 См.: Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 80.
41 Эта тема глубоко и тонко исследована Л.Я. Гинзбург в ее книге , в разделе «Проблемы психологического романа». Излагаемые ниже соображения опираются главным образом на эту работу.
42 Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 295.
43 Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 296.
44 Там же, с. 321.
45 Там же, с. 312.
46 Там же, с. 317.
47 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 315.
48 «Термин «новелла» применяется обычно для обозначения краткого повествования с острой фабулой и неожиданной, но закономерной развязкой» (Крат. лит. энцикл., т. 6, с. 191 ).
49 Конечно, сама по себе эта частица еще не доказывает дворянского происхождения, однако в коротком рассказе такого писателя, как Мопассан, случайностей не бывает, и если персонажи носят такую фамилию и при этом их дворянство не ставится под сомнение, значит, фамилии нужно верить.
50 Цифры в скобках указывают на строки в Приложении.
51 Гинзбург Л.Я. Указ. соч., с. 422.
52 Там же, с. 422.
53 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 30, с. 5.
54 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 263–264.
55 По мнению Л.Н. Толстого, основная мысль романа, которую последняя сцена выражает «с необыкновенной силой», — это «негодование автора перед благоденствием и успехом грубого, чувственного животного, этой самой чувственностью делающего карьеру и достигающего высокого положения в свете, негодование и перед развращенностью всей той среды, в которой его герой добивается успеха» (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 30, с. 8–9).
56 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч., т. 30, с. 4.
57 В этот период (90-е годы XIX в.) Л.Н. Толстой чрезвычайно строго судил всю современную ему литературу; свои собственные художественные произведения (за исключением рассказа «Бог правду видит» и «Кавказского пленника») он тоже причислял «к области дурного искусства» (Там же, с. 163).
58 Dubois J. Enoncé et énonciation. — Langages, 1969, n° 13, mars.
Глава IV
1 Шкловский В.Б. Указ. соч., с. 81.
2 Эпштейн М.Н. Аналитизм и полифонизм во французской прозе (стили Стендаля и Бальзака). — В кн.: Теория литературных стилей. Типология стилевого развития XIX века. М., Наука, 1977, с. 266.
3 Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1952, с. 620.
4 , с. 80.
5 Крат. лит. энцикл., т. 9, с. 267.
6 Эткинд Е. Семинарий по французской стилистике. Часть I. Проза. 2-е издание. М.–Л., Просвещение , 1964.
7 Balzac H. de, Œuvres complètes, XXIII. P., Calmann-Lévy, 1879, p. 691.
8 См.: , с. 66.
9 Этими словами начинается последний кусок «Княжны Мери», повествующий о дуэли с Грушницким.
10 . Л., Худож. лит., 1969, с. 264.
11 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. IV, с. 146.
12 См.: Эйхенбаум Б.М. Указ. соч., с. 264.
13 Эйхенбаум Б.М. Указ. соч., с. 264, 299.
14 Там же, с. 265.
15 Зонина Л.А. Вступительная статья к кн.: Théâtre français d'aujourd'hui. M., Ed. du Progrès, 1969, p. 10. См. также: Шкловский В.Б. Художественная проза. Размышления и разборы. М., Сов. писатель, 1959, с. 264.
16 Лотман Ю.М. Указ. соч., с. 263.
17 Эйхенбаум Б.М. Указ. соч., с. 302–303.
18 «Не самый факт, а его преломление в человеческом сознании, так сказать, вступление его в сознание, является материалом художественного произведения», — писал В.Б. Шкловский, имея в виду восприятие классической античной трагедии зрителем той эпохи (Шкловский В.Б. Художественная проза. Размышления и разборы, с. 264).
19 Тодоров Ц. Поэтика, с. 93–94.
20 Интересное рассуждение на эту тему имеется в романе М. Бютора «Emploi du temps».
21 Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979, с. 63.
22 Лотман Ю.М. Указ. соч.
23 О теме и образе метафоры и сравнения см.: Долинин К.А. Стилистика французского языка, Л., Просвещение, 1978, § 55, 56, 61.
24 Пример заимствован из кн.: Шкловский В.Б. Художественная проза. Размышления и разборы, с. 35.
25 Пример заимствован из кн.: Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре. М.–Л., Гослитиздат, 1960, с. 135.
26 Шкловский В.Б. Указ. соч., с. 461–462.
27 См. Эткинд Е. Указ. соч., с. 170–174.
28 См.: Майенова М.Р. Теория текста и традиционные проблемы поэтики. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII, с. 434.
29 Шкловский В.Б. Художественная проза..., с. 345. См. также: , с. 71 и след.
30 См.: Майенова М.Р. Указ. соч., с. 432. О восприятии метафоры см.: Долинин К.А. Указ. соч., с. 139–144.
31 О романе тайн см.: Шкловский В.Б. Художественная проза..., с. 344–384.
32 См.: Ковтунова И.И. Структура художественного текста и новая информация. — В кн.: Синтаксис текста. М., Наука, 1979, с. 267.
Глава V
1 «Образ автора — это индивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» (Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., Высш. школа, 1971, с. 151–152). «В образе автора, как в фокусе, сходятся все структурные качества словесно-художественного целого» (Там же, с. 211).
2 . с. 200.
3 Виноградов В.В. Указ. соч., с. 118.
4 О точке зрения как центральной проблеме композиции в искусстве вообще и в художественной литературе в частности см.: . М., Искусство, 1970.
5 В этом отношении трудно согласиться с З.И. Хованской, которая утверждает, что в некоторых формах повествования события бывают представлены «независимо от чьей бы то ни было позиции» (см.: Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии. М.: Высш. шк., 1980, с. 229).
6 См.: , с. 172.
7 Следует, однако, учесть, что далеко не все писатели, прибегающие к такой форме повествования, в полной мере наделяют повествователя этим правом. К этому вопросу мы еще вернемся.
8 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 129.
9 Там же, с. 150.
10 Бахтин М.М. Указ. соч., с. 310.
11 Там же, с. 273–275.
12 Гуковский Г.А. Указ. соч., с. 202.
13 Там же.
14 Гуковский Г.А. Указ. соч., с. 203.
15 См., например, строфу XLX главы первой:
Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты ...и т.д.
16 , с. 77.
17 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 111 и след.
18 Помимо неоднократно цитировавшихся выше книг Г.А. Гуковского и Ю.М. Лотмана, см.: Брандес М.П. Стилистический анализ. М., Высш. школа, 1971, с. 64 и след.
19 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 118–130.
20 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 115–117.
21 Об условности такого показа содержания сознания см. ниже.
22 V.: Malblanc A. Stylistique comparée du français et de I'allemand. P., Didier, 1961, pp. 238–239.
23 Примеры заимствованы из кн.: Malblanc A. Op. cit., pp. 238–239; перевод цитируемых фраз на русский язык выполнен автором.
24 Эпштейн М.Н. Указ. соч., с. 235.
25 Там же, с. 236.
26 Там же, с. 238.
27 Полстолетия спустя ассоциативные механизмы памяти станут одной из главных тем творчества Марселя Пруста.
28 Подробнее об этом и о других лингвистических признаках заимствования точки зрения героя см. ниже, § 102.
29 , с. 209.
30 Характеризуя образ автора в «Соборе Парижской богоматери», Б.Г. Реизов писал: «Гюго принимает позу не то историка-повествователя, не то режиссера кукольного спектакля: он не хочет перевоплощаться в своих персонажей, он сохраняет себя как автора и постоянно высовывает голову из-за кулис, чтобы непосредственно обратиться к зрителям своего театра» ( Реизов Б.Г. Французский исторический роман в эпоху романтизма. Л., Гослитиздат, 1958, с. 545–546).
31 См.: Эпштейн М.Н. Указ. соч., с. 256.
32 Мы можем порекомендовать, в частности, сцену вечера у г-жи де Баржетон (кн.: Balzac Honoré de. Illusions perdues. M., Ed. en langues étrangères, 1952, pp. 73. 100). Подробный разбор см.: Эткинд. Е. Указ. соч., с. 129–136.
33 Flaubert G. Correspondence. Deuxième série. P., Charpentier, 1889, p. 155.
34 Ibid., p. 72.
35 Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., Гослитиздат, 1955, с. 164.
36 В этой связи нередко называют также имя Марселя Пруста, что представляется необоснованным. Пруст не фиксирует поток сознания, а анализирует post factum сложные психические процессы.
37 Эту особенность литературы XIX и первой половины XX в. весьма эмоционально критиковал в своих статьях Ж.-П. Сартр (см.: Sartre J.-P. Qu'est-ce que la littérature? P., Gallimard, 1964.
38 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 90–91.
39 Une interview de Claude Simon, in: Simon Claude. La route des Flandres. P., 1963, p. 274.
40 См., например: Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. М., Изд-во МГУ, 1975, с. 44–48.
41 V.: Mérimée P. Nouvelles. 3e édition. Moscou, Ed. du Progrès, 1976. В дальнейшем даются ссылки на страницы этого издания.
42 Мы отвлекаемся здесь от того обстоятельства, что Хосе строго говоря, не испанец, а баск, т.е. тоже не вполне «свой» в этом пространстве. Это облегчает его сближение с Кармен, тем более что она умеет говорить по-баскски и при первом знакомстве выдает себя за землячку Хосе (с. 507–508).
43 Правда, в этом случае возможен незапланированный сдвиг в читательском восприятии, если, например, читатель сам принадлежит тому же пространству, что и рассказчик. Так, по свидетельству французских учителей, некоторые подростки воспринимают роман Блие (и в особенности фильм, поставленный по роману) не как осуждение, а как апологию аморализма и хулиганства.
44 См.: , с. 126.
45 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики с. 127–128.
46 Лотман. Ю.М. Указ. соч., с. 327; см. также: Гуковский Г.А. Реализм Гоголя, с. 203; Успенский Б.А. Указ. соч., с. 174.
47 Такая двойственность позиции повествователя, рассказывающего о своем прошлом, — явление вполне естественное и закономерное: рассказывающий субъект отделен от действующего субъекта дистанцией во времени, он уже не тот, что был, его позиция изменилась — он знает, что будет дальше и чем все кончится. Однако мысленное возвращение к прошлому может возбудить с большей или меньшей силой тот комплекс ощущений, который сопровождал событие в момент его свершения. Поэтому в рассказе о собственном прошлом возможно совмещение или чередование позиций — той, которая соответствует времени действия, и той, которую субъект занимает в момент повествования. См. об этом: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 92–93.
48 О «цыганском мифе» в европейской литературе первых десятилетий XIX в. см.: Реизов Б.Г. Из истории европейских литератур. Л., Изд-во ЛГУ, 1970, с. 29–32.
Глава VI
1 См.: Хованская З.И. Указ. соч., с. 227.
1 Гей Н.К. Сопряжение пластичности и аналитичности. — В кн.: Теория литературных стилей. Типология стилевого развития XIX века. М., Наука, 1977, с. 140.
3 Чичерин А.В. Идеи и стиль. О природе поэтического слова. М., Сов. писатель, 1968, с. 262.
4 Эпштейн М.Н. Указ. соч., с. 242.
5 Там же, с. 243.
6 Там же, с. 241.
7 Арутюнова Н.Д. О синтаксических разновидностях прозы. — В кн.: Сборник научных трудов / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1973. Вып. 73, с. 184.
8 — ВЯ. 1962, № 2, с. 91.
9 См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 127–128.
10 Этой проблеме специально посвящена гл. IV работы М.М. Бахтина «Слово в романе» (см.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 144–178. См. также: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 46–76).
11 Пример заимствован из кн.: Maingueneau D. Op.cit., p. 123.
12 Ibid., pp. 123–124.
13 См.: Maingueneau D. Op. cit., p. 124; Успенский Б.А. Указ. соч., с. 51–52.
14 Maingueneau D. Op. cit., p. 124.
15 V.: Maingueneau D. Op. cit., pp. 124–125.
16 См., например: Кожевникова К. Спонтанная устная речь в эпической прозе. Praha. Universita Karlova, 1970; Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., УРСС, 2003 , с. 67–75; Винокур Т.Г. О языке современной драматургии. — В кн.: Языковые процессы современной русской художественной литературы. Проза. М., Наука, 1978; Полищук Г.Г., Сиротинина О.Б. Разговорная речь и художественный монолог. — В кн.: Лингвистика и поэтика. М., Наука, 1979.
17 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 64.
18 См.: . Л., Просвещение, 1978, с. 280–282.
19 См.: Васильева А.И. Художественная речь. М., Русский язык, 1983, с. 79–80.
20 Pulsus bonus, urina bona, sed aeger moritur. — лат. Пульс хороший, моча хорошая, а больной умирает.
21 Цитируется по кн.: Писатели Франции. М., Просвещение, 1964, с. 515.
22 Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в художественной прозе Луи Арагона. Киев, Изд-во Киевск. ун-та, 1967, с. 7.
23 См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 118.
24 В переводе А.В. Федорова этот абзац звучит так: «Словом, его “не проведешь”, он “разуверился во всем этом”. Ведь это все равно, что морской змей, отмена Нантского эдикта и “старая басня о Варфоломеевской ночи”».
25 См.: Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики, с. 130–132.
26 Там же, с. 134.
27 Реизов Б.Г. Творчество Флобера, с. 290.
28 Во время немецкого наступления в июне 1940 г. французское правительство эвакуировалось в Тур; messieurs en veston noir — французские министры.
29 См. . Л., Просвещение, 1978, с. 249–251.
30 А.Н. Васильева предлагает именовать несобственно-прямую речь, где преобладает авторское слово, несобственно авторской речью, сохранив термин «несобственно прямая речь» за такими построениями, где преобладает голос персонажа (см.: Васильева А.И. Указ. соч., с. 110–111). Это предложение можно было бы принять, если бы между названными разновидностями была хоть сколько-нибудь четкая грань; но, поскольку разница между ними, по крайней мере во французском языке, чисто количественная, вряд ли есть смысл усложнять терминологию.
31 , с. 133.
32 Не случайно тот скрупулезный анализ душевных движений, который мы находим у М. Пруста, насквозь метафоричен.
33 См.: Васильева А.Н. Указ. соч., с. 107.
34 «Это есть объект, наглядно обозначаемый одновременно с протекающим актом речи» (Бенвенист Э. Указ. соч., с. 287).
35 Подробнее об этом см.: Долинин К.А. О стиле романа «Остров пингвинов» (в кн.: Anatole France. L'lle des Pingouins. M., Ecole supérieure, 1967).
36 Классический пример — «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря, где Цезарь говорит о самом себе в третьем лице; другой, современный пример — роман А. Камю «Чума», формально представляющий собой повествование типа I.1; лишь к концу выясняется, что вся история рассказана одним из персонажей, доктором Риё.
37 Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., Высш. школа. 1971, с. 126.
38 Крат. лит. энцикл., т. 6, с. 876.
39 , с. 210.
40 Конечно, в свете данных современной лингвистики, Мериме можно было бы упрекнуть в том, что его Хосе порой употребляет конструкции, более характерные для письменной, чем для устной речи, например развернутые причастные обороты. Но не следует забывать, что его рассказ передается повествователем-французом в письменной форме.
41 См.: Успенский Б.А. Указ. соч., с. 70.
42 Виноградов В.В. Указ. соч., с. 128.
43 Крат. лит. энцикл., т. 7, с. 180, статья «Стилизация». В дальнейшем некоторые положения и формулировки из этой статьи, написанной автором настоящей книги, даются без сносок.
44 Icherzählung — нем. рассказ от первого лица.
45 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., Сов. Россия, 1979, с. 224.
46 Бахтин М.М. Указ. соч., с. 217.
47 См.: . Л., Просвещение, 1978, § 45–51.
48 См.: Хованская З.И. Указ соч., с. 13.
49 Мы, естественно, не включаем в это число образные выражения, ставшие фразеологизмами, такие, например, как se tuer pour faire qch или mon sang n'a fait qu'un tour.
50 Помимо работ, указанных в «Стилистике» (сноски на с. 125–126), о звуковом символизме см.: . М., Просвещение, 1981.
51 Эпштейн М.Н. Указ соч., с. 238–239.
52 , с. 216. О рифме см. также: Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л., Просвещение, 1972, с. 59–63.
53 Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., Просвещение, 1981, с. 62.
54 Там же, с. 62–63.
55 См.: Эпштейн М.Н. Указ. соч., с. 248–249, 256–257.
56 См.: Салямон Л.С. О физиологии эмоционально-эстетических процессов. — В кн.: Содружество наук и тайны творчества. М., Искусство, 1968.
57 См.: Долинин К.А. Стилистика французского языка, с. 148–149.
58 См. Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 334.
59 Степанов Ю.С. Французская стилистика, с. 334.
60 О методике такой обработки и минимально необходимых для этого статистических инструментах см.: Головин Б.Н. Язык и статистика. М., Просвещение, 1971.
61 Примеры заимствованы из. Резник Р.Л. Субстантивный стиль в романах Э. Золя. — В кн.: Стилистические проблемы французской литературы. Л., ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1975, с. 43.
62 Там же.
63 V.: Barthes R. Le degré zéro de l'écriture. P., Gonthier, (1965), pp. 59–64.
64 Мы отвлекаемся в данном случае от проблемы первичной и вторичной номинации; известно, что при вторичном наименовании объекта во французском языке используются преимущественно слова общего значения.
65 Эпштейн М.Н. Указ. соч., с. 256.
66 Barihes R. Op. cit. pp. 71–72.
Приложения
1 Впервые опубликовано в кн.: Долинин К.А. Практикум по интерпретации текста. — М.: Просвещение, 1992.
2 Renard J. Œuvres choisies — Moscou, 1958 — P. 318. В дальнейшем ссылки на страницы этого издания даются непосредственно в тексте, в скобках.
3 Подробный анализ «Вороны» см.: . М.: Просвещение, 1987. с. 138. Анализ еще одной миниатюры Ренара — «Les Fourmis» — дан в § 112 «Интерпретации».
4 Св. Франциск Ассизский — итальянский проповедник XIII в., основатель ордена францисканцев. Согласно преданию, св. Франциск одушевлял всю природу и рассматривал животных как братьев и сестер человеческих.
5 Guichard L. Renard. — P., 1961. — P. 14.
6 Guichard L. Цит. соч. — С. 110.
7 Этот образ подробно проанализирован в § 113 «Интерпретации текста».
Литература
Основная
Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л., Просвещение, 1981.
. М., Худож. лит., 1975.
Брандес М.П. Стилистический анализ. М., Высш. школа, 1971.
. М., Гослитиздат, 1959.
Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., Высш школа, 1971.
. Л., Просвещение, 1978.
Домашнев А.И., Шишкина И.П., Гончарова Е.А. Интерпретация художественного текста. М., Просвещение, 1983. Краткая литературная энциклопедия, т. 1–9. М., Сов. энциклопедия, 1962–1973 (статьи, соответствующие основным разделам курса).
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., Искусство, 1970. Основы теории речевой деятельности. М., Наука, 1974 (гл. 2, 3, 16, 17, 20). Смысловое восприятие речевого сообщения. М., Наука, 1976 (гл. 2, разделы I и II).
Степанов Ю.С. Французская стилистика. В сравнении с русской. М.: URSS, 2006.
Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. М., Просвещение, 1976.
. — В кн.: Структурализм «за» и «против». М., Прогресс, 1975.
. М., Искусство, 1970.
Хованская З.И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии. М., Высш. школа, 1980.
. М., Сов. писатель, 1970.
Эткинд Е. Семинарий по французской стилистике. Часть 1. Проза. 2-е издание. М.–Л., Просвещение, 1964.
Дополнительная
Анализ литературного произведения. М., Наука, 1976.
Анализ художественного текста. М., Просвещение, 1975.
Беллерт И. Об одном условии связности текста. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., Прогресс, 1978. Вып. VIII. Лингвистика текста.
Виноградов В.В. Стилистика. Поэтика. Теория поэтической речи. М., Изд-во АН СССР, 1972.
Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. М.–Л., Просвещение, 1966.
Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Л., Просвещение, 1979.
Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. М., Худож. лит., 1974.
Одинцов В.В. Стилистика текста. М.: КомКнига/URSS, 2006.
Dubois J., Edeline F., Klinkenberg J.-M. et autres. Rhétorique générale. P., Larousse, 1970.
Maingueneau D. Initiation aux méthodes de l'analyse du discours. P., Hachette, 1976 (ch. III et IV).
Todorov T. Poétique de la prose. P., Ed. du Seuil., 1978.