Очерки по истории семиотики в СССР
| Вяч. Вс. Иванов Очерки по истории семиотики в СССР | Глава первая | Глава вторая | Глава третья | Глава четвертая | Литература |
1.
Эстетическая теория С.М. Эйзенштейна, некоторые частные положения которой разбирались в предыдущей главе, по праву считается созвучной основным идеям современной семиотики и структурной поэтики (ср. Жолковский и Щеглов 1967). Вместе с тем эта теория была очень близка всему тому направлению работ, которое было охарактеризовано выше – с их подчеркнуто диахроническим характером, причем в концепции Эйзенштейна на первый план выдвигалась проблема синкретизма.
Одной из главных особенностей мысли Эйзенштейна (здесь не расходившейся с главенствующей тенденцией науки предшествующего и лишь отчасти своего века) было стремление понять исходные начала каждого явления. Он много раз подчеркивал ранний возраст кино, объясняя этим свои сравнения кино с архаичными формами культуры. При занятиях связью между звуковыми и зрительными восприятиями, важной для эстетики кино, Эйзенштейн начинает с их биологических эволюционных предпосылок. Из еще не напечатанных дневников, которые Эйзенштейн вел во время съемки фильма к Мексике, видно, что эти истоки уже тогда он искал в первоначальной недифференцированности мозга («omni – мозга», т.е. всеобщего, универсального мозга) с еще нерасчлененными восприятиями на низших ступенях эволюции. Не случайно в «Программе преподавания теории и практики режиссуры», составленной Эйзенштейном, раздел «Истории развития выразительного проявления» начинался с анализа «выразительного проявления растений» (т. 2: 142) – тропизмов (чем предвосхищалось заглавие известной книги П. Саррот, также сопоставившей тропизмы с человеческим художественным восприятием). Эйзенштейна занимал «период, когда еще нет глаз» (т. 4: 178), когда «зрения нет», как писал в те же годы Мандельштам в стихотворении, посвященном в точности той же мысли и кончающемся образами, которые построены на перекличке восприятий разных (как бы еще не дифференцированных) органов чувств на начальных ступенях эволюции:
Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей.
По упругим сходням, по излогам,
Сокращусь, исчезну, как протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: «Природа вся в разломах,
Зренья нет, – ты зришь в последний раз».
Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил,
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил».
И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила.
Словно шпагу, в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.(Мандельштам 1974:163)
В недавно опубликованных записях о натуралистах, сделанных в те же годы, Мандельштам говорил: «Ламарк чувствует провалы между классами. Это интервалы эволюционного ряда. Пустоты зияют. Он слышит синкопы и паузы эволюционного ряда» (Мандельштам 1968: 190). Основываясь на данных исторической семантики школы Марра, занимавшей в те годы и Эйзенштейна, Мандельштам утверждал, что в древности значения «видеть, слышать и понимать... сливались когда-то в одном семантическом пучке». (Мандельштам 1968: 180). Поэтому и в метафоре «зрячих пальцев» из более раннего стихотворения Мандельштама «Я слово позабыл» можно видеть образное возвращение к тому синкретизму чувств, о котором тогда же столько писал и говорил в лекциях Эйзенштейн.
Немногим меньше года после публикации стихотворения «Ламарк» Б. М. Эйхенбаум, набрасывая тезисы к докладу «О Мандельштаме» (14 марта 1933 г.), писал о Мандельштаме: «биологизм его не антиисторичен и поэтому не асоциален». Он раскрывал «биологизм как визионерство и как широкий семантический круг для “я”» (Эйхенбаум 1967: 168).
Спустя два года после написания Мандельштамом «Ламарка» и в тот же год – 1934, когда Эйзенштейн пишет «Режиссуру», где почти дословно повторяет те же мысли, в романе Р. Кено «Gueule de Pierre» (впоследствии вошедшем в переработанном виде в роман «Saint Glinglin», впервые изданный в 1948 г.) мы читаем рассуждение героя (во втором варианте романа – Пьера Набонида): «Может быть, медленный и долгий спуск был бы предпочтительнее. Я искал бы в обезьянке все то, что в ней еще остается от человеческого начала, потом это же я искал бы в собаке, в кошке, в слоне, в еноте, наконец, в утконосе; потом в птицах. Дойдя до пресмыкающихся, я бы начал впервые предчувствовать трещину, отделяющую от человеческого. Рыбы, хотя они еще позвоночные, вызывают уже вполне определенное беспокойство. С беспозвоночных начинается отчаяние.
Но этот путь был бы слишком долог. Я ищу не последовательной убыли человеческого начала в разных видах, а зари нечеловечности» (Кено 1948: 2). По мнению исследователя творчества Кено, «заря нечеловечности» составляет основную тему его книги (Кеваль 1960: 192). В приведенном отрывке из книги Кено весь ход последовательного спуска от человека к беспозвоночным вниз по ступенькам эволюции почти дословно совпадает с приведенным стихотворением Мандельштама и со всем ходом мыслей Эйзенштейна. «Разряды насекомых» выделены и в стихах Мандельштама; в них «разломы» возникают там же, где «трещины» в рассуждении героя Кено. Описывая этот же путь эволюции по отношению к зрению, Эйзенштейн особенно подробно останавливался на устройстве глаза у насекомых.
О неподвижности глаза насекомых и рептилий Эйзенштейн вспомнит, занимаясь регрессивностью маски, для которой характерна неподвижность глаз (GP, заметка «Мне сегодня 46 лет. Косметика», датированная 23.1.1944 г.). При разборе отрывка из романа Бласко Ибаньеса Эйзенштейн в качестве одного из средств передачи экстаза упоминает регресс зрения «на две фазы позади от теперешнего уровня его состояния» (GP, 28 VI.1947). «Зрение низводится еще на одну стадию, эволюционно предшествующую подвижному глазу – на стадию глаза неподвижного, но многофацетного (муха, стрекоза)» (там же).
Как бы повторяя в обратном порядке то регрессивное движение, которое в цитированных строчках описывает Мандельштам –
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз –
Эйзенштейн изучает «эволюцию глаза – от одноточечного неподвижного глаза к неподвижному глазу насекомого, уже многофацетному, многоточечному, но в себе еще статичному, и, наконец, к глазу снова одноточечному, но динамичному, подвижному» (т. 4: 595); так же позднее и история кинематографа им излагается в движении от кинематографа с одной неподвижной точки съемки к динамическому кино.
Эйзенштейн писал в трактате «Режиссура»: «Есть период, когда еще нет глаз, и они вырабатываются в процессе дифференциации осязания как частный случай осязания. Другая сфера осязания вырабатывается как вкусовой определитель. Третья – как слуховой и т.д.» (т. 4: 178). К этой теме в трактате «Режиссура» Эйзенштейн возвращается в нескольких местах в связи с глубоко его занимавшим (и обсуждавшимся в других его работах, в частности в «Вертикальном монтаже») синэстетизмом (использованием разных видов чувственного восприятия) японского театра Кабуки: «отдельные разряды чувств развились из одного общего – из осязания» (т. 4: 327).
П.А. Флоренский, высказывавший в 1924 г. точки зрения на семиотику изобразительных искусств, весьма близкие к эйзенштейновским, давал им биологические объяснения, почти дословно совпадающие с высказанными одним и двумя десятилетиями спустя идеями Эйзенштейна: «мысль о зрении как осязании высказывалась неоднократно, и, в частности, поддерживается сравнительно анатомически и эмбриологически; глаз вместе с другими органами восприятия происходит из того же зародышевого листка, что и кожа, орган осязания; в этом отношении глаз и кожа представляются попавшими на поверхность тела органами нервной системы. Несколько огрубляя дело, можно сказать, что организм одет в один сплошной нерв, облечен в орган восприятия, т.е. в животную душу. Глаз есть тогда некий узел утончения, особенно чувствительное место кожи с частной, но особенно тонкой решаемой задачей» (см. Иванов 1973 в: 163).
В том же разборе романа Бласко Ибаньеса Эйзенштейн, говоря о разных этапах экстатического регресса в описании зрения, отмечал, что не только «снимается дифференциация чувств в апперцепции», но «зрение низводится на самую низшую его стадию, когда нет еще «глаза», когда глаз еще многоместно расположенные сверхчувствительные пятна, не стянувшиеся в системе хрусталиковой линзы и пр[очих] «технических усовершенствований»» (GP, 28 VI.1947). Параллель этому – в соответствии со своей гипотезой об отражении древнейших архетипов в мифологии – Эйзенштейн находил в «мифологическом многоглазом Аргусе древности и соответствующем китайско-японском чудище с глаза[ми], рассыпанными по всей его поверхности» (там же).
Замечая, что наше тело сохранило чувствительность к лучам разного рода (ультрафиолетовым, космическим и т.п.), продолжающую «полисветочувствительность всей поверхности тела – гелиотропизм растения», Эйзенштейн в этой связи отмечает действие облучения ониксом: «Статуям делали ониксовые глаза, при нагреве солнцем повышалась их излучающая способность: «взгляд бога» действовал физически реальным излучением» (там же). Здесь Эйзенштейн со свойственной ему проницательностью отметил одну из существенных проблем сравнительной мифологии, устанавливающей разительное сходство мифов и ритуалов Индии, Египта, древней Америки, касающихся «глаза бога» и ежегодного его обновления (осуществляющегося путем соответствующей церемонии вставления глаза в статую бога, помазания драгоценного камня, изображающего глаз и т.п.) (Иванов 1973 и: 162 с литературой вопроса). Стоит заметить, что проблемы глаза бога – Вотана (Одина) Эйзенштейн касается и в связи со своей работой над древнегерманской мифологией в вагнеровской интерпретации (т. 5: 333), с глазом бога на мировом дереве (рис. 1) сходен функционально и глаз быка на рисунке Эйзенштейна (Эйзенштейн МП:36).
| Рис.1. Древнемексиканский рисунок из ацтекского кодекса, изображающий мировое дерево с глазом бога на его вершине  |
Эйзенштейна недаром так интересовала мифологическая предыстория теорий эволюции. Глубокий эволюционизм, последовательно проведенная диахроническая структурная точка зрения составляли отличительную черту всех сочинений Эйзенштейна, написанных им в последний период жизни. Приведенные мысли об эволюции зрения могут служить лишь одним из многих возможных примеров. Здесь Эйзенштейн следовал той линии, которая была общей для всего рассмотренного выше круга ученых от Выготского и Давиденкова до Фрейденберг и Бахтина.
Эйзенштейна волновал общий для современной науки и искусства круг вопросов, касающийся проблемы времени – этой «центральной драмы персонажей XX столетия» (т. 1: 213), как он пишет в своих автобиографических записках. Эйзенштейн, начиная с поездки в Мексику, думал о фильмах (посвященных Мексике, Москве, Фергане, потом снова Москве), где время было бы одним из главных героев (Иванов 19746). Эти замыслы предполагали более широкий охват времени, чем его исторические фильмы. Занимаясь проблемой времени в современном романе и театре (в частности, у Пристли), Эйзенштейн намеревался применить приемы «перескакивания» во времени в своем последнем фильме о Москве. В заметке, датированной 7 сентября 1946 г., Эйзенштейн писал: «Вопрос времени [;] перескок времени [;] Фергана [,] Пристли» (GP, 7. IX.1946).
Замысел фильма «Москва» (к которому Эйзенштейн вернется позднее, перед смертью), с одной стороны, связан с этими подготовительными работами по русской истории, с другой стороны, – с идеями взаимосвязи разных эволюционных эпох. В связи с этой второй проблемой сценарий «Москва» Эйзенштейн разбирает в своих (относящихся к «Grundproblem») теоретических, записях «Зараза моих теоретических положений»:
«Среди роя неосуществленных мною вещей есть один патетический материал, так и не увидевший экрана – “Москва”... Он иллюстрирует еще мысль о первично образном воплощении мыслительной концепции, лишь в дальнейшем доживающей иногда и до формулировок тезой (то, что я делал сейчас).
...Эта мысль о непрерывном внутри нас единстве и последовательности, и [в] единовременности... в каждом из нас есть разряд сознания, идентичный разряду “предка”. Для “предка” он был “потолком”.
Для нас он такой же промежуточный слой сознания, как само место его в конфигурации мозга между передними (“передовыми”) частями его, где концентрируются точки приложения высших функций сознания [,] и тыльными – близкими к спинному мозгу» (GP, ср. Эйзенштейн 1962).
Эти идеи подтверждаются мыслью выдающегося антрополога Рогинского о роли лобных долей мозга в антропогенезе (Рогинский 1947, ср. Кочеткова 1973).
В своих еще не опубликованных записях о выразительном движении, теорией которого – в связи с решением задач движения актера на сцене – Эйзенштейн занимался в 20-е годы, он ссылается на выводы биомеханики, которые частично принимал, дополняя их собственной идеей наличия разных слоев в организации движений. К сходной общей идее пришел, аргументировав ее экспериментальными данными, Н.А. Бернштейн, который, начав с биомеханических исследований (Бернштейн 1926), позднее выработал теорию построения движений, основанную прежде всего на наличии многоуровневости, связываемой и с разной эволюционной хронологией нервных центров (Бернштейн 1947, 1966); «многослойность» сходным образом понималась Эйзенштейном в его записях о теории выразительного движения. Более точную формулировку и развитие эти мысли Н.А. Бернштейна получили в исследованиях математиков – И.М. Гельфанда, М.Л. Цетлина и их сотрудников – физиологов, где «сложная многоуровневая система управления рассматривается как совокупность подсистем, обладающих относительной автономией... Сложные системы управления могут состоять из нескольких уровней, каждая из которых включает ряд таких подсистем» (Гельфанд, Гурфинкель, Цетлин, Шик 1966: 265). В работах названных современных ученых эти принципы, сформулированные при исследовании организации движений, позднее получили значительно более широкие кибернетические приложения. Точно так же и Эйзенштейн распространил мысль о многослойности (т.е. многоуровневости), к которой пришел при изучении выразительного движения, на сознание в целом и на искусство (см. GP, «Einleitung»), что и послужило стимулом для выработки всей концепции Grundproblem»
Идеи биомеханики, несомненно, оказавшие воздействие на становление мыслей Эйзенштейна о выразительном движении, были связаны с более широким кругом проблем, занимавших ученых в то время. Теоретически к тем же проблемам подходил друг Эйзенштейна Выготский, когда он (в своей последней завершающей монографии о Декарте и Спинозе, написанной в 1934 г. – именно тогда, когда он больше всего виделся с Эйзенштейном) критиковал телесные теории аффекта (по которым аффект можно вызвать, доведя тело до определенного состояния).
Во введении к «Grundproblem» Эйзенштейн вспоминает о том, как его мысли о наличии разных уровней в поведении человека возникли в результате преодоления идей биомеханики. По его словам: «Пределом находки школы Бодэ и принципов биомеханики был принцип тотальности. Отсюда вытекало основное правило, что всякое периферийное движение должно получаться в результате движения центрального. То есть что конечности двигаются не только и не столько от местных мышечных иннервации, сколько в результате посыла от тела в целом, в основном от толчка, идущего от ног. Ибо площадка упора и центр тяжести всей системы – единственная сфера приложения сил. Другими словами, в основной схеме движение конечностей идет по тому же типу, как у танцующей марионетки, стройность танца которой обусловлена тем, что двигающее усилие в ней приложено в основном к туловищу, конечности же гармонически вторят распространяющемуся отсюда движению.
Известно, в какой мере среда, где зарождалась биомеханика, эстетически (чтобы не сказать эстетски) была связана с культом марионетки (идущим под другим углом зрения, чем имеется в виду здесь, еще от Крэга и японского театра). Немецкое крыло – школа Бодэ ссылалась на марионетку под несколько другим углом зрения – правильным (не механическим, а органическим) и выраженным в свое время в очень примечательной маленькой заметке Клейста.
Несомненно, что наиболее гармоничная картина свободного танца образуется там, где действительно двигательный посыл от тела в целом (полученный от толчка ног) плавно разливается, напр[имер], от верхней части корпуса до оконечностей рук, и где местное движение, пробужденное этим течением, включается в него, продолжает его, противодействует ему, видоизменяет его направление. Эта вторая часть в действиях марионетки, что очевидно, отсутствует. Но именно она-то и отличает живое движение от неживого, при сохранении основного положения о тотальности, как об единой общей отправной инициативе движения.
И интерес живого движения должен был бы концентрироваться именно в этой второй фазе движения – в вопросе периферического движения во взаимосвязи, взаимо- и противодействии с отправным центральным, начальным» (GP).
По существу здесь в иной форме Эйзенштейном была сформулирована та же мысль о взаимодействии высших центров и (относительно от них независимых) низших, которая легла в основу всего цикла работ по кибернетической биологии (и теории игр автоматов), развивавшей идеи физиологии активности П.А. Берштейна. Таким образом, пути эстетических исследовании Эйзенштейна и физиологических работ, отправлявшихся, и конечном счете, как и труды Эйзенштейна, от биомеханики, шли по сходным направлениям. Эйзенштейн при этом опирался и на весьма занимавшую его проблему объяснения движении актера через сравнение его с марионеткой (в духе статьи Клейста, представлявшей собой первый опыт искусствометрии).
Эссе великого поэта-романтика Клейста было опубликовано впервые еще в 1810 г. Оно и теперь поражает не только глубиной проникновения в суть проблемы, но и тем, как в ней переосмыслены некоторые достаточно тонкие идеи, почерпнутые из физики и математики, которую для своего времени Клейст знал удивительно хорошо. Согласно Клейсту, преимуществом марионеток является то, что они не опираются на сцену и в этом смысле «противостоят силе тяготения» – «antigraw sing» (Клейст 1810:137). В вольном пересказе Эйзенштейна заключительный вывод Клейста состоит в том, что «совершенство актера – либо в том теле, которое совершенно не осознано, либо в том, которое осознано предельно» (т. 5: 310), «истинно органичное движение доступно марионетке или полубогу»; своим термином «органичное движение» Эйзенштейн передает нем. Grazie, тем самым приближай Клейста к кругу собственных идей об «органичности»: как пояснял Эйзенштейн, «органичное в смысле механики, отвечающей законам природы, и закону тяжести прежде всего» (т.1: 288). Форма движения, по Клейсту, здесь на столетие предвосхитившею Н.А. Бернштейна (Бернштейн 1906: 175, 73) зависит от того, по какой линии движется центр тяжести фигуры. Мысли Клейста стали одним из краеугольных камней в учении самого Эйзенштейна о движении (ДЭ, т. Va, 1928, стр. 82, § 82: т. 1, стр. 288). Вместе с тем в своих поздних (предсмертных) записях о выразительном движении. Эйзенштейн стремился сформулировать окончательно ту мысль о конфликте, лежащем в основе всякого подлинного выразительного движения, которую он развивал еще в своем замечательном исследовании о диалектическом подходе к форме. Рассматривая движение (опять-таки вполне в духе последующих кибернетических теории) как «осуществление мотива – намерения», Эйзенштейн находит, что в основе выразительного движения обычно лежат два мотива: «они могут быть механически... безотносительными. Например, женщина гладит белье и прислушивается к шагам, ожидая возвращения мужа с работы. Тогда тело становится полем скрещивания двух наиболее рациональных систем положений для разрешения двух задач. Однако подлинно вырази[тельные] движения... возникают тогда, когда два мотива не безотносительны, но являют собою двойственное реагирование на один и тот же мотив» (GP, 9 XII. 1947 г. запись «Выразительное движение»). Здесь Эйзенштейн развивает давнюю свою мысль, согласно которой фотографическое статическое (верное анатомически) изображение движении неправдоподобно в отличие от динамического художественного, в котором (как в Лаокооне, у Микельанджело и в новейшем искусстве) неизбежна деформация. Кинематограф и в этом, по Эйзенштейну, продолжает главную линию развития изобразительного искусства.
Основным выводом этих исследований Эйзенштейна было утверждение о наличии по меньшей мере двух разных слоев или этажей в механизмах управления поведением человека. Этот вывод оказался центральным для всей эстетической теории, которую Эйзенштейн строил в последние годы своей жизни.
Идея многоуровневости (Эйзенштейн говорил о слоях или – в записях по-английски – layer's) сознания была по существу структурной переформулировкой разграничения разных слоев сознания, усвоенного новейшей психологией – чаще всего в до-структурной и поэтому более расплывчатой фрейдовской интерпретации. В основе первичных конфликтов, по Эйзенштейну, лежит всегда конфликт двух слоев сознания, как в основе выразительного движения – конфликт двух мотивов. «Центральной травмой» является переход от чувственного мышления и логическому. Эйзенштейн подчеркивает, что этот переход происходит ежеминутно, повседневно. «Это движении от диффузного к обоснованно дифференцированному мы переживаем на каждом шагу деятельности от момента, когда мы в быту выбираем галстук, в искусстве от общих выражений «вообще» переходим к точности строгого строя и письма, или когда в науке философии надеваем узду точного понятия и определения на неясный рой представлений и данных опыта. Вот тут наше сознание резко расходится с тем, что мы видим на Востоке, в Китае, например» (М).
2.
Для исследования некоторых явлений стиля (например, Золя и Мане с их недифференцированным изображением) Эйзенштейн считает нужным привлечь сопоставление не с чувственным мышлением, а с еще более ранней «до-вообще-мыслительной стадией», ссылаясь на особенности комплексного восприятия пауков (по Кречмеру и Хемпельману).
Круг мыслей Эйзенштейна о движении от архаического комплексного мышления к понятийному был особенно близок выводам друга Эйзенштейна психолога Л.С. Выготского, установившего, что выработке понятийного мышления у детей предшествует комплексное мышление, оперирующее с целыми пучками предметов, объединенных такими признаками, которые с точки зрения логики взрослого представляются несущественными (Выготский 1956, 1960). Эти идеи Выготского Эйзенштейн учитывал, когда писал – уже после смерти Выготского – в «Монтаже» о превращении «детского комплексного мышления» (т. 2: 386) в сознательное мышление взрослого, где наличествует дифференцирующее начало.
Для систематического анализа «проблем зарождающегося кино-языка (особенно по картине «Октябрь»)» Эйзенштейн должен был регулярно встречаться со своими друзьями – психологами Л.С. Выготским 1 и А.Р. Лурия и с Н.Я. Марром. Как вспоминал он впоследствии, «мы это даже начинали, но преждевременная смерть унесла двоих» (Выготского и Марра) (М., набросок предисловия).
Сходство идей Эйзенштейна и Выготского заключалось в том, что в отличие от повлиявших на него антропологов и лингвистов (в частности, Леви-Брюля и Марра), безоговорочно относивших дологическое мышление к древним эпохам или архаичным обществам, Эйзенштейн интересовался прежде всего проявлением этого мышления в жизни и искусстве современного человека. Эйзенштейн в нашем обычном повседневном поведении находил проявления того же склада мышления, не различающего между знаком и денотатом: «Граница между типами подвижна, и достаточно не слишком даже резкого аффекта для того, чтобы весьма, быть может, логически рассудительный персонаж внезапно стал бы реагировать всегда недремлющим в нем арсеналом форм чувственного мышления и вытекающими отсюда нормами поведения. Когда девушка, которой мы изменили, “в сердцах” рвет в клочья фотографию, уничтожая “злого обманщика”, она в мгновенности повторяет чисто магическую операцию уничтожения человека через уничтожение его изображения (базирующееся на раннем отождествлении изображения и объекта)» (т. 2: 119). Эти выводы Эйзенштейна, где архаическое поведение описывается через понятия теории знаков (соотношения изображения и денотата), перекликаются с исследованиями Л.С. Выготского, выполненными в 30-х годах (когда он начинал совместные занятия с Эйзенштейном), но впервые напечатанными лишь в 1960 г. К тому же кругу мыслей относятся и попытки Эйзенштейна проследить пережиточные следы таких древних «инстинктивных» действий, как плетение узлов или охота, в более высоких сферах деятельности современного человека (например, в искусстве – см. т. 3: 303 и далее). В таких формах поведения современного человека, как раскладывание Пасьянса, Выготский находил пережитки древнейших типов управления поведением посредством знаков, создаваемых самим человеком (Выготский 1960).
В «Grundproblem» Эйзенштейн утверждает, что без тенденции «к регрессу» в искусстве нет формы, как без тенденции «к прогрессу» – нет содержания.
По Эйзенштейну, «искусство есть ... один из методов и путей познани[я]. И при этом такого, которое не столько истолковывает образ согласно нормам определенной стадии развития мышления, но само конструирует образы согласно этим нормам мышления, и в структуре этих образов закрепляет те представления, в которых выражается... сам образ мышления. Плоскость картины, форма здания, пластическая тенденция монумента – все они с этой точки зрения подобны тем отложениям горных пород, на которых отложились отпечатки древних птеродактилей ... Они подобны плацдармам, как бы чудодейственно сохранившим следы битв и боев внутри сознания их создателей...» (М).
Наличие выраженной «регрессивной» компоненты наряду с «прогрессивной» в психике художественно одаренной личности, по Эйзенштейну, является обязательным. Но «сильной и примечательной личностью... оказывается как раз та, у которой при резкой интенсивности обоих компонентов ведущим и покоряющим другого оказывается прогрессивная составляющая. Таково необходимейшее соотношение сил внутри художественно-творческой личности. Ибо регрессивной компонентой является столь безусловно необходимая для этого случая компонента чувственного мышления, без резко выраженного наличия которого художник – образотворец – просто невозможен. И вместе с тем человек, неспособный управлять этой областью целенаправленным волеустремлением, неизбежно находясь во власти чувственной стихии, обречен не столько на творчество, сколько на безумие» (М, глава «Рильке II»).
Объясняя, почему «основную проблему» эстетики Эйзенштейн сформулировал при занятиях кино, он указывал, что этот феномен в кино выступает «в наиболее чистом виде».
Вывод о том, что в его собственном искусстве постоянно оживают древние архетипические ситуации, был Эйзенштейном сделан еще по отношению к «Генеральной линии», сразу после ее окончания. В набросках статьи «Как сделана “Генеральная линия”» Эйзенштейн, предвосхищая позднейшие формулировки «основной проблемы», говорит об «атавизме» фильма и перечисляет «вечные сюжеты» в нем: «1. Моисей и скала. Грааль. Сепаратор. 2. Похищение Европы. Марфа и бык. 3. Бык – Апис. Апокалипсис. 4. Давид и Голиаф (Жаров и Васька)» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1034).
Внимание Эйзенштейна и позднее было устремлено – в соответствии с общей его установкой на исследование синтаксиса ситуации – не столько на исследование застывшего символа, сколько на структуру основных ситуаций.
В этом смысле показательна одна из черновых записей к «Grundproblem», где (по поводу книги Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра») Эйзенштейн указывает, что нельзя заниматься только «содержанием метафор», оставляя без внимания «структуру метафоры», перерастающую в «структуру ситуации»; при этом Эйзенштейн в скобках замечает: «то же, что и Фрейд со своим полустанком сексуализма» (GP). Основным тезисом «Метода», повторяемым и в его заключении («Подход к импрессионизму. Вопрос цирка»), является мысль о том, что при всей переменчивости тем и точки прицела произведений, меняющихся чуть не с каждым днем, для искусства характерна «стабильность общих закономерностей, по которым они переходят в чувственно-воздействующую форму... Историчность в области формы сказывается при неизменности общих закономерностей и единства фонда, откуда черпается весь набор того, что входит в метод искусства» (М). Историчность же обнаруживается «в выборе отдельных и определенных черт отдельными определенными эпохами, как ведущих. Это верно как и для отдельных жанровых разновидностей (сказка, элегия, драма), так и для целых “стилей эпох” (например, импрессионизм или сюрреализм) и для особенностей стиля отдельных писателей. Чем “индивидуальнее” писатель, тем последовательнее он придерживается не только темы содержания, которою он одержим, но и тем отчетливее придерживается какой-либо одной или двух-трех черт из “общего фонда” как ведущей, неизменной и характерной» (М). С этим же связана и неприязнь ко всем чуждым чертам (как у Толстого). Эйзенштейн при этом оговаривался, что бывают писатели, характеризующиеся всеобъемлющим использованием почти всех черт: Пушкин, Шекспир, Гете; для этого он искал особых объяснений (в частности, по отношению к Пушкину).
Для разных видов искусства, начиная с его «первообраза» – орнамента – Эйзенштейн считал обязательным «соединение двух форм видения и восприятия – отражения действительности, преломленного через сознание, и отражения ее же через призму чувственного мышления» (отрывок «Снимать нельзя. Пишу», М). В ранних формах искусства эта двоякость проявляется в наличии изображения и в первых «стилизационных попытках оформления изображенного». В дальнейшем та же «двуединость восприятия» объясняет все большее усложнение формы искусства, вплоть до выработки индивидуальных манер стиля и появления элементов «учения о методе искусства».
За «ультрасовременными обличиями» Эйзенштейн (совсем в духе «палеонтологии сюжета» школы Н.Я. Марра, в частности О.М. Фрейденберг, от которой, по его собственным словам, его, однако, отличало внимание к пережиточному характеру самой структуры, а не только сюжета) старается найти «очень дальние, очень глубокие истоки представлений». Так, в пьесе Ж. Деваля «Жюльетта» Эйзенштейн видит за парой купальных халатов героев – звериные шкуры их далеких предков, за «сверкающей кафелем ванной комнатой залитого электричеством “Ритца” – тайные тропы и лужайки тропического леса»: не зная об этом сам, «Деваль заставляет как действующих лиц, так и зрителя припасть к самым древним формам любовного общения живых существ, коснуться форм любовного сближения человеческих предков, стоящих еще за пределами собственно человеческих стадий» (М, глава, помеченная 9 января 1944 г.).
Считая предпосылкой воздействия искусства использование в нем «бесчисленного количества... первичных норм чувственного мышления», выбор каждой такой «нормы» в конкретном произведении Эйзенштейн объясняет социологически: «Почему в определенные этапы ведущая роль выпадает то на одно, то на другое начало, одинаково гнездящееся в “доисторической” первобытности, каждый раз [это начало] обусловливается обликом эпохи, которая извлекает из недр чувственных воздействий именно ту особенность из арсенала любых возможностей, которые наиболее действенны именно в условиях ее исторического существования» («Grundproblem II», М).
В качестве примера Эйзенштейн приводит поворот «от кинематографа малосюжетного к кинематографу сюжетному», который можно обнаружить в его собственном творчестве.
Причину особенно сильного воздействия пьес и кинофильмов с ослабленным сюжетом Эйзенштейн видел в том, что сама их конструкция – «сколок с самой древней стадии сознания – чисто диффузного, не выделившего еще ведущего начала, совершенно как оно отсутствует еще и на той общественной стадии, сколком ... [которого] оказывается его строй» («Grundproblem II», М).
«Grundproblem» представляет собой опыт рационалистического постижения – и тем самым преодоления – тех самых сторон искусства, которые казались Эйзенштейну иррациональными.
В эти годы исследование пралогического мышления у Леви-Брюля (и Марра) и бессознательного у Фрейда велось на широком экспериментальном материале. Но эстетическая концепция Эйзенштейна строилась на одновременном утверждении необходимости чувственного (регрессивного) начала и логического (прогрессивного), объединяемых в каждом произведении искусства.
По словам Эйзенштейна, «внутритематическая коллизия в ситуации и сюжете есть всегда коллизия принадлежности отдельных крыльев к разным стадиям человеческого развития. Как взрослый человек есть борьба примитивно (и наследственно, и филогенетически) – инфантильного с прогрессивно-передовым» (GP, 21 XII. 1943). Эйзенштейна не устраивало порознь ни логическое, ни дологическое (ср. приведенную выше формулировку современного кибернетического подхода к этой проблеме).
Интерес Эйзенштейна к образам Аполлона и Диониса, воплощенный и в его рисунках, объясняется той же его мыслью о двуединстве или двуликости искусства: «Персонификация моих “начал”, в своем проникновении друг в друга порождающих художественный образ, – это, конечно, Дионис и Аполлон. Дионис пралогика, Аполлон логика. Диффузное и отчетливое. Сумеречное и ясное. Животно-стихийное и солнечно-мудрое etc. («начислять» можно сколько угодно). Отсюда сейчас же вопрос: а есть ли у греков где-либо синтез начала дионисийского и аполлонического. И если есть, то – где? Оказывается – есть. И в самом подходящем месте: в… Орфее (артисте!)… Правильно, что именно в Орфее – певце и отце искусств – происходит этот синтез». Эти записи, сделанные в одно время с триптихом Эйзенштейна, который образуют рисунки «Аполлон», «Дионис», «Орфей», интересны не только как комментарий к этим рисункам. В них с предельной отчетливостью выразилась та мысль о сочетании в искусстве двух противоположных начал, которой проникнуты все сочинения Эйзенштейна позднего периода.
В приведенной цитате Эйзенштейн эту «основную проблему» (Grundproblem) эстетики, в его понимании, формулирует сравнительно благополучно: предполагается, что достигнуто единство (всегда желанная цель и самое излюбленное слово у Эйзенштейна) логического и дологического. Но этой формулировке предшествовали (а отчасти за ней и следовали) другие, где эта основная проблема осознавалась как катастрофа, когда Эйзенштейн начинал бороться с искусством, ощущая его в какой-то мере как регрессивную (или противоположную жизни) силу, уводящую к глубинным доисторическим истокам предсознания.
Для искусства (как и для магии, и ритуала) важнейшей предпосылкой верного его восприятия Эйзенштейн считает не столько первоначальную договоренность о наличии условности, сколько непосредственную «обработку», «которой подвергается прежде всего человек, “обреченный” войти в круг чувственного мышления, где он утратит различие субъективного и объективного, где обострится его способность воспринимать целое через единичную частность (pars pro toto), где краски станут петь ему и где звуки покажутся имеющими форму (синэстетика), где внушающее слово заставит его реагировать так, как будто свершился самый факт, обозначенный словом (гипнотическое поведение)» («Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel, GP).
В рукописном предисловии к предполагавшемуся сборнику статей (или ко всей монографии «Метод»), написанном в годы войны в Алма-Ате, Эйзенштейн вспоминал о времени (1932–1933 гг.), когда размышления о погружении на ранние стадии чувственного мышления, обязательном для искусства, привели его вновь к спору с искусством, как в начале 20-х годов: «Наступает момент, когда вдруг именно эти понятия – “регресс”, “обратный ход”, “движение вспять” начинают лукаво “взмеиваться” в душе. И шипят они шипом, по интонациям похожим на давно-давно нашептывавшиеся когда-то соображениями об искусстве как “вредной фикции” и т.д.» (М., набросок предисловия). Эйзенштейн вспоминает эти возражения против искусства, вновь в нем возникшие в связи с изучением «основной проблемы» теории искусства, как когда-то, в 20-е годы, он бунтовал против «фиктивности» искусства: «Какая же механика лежит в основе этого святого искусства, к которому я поступил в услужение! Это не только ложь. Это не только обман. Это – вред. Ужасный, страшный вред. Ведь имея ту возможность – фиктивно достигать удовлетворения, – кто же станет искать его в результате реального, подлинного осуществления...» (т. 1: 100–101).
Если в 20-х годах основным возражением Эйзенштейна против искусства была его фиктивность, то во время своего кризиса 30-х годов он предъявляет искусству еще более ответственный счет: «Итак: приобщение к искусству уводит зрителя в культурный регресс. Ведь “механизм” искусства оттачивается как средство уводить людей от разумной логики, “погружать” их в чувственное мышление, тем самым и вызывать в них эмоциональные взрывы» (М, набросок предисловия). Основываясь на параллелях к эстетическому погружению в чувственное мышление, привлекаемых из психопатологии, можно было прийти к выводу, что и в искусстве это погружение достигается «ценой приобщения к механизмам, которыми действует алкоголь, на время парализуя дифференцирующую деятельность лобных долей мозга и погружая человека на стадию диффузно-чувственных представлений и бытия. Или хуже того, действуя в ногу с шизофренией, парализующей эту действительность навсегда...» (там же).
Эйзенштейн вспоминает, что во время этого кризиса 30-х годов он готов был вспомнить доводы, приводившиеся когда-то Нордау в «Вырождении» против Вагнера и синтеза искусства. Эйзенштейна «отговаривал от намерения если уж не уничтожить искусство, то во всяком случае покинуть эту постыдную деятельность – покойный Выготский». По словам Эйзенштейна, глаза Выготского светились грустью, когда он «старался разубедить меня в моих злых намерениях, сопровождавшихся самыми унизительными эпитетами по адресу священного искусства» (там же). В том же наброске Эйзенштейн признавался: «Голгофою мне рисовался тогдашний трагический внутренний “раздир души”» (там же).
Сам Эйзенштейн считал, что этот конфликт с искусством был им преодолен к 1935 г., когда он впервые публично выступил с развернутым докладом об «основной проблеме» искусства. Но несомненно, что – уже не как мучительно острое переживание, а как постоянно волновавшая его тема раздумий – «основная проблема» оставалась в центре его внимания до самой смерти.
Нравственный кризис в отношении Эйзенштейна к искусству по сути был связан с тем, что, приняв тезис о генетической связи искусства с регрессивными областями психики, Эйзенштейн тем самым этим областям психики дал ту негативную оценку, которой нет, например, у Юнга по отношению к архетипам (нейтральным, могущим быть использованными любым способом). Эйзенштейн по сути соединил две разные вещи – исследование генетических корней искусства и оценку этих истоков, восходящую (с теми или иными модификациями) к дуалистическим учениям в их охристианизированной форме. Искусство казалось связанным с темными, «дьявольскими» силами.
Эйзенштейн сформулировал в «Grundproblem» ту закономерность, которая в связи с тем же кругом вопросов отмечена Томасом Манном в его романе о современном искусстве: «У интересных явлений жизни... по-видимому, всегда есть двойной лик, обращенный к прошлому и будущему, они, по-видимому, всегда одновременно прогрессивны и регрессивны» (Манн 1955: 263). Герой романа Манна создает систему, которая «способна подчинить магии человеческий разум». Сходные мысли выражены и в письме Франца Кафки Максу Броду: «Творчество – это сладкая, чудесная награда, но за что? Этой ночью мне стало ясно... что это награда за служение дьяволу. Это нисхождение к темным силам, это высвобождение связанных в своем естественном состоянии духов, эти сомнительные объятия и все остальное, что оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, существует и иное творчество, я знаю только это: помню, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. И дьявольское в нем я вижу очень ясно» (Кафка 1968: 134).
Наиболее глубокое сходство между концепцией «Основной проблемы» и той линией современного семиотического искусствознания и литературоведения (ср. Дюран 1961 и др.), которая испытала воздействие психоанализа и аналитической психологии, можно видеть в понимании Эйзенштейном «базисных» (архетипических) ситуаций. Одной из основных мыслей «Grundproblem», Эйзенштейна является выявление набора базисных ситуаций и символов – таких, как обмен одеждами. Через эти базисные ситуации описывается каждое из интересовавших Эйзенштейна произведений искусства. Но в отличие от исследователей-психоаналитиков использование этих ситуаций Эйзенштейн рассматривает прежде всего как столкновение двух социальных эпох.
Согласно Эйзенштейну, «предмет произведения искусства действенен только тогда, когда... сегодняшний изменчивый сюжетный частный случай – по строю своему насажен на колодку, отвечающую закономерности ситуации или положения определенной первобытной нормы общественного поведения» (М).
Ссылаясь на рассмотрение Веселовским (Веселовский 1940) сюжета как формы воплощения идеи, Эйзенштейн критикует Веселовского за то, что тот рассматривает преломление в эпосе первичных ситуаций, сложившихся в архаичных обществах. Эпос слишком приближен к эпохе, когда сформировались эти ситуации, которые «интересны... как костяк для поздних и современных сюжетосложений» (GP, 15 XI.1941, Алма-Ата). Из этой записи видно, что основная мысль «Grundproblem» к осени 1941 г. уже сложилась.
В качестве примера первичной ситуации, которая по-разному сюжетно оформляется в разные эпохи, Эйзенштейн приводит схему, общую для «Короля Лира», «Отца Горио» и «Земли» Золя: отец разделяет при своей жизни достояние между детьми, надеясь на их заботы о нем, они же его обрекают на нужду. Слишком поздно поняв свою ошибку, обездоленный отец объят бессильным гневом. В этой ситуации Эйзенштейн видит след раннего осознания себя частью целого, откуда представление о «безумии» того, кто делит, единое. Действенность произведения тем сильнее, чем ближе сюжет к первичной ситуации в ее общей формуле: «У того же Бальзака по мере приближения к конкретной тенденции, связанной для него с аналогичной ситуацией, падает “чувственная” сила, связанная с более обобщенным контуром, в котором он представляет эту идею... Так “Старик Горио” эмоционально более захватывающ, а потому и популярен, чем очень познавательно уважаемые, но гораздо менее увлекательные “Крестьяне”. И это, вероятно, потому, что в “Крестьянах” логически прикладные подробности, в которых выступает протест против расчленения земли, гораздо более заняты сегодняшним аспектом темы, чем “Отец Горио”, где по беглому ситуационному намеку тем острее устанавливается связь с “довременными” пластами прошлого» (М).
С исследованием воплощений этой первичной ситуации у Бальзака Эйзенштейн связывает и его замысел (в записной книжке) «Анти-Лира» или «Анти-Горио» – истории человека, которого содержат его 400 детей.
Согласно Эйзенштейну, в искусстве «действенная структура..., неизбежно воспроизводящая первичные ситуации,... в принципе есть образное претворение неизменно сущей закономерности» (М. глава, помеченная 9 января 1944 г.), иначе говоря, в структурах произведений искусства можно открыть некоторые образные воплощения первичных (архаических) ситуаций, общая («сквозная») закономерность которых верна и для всех последующих эпох. Как утверждает Эйзенштейн, «... Бездейственность неминуема при соблюдении обоих двух ... условий: а) условия точного соответствия сквозной формуле типового конфликта и в) при подстановке в нее наиболее остро современной проблемы – исторически актуального частного на сей день вида конфликта. Этого достигает Шекспир. Он впитывает в извечную формулу – свой конфликт – своего ровесника» (там же). В качестве примера Эйзенштейн приводит пьесы Шекспира, структуру которых он рассматривает с точки зрения преображения материала первоисточников для выражения собственно шекспировской темы 2. С этой точки зрения в «Венецианском купце» важен «сдвиг морали в вопросе правосудия», в «Гамлете» – сдвиг «понятия вендетты и кровной мести», в «Отелло» – «понятия собственности на женщину», в «Ромео и Джульетте» – то же в «relation sex» («взаимоотношения между полами»). По мысли Эйзенштейна, «конфликт типа “Ромео и Джульетта” неизбежен почти при каждой смене поколений. Особенно остро в период ритористически окостеневающих принципов класса или социальной институции. То есть в те моменты, когда в канун неминуемого сметания, черты и принципы их особенно нерушимо, мертво, неподвижно замыкаются в себе. Принципы тогда походят на старых разорившихся аристократов – чем беднее, тем ригористичнее в строжайшем соблюдении своих традиций, правил поведения, норм морали etc.» (там же). В качестве примера воплощения той же темы в литературе начала XX в. Эйзенштейн приводит «L'age de Juliette» Деваля, говоря, что здесь, как и в других подобных случаях, «острая современность темы подставляет другие valeur'<s> [значения (в математическом смысле). – В. И.] в алгебраические знаки формулы» (там же).
При анализе структуры «Ромео и Джульетты» в «Методе», как и при разборе «Валькирии» в «Воплощении мифа», Эйзенштейн детально анализирует первичную (пережиточную) ситуацию, на «опрокидывании» которой строится сюжет этих вещей. Согласно формулировке Эйзенштейна, в которой для ее полного соответствия выводам новейших этнологических исследований нужно только опустить (заменить другим или же уточнить по значению) термин «тотемический», речь идет об «опрокидывании института тотемических брачных предписаний, допускавших взаимное бракосочетание между раз установленными и неизменными тотемическими группами и запрещавших бракосочетания вне этих определенных тотемических кланов» (М., глава, датированная 9 января 1944 г., написано в Алма-Ате).
В заметках к «Grundproblem» Эйзенштейн не раз подчеркивал роль экзогамной стадии для объяснения не только социальных отношений, но и структуры пантеона.
В мифе аранта о происхождении людей из сросшихся воедино существ Эйзенштейн отмечает, что отделивший людей друг от друга бог дал им и «порядок кланов бракосочетания» (GP, ч. II, «О тотемизме...»). Здесь развитие от первобытной недифференцированности в самом мифе связано с введением дуально-экзогамной организации (как и во многих других мифах, детально изученных с этой точки зрения А.М. Золотаревым).
3.
Важнейший этнологический вывод, по которому заключение браков (правила которых определяют социальную структуру) подчинено тем же правилам обмена (Леви-Стросс 1949; Бааль 1970), был предвосхищен Эйзенштейном в его записях, когда он утверждал: «первый товарооборот – товарообмен идет на приобретение женщиной мужчины (за «приданое») или приобретение мужчиной женщины (через «выкуп»)» (GP). Приведенную свою мысль Эйзенштейн подкрепляет ссылкой на данные предтечи структурной этнологии – Гране (Гране 1934), по которым «весною женщина, наткавшая на себя зиму, берет («покупает») себе мужчину, осенью мужчина, собравший плоды труда хлебопашца, берет (покупает) себе женщину» (GP).
Усвоенные Эйзенштейном при изучении книг Гране, Фрейзера и Леви-Брюля выводы этнологии подготовили его к восприятию основных идей исторической поэтики Веселовского. Выписки Эйзенштейна из «Исторической поэтики» Веселовского (материалы которой он дополнял древнекитайскими данными, по Гране) хронологически близки к времени, когда он работает (в 1939–1940 гг.) над постановкой «Валькирии» Вагнера, которого тот же Леви-Стросс назвал «отцом структурного анализа мифов» (Леви-Стросс 1972: 27). Проникая в глубь этой концепции мифа у Вагнера и соединяя научный анализ мифа с художественным его воплощением, Эйзенштейн продолжал ту идею постановки Вагнера, которая была намечена еще учителем Эйзенштейна – Мейерхольдом в его ранней статье (Мейерхольд 1968).
Еще в неизданном наброске «О кинодраматургии», который может быть датирован 1933 г. 3, Эйзенштейн обнаружил интерес к тому «космическому» («мифологическому») истолкованию германских преданий о Зигфриде (лежащих в основе всего цикла Нибелунгов), которое до настоящего времени рассматривается как одно из возможных (Хойслер 1960: 367 и след.), хотя Соссюр в своих изысканиях о «Нибелунгах», предварявших семиотический анализ (ср. Якобсон 1966), решительно выступал против мифологической интерпретации (Якобсон 1971 в, 1973: 191).
Намечая в тезисной форме ранние этапы развития искусства, Эйзенштейн в этом наброске явно следует за Веселовским: «Первейшая драма: хоровой, космической сущности акт... Культовый танец. Танец, закрепляющийся в напевное чтение – «сказительство» былин, «chanson de gestes». Тема, «содержание», продолжает оставаться культово-космическим, облекаемым «по образу своему и подобию...» Еще Шлегель о мифологии, как обозначении космических элементов (Зигфрид – солнце etc. etc). Стадия Volks эпоса есть списанность сюжета и конструкции с космической проблемы, обозначаемой как история Зигфрида [,] есть драматургическая схема смены времен года. Эта схема определяет структуру – внутреннюю форму эпоса, одевая двигателей драмы («сезоны») в Хагена и Siegfried'a etc.».
Мифологическое истолкование германских преданий о Зигфриде продолжает занимать Эйзенштейна и во время его работы над постановкой «Валькирии», и позднее, когда он осмысляет опыт этой работы в своих теоретических трактатах, обдумывая связи искусства и первобытной мифологии. Изучая значимость знака – образа дракона в первобытных мифах, Эйзенштейн отмечает символическую значимость Вотана-Одина, чей образ был подробно им разобран в статье о Валькирии (т. 5): «Интересна связь с Вотаном – богом воздуха, fluid и дракон по существу объединяет стихию воздуха и воды, поднимающейся облаками в небо и низвергающейся дождями» (GP, глава «Protoplasm»). Продолжая свои изыскания относительно сравнительной интерпретации древнекитайских мифов, Эйзенштейн ставит вопрос о возможности сравнения роли дракона в этих мифах с драконом в судьбе Зигфрида! Drache as opposite Вотану? «Победа над драконом, дающая неуязвимость – омнипотенцию Зигфриду etc.» (там же).
Замечание о противоположности дракона Вотану даже самой терминологией напоминает те (продолжающие, по Леви-Строссу, художественный эксперимент Вагнера) современные опыты структурного анализа мифа, которые приходят к точно таким же содержательным результатам, в частности, устанавливают универсальный характер символов типа змея-дракона, связанного с водой (ср. уже Пропп 1946). Эйзенштейна такие первичные элементы, как вода, огонь, воздух, очень занимали и при исследовании мифа, и в собственных его художественных замыслах. Подходя в духе современной науки о знаках к искусству и к мифу как к языку, он видел в элементах или стихиях набор языковых единиц, комбинацией которых художник должен выразить свою тему. Так решалась и тема огня в Feuerzauber («Заклятии огнем») в «Валькирии». Всю эту сцену, разбору которой Эйзенштейн посвятил особый раздел своего теоретического трактата, он связывает с «погружением в стихию пламени», огня как «пред-океана» у Гераклита (GP, «Feuerzauber», 3 IX.1947), у которого при структурном анализе обнаруживается непосредственное выражение основных принципов той же мифологической традиции (Топоров 1967: 2039, 2042, Ллойд 1966).
Родоначальник современного структурного исследования мифов Леви-Стросс в первом томе своего последнего обобщающего четырехтомного труда по мифологии говорит о Вагнере как о главном предшественнике структурного изучения мифов. При этом, указывая на глубокое внутреннее «родство, на первый взгляд поразительное, между музыкой и мифами», Леви-Стросс подчеркивает, что «если в Вагнере нужно признать несомненного отца структурного анализа мифов... особенно много раскрывает то, что этот анализ сначала был осуществлен посредством музыки» (Леви-Стросс 1964: 23, ср. там же, 38, о Вагнере как о композиторе «мифа», 287 о мифологических основаниях хроматики «Тристана»; ср. Леви-Стросс 1972: 27). Непосредственная связь этих замечаний Леви-Стросса (который, как он сам говорит, был подготовлен к структурному пониманию мифов благодаря своему раннему увлечению Вагнером) с подходом Эйзенштейна к постановке оперы Вагнера не может вызывать сомнений. Характерно, что наряду с Вагнером Леви-Стросс своим предшественником считает французского синолога Гране, книга которого (Гране 1934), «блистающая гениальными прозрениями» (Леви-Стросс 1964: 23, прим. 2; Леви-Стросс 1972: 27, примеч.) оказала большое влияние и на Эйзенштейна. Экземпляр этой книги, хранящийся в библиотеке Эйзенштейна в его квартире-музее, буквально на каждой странице содержит закладки и заметки Эйзенштейна.
Рядом с Вагнером и Гране среди предшественников структурного изучения мифов следовало бы назвать и Эйзенштейна, развившего замыслы Вагнера не только сценически, но и в своей статье «Воплощение мифа» (т. 5) и в книге «Grundproblem», которые самой своей формой и многими выводами предвосхищали упомянутую книгу Леви-Стросса. Как и Леви-Стросс, «увертюра» к книге которого (построенной по образцу музыкального сочинения и по своей форме представляющей интерес для проблемы синтеза науки и искусства) отчасти посвящена и теории современной музыки (см. Леви-Стросс 1972), Эйзенштейн пытался объединить науку и искусство в своих опытах реконструкции мифа.
В этом смысле особенно показательно оживление архетипа мирового дерева, который был положен Эйзенштейном в основу спектакля «Валькирия» и детально разобран в статье о принципах спектакля.
Наиболее интересным выводом статьи Эйзенштейна «Воплощение мифа» было установление им (на основании большой изученной им и осмысленной по-новому этнографической литературы) исключительной роли символа мирового дерева не только для первобытных религий всех народов, но и для позднейшего изобразительного искусства (в том числе и европейского). Здесь Эйзенштейн оказался предшественником многих семиотических исследований самых последних лет, в частности, целой серии работ В.Н. Топорова, показавших важность символики мирового дерева как модели мира не только в первобытных «целостных» знаковых системах (где искусство еще неотделимо от ритуала), но и в таких позднейших системах символов, как христианское изобразительное искусство Европы (до Ренессанса включительно) и буддийское искусство Азии (Топоров 1964, 1972, 1973 б).
Приводя примеры использования образа дерева в современной европейской культуре, Эйзенштейн с присущей ему глубиной проникновения в семантику образов и обычным для него вниманием к процессу эволюции символа, теряющего свою конкретную образность, замечает, что для XIX в. и позднее дерево стало лишь условным знаком (как генеалогическое дерево и т.п.), тогда как «Эдда» «представляла деревом систему мира, принцип жизни вообще, образ жизненного процесса» (т. 5: 346). Эта формулировка с завидной точностью предвосхищала то понимание роли мирового дерева, которое в работах по семиотике мифологических представлений было выработано двумя-тремя десятилетиями позднее. Этот вывод подсказал Эйзенштейну основной пластический образ первого акта оперы. Если, по словам Леви-Стросса, Вагнер свой структурный анализ мира осуществил посредством музыки, то Эйзенштейн сходную задачу решил при пластическом (изобразительном) воплощении музыки Вагнера. Мировое дерево оказалось центральным пластическим образом в интерпретации оперы, основной чертой которой Эйзенштейн считал «активность, сценически разрешаемую вертикально вверх» (т. 3: 342), что соответствует символу вертикали, к которому Эйзенштейн возвращается на всем протяжении своей деятельности.
Роль вертикали как главенствующей стилистической координаты видна не только в театральных работах Эйзенштейна (начиная с одной из первых – декораций к «Подвязке Коломбины») и в его рисунках вплоть до эскизов к III серии «Ивана Грозного» (вытянутые во весь рост «призраки») (рис. 2). О ней же он многократно писал в теоретических статьях (начиная с речи о вертикальном экране), где он перекликается с Флоренским.
Рис.2. Иван Грозный (рисунок Эйзенштейна) |
Ход мысли Эйзенштейна здесь шел (благодаря осуществленному им – через посредство музыки Вагнера и собственных его занятий этнографией – перевоплощению в миф) тем же путем, которым древний человек от опоры собственного дома переходил к мысли об опоре вселенной (и обратно). По мысли Ю.В. Кнорозова, высказанной им в связи с образом мирового дерева у майя, представление об одном центральном мировом дереве отвечает жилищу с одним центральным столбом, тогда как четыре мировых дерева, ориентированных по четырем сторонам света, соответствуют четырехугольному жилищу с четырьмя опорными столбами (Кнорозов 1964). Сходным образом Эйзенштейн пришел к сценическому воплощению мифа о мировом дереве, развив ремарку Вагнера (т. 5:344–345, ср. о мировом ясене в «Валькирии» Лосев 1968:155, 163).
Из записей Эйзенштейна о ритуалах Бали видно, что для него было ясным значение оппозиции сердцевины дерева и его корней, важное для мифологии всех народов. В разборах ритуалов Бали, опережая новейшие методы и выводы семиотического анализа символа мирового дерева, Эйзенштейн отмечает роль центра – «сердцевины». Согласно этим разборам, в сердцевине дерева «верх» и «низ» – М [мужское] и Ж [женское] соединяются в circle (GP, «Bali»), Нельзя не заметить, что это описание прямо соотнесено с тем представлением об особой значимости сердцевины дерева (в связи с браком), которое было дано в статье «Воплощение мифа» при описании интерпретации вагнеровской оперы в спектакле Эйзенштейна.
По словам Эйзенштейна, «это дерево уже не одинокий столб, призванный поддерживать скаты крыши, но мощное Древо жизни, древний Игдразил сказаний «Эдды», поддерживающий стволом своим миры, ютящиеся в разрастающейся его листве» (т. 5:345).
Эйзенштейн постоянно подчеркивал, как важно для него то, что Вагнер писал не о «Нибелунгах» позднего эпоса, а восходил к их первоисточникам – древнейшим сказаниям, отраженным в «Эдде» (т. 5: 330). Глубокое проникновение в символику, общую для мифологии «Эдды» и для других архаичных мифологий, было использовано в спектакле Эйзенштейна при создании современного художественного эквивалента мифа, в соответствии с древне-исландским представлением о мировом дереве Иггдрасиль, воплощаемом «гигантским – во всю сцену – ясенем» (т. 3: 463).
В статье о стереокино Эйзенштейн рассматривает изображение мирового дерева в «Валькирии» как одно из проявлений постоянно выражавшейся в разных его театральных опытах тенденции к снятию границы между сценой и зрительным залом, к созданию светового эквивалента «дороги цветов» (ханамити) – дороги (моста) на сцену в классическом японском театре. Таким образом, последовательное проведение идеи единства распространилось в этом спектакле на зрительный зал. Символ дерева (который первоначально должен был стоять над всем залом) был основным для пространственного решения этой задачи спайки артистов и зрителей. Архетипический образ дерева должен был способствовать созданию архаизирующей атмосферы единства массы зрителей и актеров, как в древних обрядах вокруг мирового дерева объединялись все члены сообщества.
Согласно мысли Эйзенштейна, дерево в первом акте воплощает божество Вотана (Одина). Такое понимание мирового дерева в древнегерманской мифологии подтверждается большим числом вновь изученных данных, показывающих, что Один (Вотан), по мифу претерпевший мучения на дереве, был с ним связан ритуально: отсюда и связь Одина с людьми и животными, которых вешали на дереве (Якоби 1974, Иванов 1974а).
Обоснованный в статье Эйзенштейна «Воплощение мифа» универсальный характер мирового дерева, или Древа жизни, подтвержден многими специальными исследованиями последних десятилетий. В них отмечено и частое появление этого архетипического образа в литературе нового времени, например, у Гоголя, возможно опиравшегося на украинские народные поверья о мировом дереве, воскрешенные в его «Майской ночи» (Иванов и Топоров 1965а, Иванов 1974а), и Рильке.
Подобные образы мирового дерева у писателей XIX в. постоянно привлекали внимание Эйзенштейна. Из «Проступка аббата Муро» Золя в качестве примера, иллюстрирующего мысли о пафосе, Эйзенштейн приводил символ того же дерева жизни, в котором он видел экстатический образ творчества самого Золя (т. 3; 112). В этих словах безусловно есть и автобиографическое признание Эйзенштейна: мировое дерево – ясень «Валькирии», Иггдрасиль был одновременно и воплощением его собственного творческого пафоса, переживался им как объективация его творческого метода.
Если бы Эйзенштейн дожил до времени, когда психиатрами было установлено, что способ изображения дерева – это средство установления психического склада личности в развитии (от раннего детского возраста) и распаде (при душевной болезни), он увидел бы в этом подтверждение собственных мыслей о Золя (и, добавим без сомнений, о самом себе). В этих психиатрических работах открыто, что знак мирового дерева в его наиболее архаичной Ж-образной форме (где подчеркнута симметричность верхушки и корней дерева, правых и левых его ветвей), совпадающий на сибирских шаманских изображениях (например, на сибирских шаманских бубнах) и в ранней китайской иероглифике (еще близкой к пиктографии), настолько показателен для нормального и патологического развития, что на нем основан особый «тест дерева» (ср. Иванов 1972а, 1974а). Быть может, речь идет о древнем архетипе, общем для психического склада всех современных людей. Этот же символ описывается в самых ранних письменных текстах человечества (начиная с шумерских клинописных памятников III тысячелетия до н.э.); аналоги ему обнаружены и у других приматов (Иванов 1974 г).
При последовательно эволюционистском подходе Эйзенштейна к развитию мифологических образов его особенно заинтересовывает древность именно растительных символов, находящихся на низшей ступени биологической лестницы. «Формотворчество на первых порах тоже предметновещно: вид “оформляется” приданием ему вида более ранней стадии развития видов» (GP, Алма-Ата, 4 V.1944 г.; игра двумя разными значениями слова «вид»). Здесь формулируется гипотеза, согласующаяся с предположением В.Н. Топорова, по которому символика (мирового) животного (например, лошади или бизона) в верхнем палеолите предшествовала символике мирового дерева (позднее обычно изображаемого в сопровождении одного или нескольких животных). «Эпоха звереизображения при переходе от примитивного “эндемического” натурализма и стилизации производит ее пластически, “метафоризуя” животных формами вьющегося... растения... когда понадобилось оформить образ сверхчеловеческого существа – его сделали в образе того... человека! (после того, как его опробовали и звериной, и растительной формой ранних божеств!)» (там же, 5 Х.1944 г.). Эту идею Эйзенштейн в тех же заметках формулирует схематически: «Как происходит оформление
растение – кристалл[ом]
зверь – растением
человек – зверем
Бог... человеком!» (там же).
В архаических ритуалах можно установить определенную иерархию звериных и растительных символов: человек может сочетаться с каждым из таких символов, но при этом удается исторически проследить связь человека именно со звериным символом, и звериного символа – с растительным; представление же человека растительным символом, в частности деревом, выводится из этих двойных связей (ср. Иванов 1974а, Топоров 1964, 1973).
Эйзенштейн и здесь оказывается предтечей новейших исследований структуры ритуала и мифа. В детальном анализе структуры ритуалов Бали, по времени написания (5 сентября 1947 г.) примыкающем к пост-анализам «Валькирии», Эйзенштейн замечает, что в них «по принципу “шкатулка в шкатулку” производится 1) погружение в tree-trunk (“колоду”), 2) колода – оформляется... коровой (в утробу коровы), 3) корова сжигается» (GP, «Bali»). Смысл рассмотренного им ритуала Бали он заключил формулой, «в утробу коровы... в утробу дерева» (там же).
Задолго до того, как, опережая сходный вывод Леви-Стросса, Эйзенштейн в своих очень проницательных и глубоких разборах обрядов Бали проанализировал ритуальную роль дупла дерева как «утробу», сходный символ был (видимо бессознательно) использовании в сценарии «Золото Зуттера», где охотники втаскивают женщину в дупло большого дерева (увлечение этнографией – на материале культуры индейцев Северной Америки – сказалось и в других частях сценария «Золота Зуттера», где во второй части сражение происходит у статуи индейского бога, а на рисунках Эйзенштейна к сценарию изображены индейские тотемные столбы – с английской надписью Эйзенштейна «Tolempoles» – «тотемные столбы»).
В заметках о тотеме Эйзенштейн детально развивает мысль о связи дерева с браком. Используя собранный Д.К. Зелениным (Зеленин 1933, 1937) «описательный, а не объяснительный материал» о тотемах-деревьях и строительной жертве, Эйзенштейн пробует и его объяснить своей концепцией первичного ритуального поглощения: «Тако[му] же воссоединению с тотемом-растением отвечают все древесно-растительные метаморфозы» («Копуляция с растением», 22.1.1944, с пометкой: «туда, где о скотоложестве», М., ч. II). Как отмечает в этих заметках Эйзенштейн, ссылаясь на «обычно трагическую» (usually tragic) тональность этих «досексуальных» представлений, этому кругу мыслей отвечала и серия рисунков Эйзенштейна, которым он дал название «пробуждение инстинкта» («das Erwachsen der Instlinkte»). Та же тема отражена и в последнем предсмертном цикле рисунков Эйзенштейна «Дары» (декабрь 1947 г.).
К тому же времени, когда Эйзенштейн делает записи о движении вспять от человека к животному и растению в связи с анализом тотемических мифов, относятся его рисунки «Кентавр» (рис. 3) и «Дионис». В кентавре подчеркнуто разноцветностью карандаша противопоставление человеческого верха и звериного низа; в «Дионисе» человеческая (ярко выраженная женская) фигура переходит в зеленый растительный орнамент, как бы прямо иллюстрируя соответствующие теоретические рассуждения Эйзенштейна. Сознательно или бессознательно Эйзенштейн воспроизвел здесь общечеловеческий архетип – сплетение женщины с растительным символом. В связи с анализом этого символа в качестве его характернейшего проявления современными учеными приводится именно греческое изображение Диониса, выступающего из ствола в виде человеческой фигуры, из плеч которой растут ветви (Топоров 1964: 163, прим. 14; 1965 б: 227, прим. 17).
| Рис.3. Рисунок Эйзенштейна «Кентавр»  |
Исследуя древнескандинавский орнамент для предполагавшегося им раздела «Grundproblem», посвященного происхождению орнамента, Эйзенштейн выстраивал эволюционный ряд символов от тотема до диснеевского Микки, доказывая, что в каждом из членов этого ряда происходит брак «зверя и его предшественника – растения»; эти же черты он видел и в «растителъно-застилизованном звере северного орнамента» (GP).
Как обнаружил Эйзенштейн, исследование орнамента представляет интерес и с точки зрения занимавшей его проблемы метафорического представления растения кристаллом (подобного представлению зверя растения; всякий раз обнаруживает регресс с точки зрения эволюционной иерархии); по словам Эйзенштейна, «растительный… мир, вступая в область чистой формы и GP-наментируясь – геометризуется, т.е. ставится в условия кристаллических закономерностей минерального мира» (GP, продолжение цитированной выше заметки к «Grundproblem» «об эпохе звереизображения, 5 V. 1944 г., подчеркнуто везде самим Эйзенштейном).
Излюбленная Эйзенштейном (как и Выготским в его психологических трудах) мысль о цикличности развития, поздние этапы которого повторяют самые ранние, привела к следующему продолжению приведенной схемы: «к моей цепочке: растение, оформляясь – стилизуется под кристалл на первоначальном периоде искусства, на распаде искусства то же самое: кристаллический мир Пикассо, во что погрузилась живая природа «(GP, 26.IX. 1945 г.; к этой записи сбоку наверху приписано самим Эйзенштейном «great!» – «здорово!»).
Далее Эйзенштейн развивает ту же мысль: «круг замыкается». «геометризация растения – придание растению структурной формы кристалла – первый шаг “оформления” явлений природы – в орнаменте.
Последние этапы распада – возврат в кристаллографию и геометризм» (GP, 30X11. 1946 г.).
Раннее увлечение кубизмом позволило Эйзенштейну реконструировать процесс, внешне сходный с геометризацией форм у Пикассо, но осуществлявшийся на гораздо более раннем этапе истории искусства при превращении знака – изображения в символ. Верность мысли Эйзенштейна о кристаллической форме орнамента, происходящего из растительных символов, становится очевидной, например, при изучении подобных «кристаллов» в орнаментах среднеазиатских народов, где «кристаллы» (симметричные геометрические схемы) возникают благодаря симметрическому разрастанию символов (мировых) деревьев, становящихся все более и более условными (Шнейдер 1927).
Мысли Эйзенштейна о тотемизме в «Grundproblem» и примыкающей к этой книге незавершенной работе о Диснее интересны в том отношении, что Эйзенштейн указывает на многочисленные поучительные аналогии тотемизму в новом искусстве. В его собственном творчестве звериные (зооморфные) символы появляются очень рано (в первых спектаклях и «Стачке») и постоянно повторяются. Исследуя проблему тотемизма, Эйзенштейн, и здесь предваряя К. Леви-Стросса, отмечал такие явления (в сущности предвосхищавшие «звериные» символы типажей в его собственных фильмах, начиная со «Стачки») как «деление людей по сходству с животными в физиогномике Лебрена и – с другой точки зрения – в индийской «Камасутре» (GP, ч. II). Дисней и звериный эпос во всех его разновидностях Эйзенштейна занимает прежде всего как «регресс в зверя» (М., ч. II, АА). Причины привлекательности басен Лафонтена (о которой писал еще И. Тэн, упоминаемый в этой связи Эйзенштейном) и «Метаморфоз» Овидия Эйзенштейн видел именно в регрессе к биологически изначальным этапам эволюции.
4.
...Историческая эпоха, в которой я видел для себя “Валькирию” – как раз эпоха синэстетического недифференцированного мировосприятия» (запись «Потоп», 4 IX.1947 г. GP).
В качестве иллюстрации Эйзенштейн приводит миф австралийского племени аранта. Работая над своим теоретическим трудом, Эйзенштейн сделал (с детальным анализом) выписки из этого мифа аранта о происхождении людей от сросшихся воедино нерасчлененных существ – аранта rella intarinja ‘сросшиеся друг с другом люди’ (Штрелов 1907, особую значимость этой книги отмечала и Фрейденберг 1936: 363, примеч. 24). Если воспользоваться пересказом этого мифа, сделанным примерно в те же годы в еще полностью не напечатанной книге выдающегося этнолога – предшественника семиотики А.М. Золотарева, в мифе аранта говорится о первобытных существах, «представлявших собой рудиментарных людей. Последние не имели членов и органов зрения, обоняния, слуха, не могли принимать пищу и представляли собой бесформенные шары, в которых с трудом можно было разглядеть зачатки человеческих членов» (ДО, гл. XII). Эйзенштейн видел в этом мифе подтверждение своей мысля о первичной недифференцированности. Занимаясь в своей теоретической работе о тотемизме анализом материала, собранного в книге Фрейзера о космогонических мифах (Фрейзер, 1935), Эйзенштейн отмечал, что в этом собрании «учений примитивов о происхождении» не учтен этот миф аранта (GP, ч. TI, «О тотемизме»).
На этот же миф Эйзенштейн ссылался и в заметках о собственном фильме «Александр Невский», сделанных во время работы над книгой «Grindproblem». В них Эйзенштейн замечал, что в фильме показано безликое нерасчлененное «регрессивное начало – рыцарство (фашизм)» (GP, ч. II). Это начало выступает «во образе и контуре… – свиньи – аналог первобыту – зажившемуся за пределы положенной ему стадии развития и патологичному совсем как Arunda Klumpen, no Strehlow'y» (там же). Здесь по поводу записанного Шреловым – отцом мифа о «сгустках» (комках нерасчленённых существ) Эйзенштейн кратко сформулировал основную идею своей «Основной проблемы» искусства: архаические регрессивные черты (в частности, связанные с изначальной недифференцированностью и синкретизмом) патологичны, если они продолжаются на следующих этапах, но могут быть использованы искусством. Причем для эффективного воздействия произведения искусства Эйзенштейн равно необходимым считал и использование архаических черт в самой его форме (соотносящейся с соответствующими пластами в подсознании воспринимающего произведение искусства) и соединение с этим содержательных черт, свойственных новому этапу (ср. Иванов 1974в : 848–849). По существу эта мысль была логическим развитием того представления об архаичности форм искусства, которое заложено в теории первобытного синкретизма.
Миф аранта, к которому Эйзенштейн не раз возвращался, был для него символом всего первобыта, который он реконструировал в фильмах и спектаклях тех лет. В то же время в нем он по праву мог увидеть иллюстрацию своей мысли о том, что в мифологии – первобытной науке содержатся намеки, развернутые наукой в эволюционное учение. Ссылаясь на труд Фрейзера (Фрейзер 1935), он говорил, что учение о происхождении животных у первобытных народов (отраженное, по его словам, «еще изысканней» в позднейших представлениях о перевоплощении душ) непосредственно сближается с учениями предшественников Дарвина (заметки «О тотемизме...» М.,ч. II, помечены 6 1–22 II, 1944 г., Алма-Ата).
Одним из открытий семиотической этнологии, предвосхищенных Эйзенштейном, было установление синкретического единства первобытного искусства и первобытной науки. Предугадывая недавние работы о первобытной науке (Штернберг 1936, Финеган 1952: 5) и «протонаучных» классификациях в «мысли дикаря» (Леви-Стросс 1962, Уорсли 1967), Эйзенштейн утверждал в январе 1935 г. в своем программном выступлении на Всесоюзном совещании кинематографистов, что мифология на определенном этапе была «комплексом науки о явлениях, изложенных преимущественно образным и поэтическим языком» (т. 2: 106); так, в сказках о волшебных превращениях и в учении о переселении душ Эйзенштейн видел «предчувствие будущего отчетливого представления о “происхождении видов”» (т. 3: 294). Можно думать, что предполагавшееся Эйзенштейном объединение искусства и науки (в частности, в интеллектуальном кино) обострили его интерес к такому синкретизму в прошлом.
В последних своих работах Эйзенштейн с присущим ему вниманием к глубоким связям разных сторон культуры писал, что в эпоху электронных счетных машин и управляемых по радио снарядов, совершающих полет «в дальних сферах других небес», потребуется искусство «совершенно новых, невиданных средств и измерений, далеко за пределами тех паллиативов, которыми на этом пути окажутся и традиционный театр, и традиционная скульптура, и традиционное ... кино ... Надо готовить место в сознании к приходу небывалых новых тем, которые, помноженные на возможности новой техники, потребуют небывалой новой эстетики...» (т. 3: 483). Стремление к созданию нового синкретического искусства вызывало напряженный интерес к проявлениям синкретизма, который (как замечали и ранее ученые, критиковавшие с этой точки зрения идею первобытного синкретизма, Казанский 1926; ср. Флоренский 1921) не был ограничен одним периодом в истории знаковых систем, а циклически возникал и в последующие периоды.
Самый замысел постановки «Валькирии», в известном смысле предварявший позднейшие опыты цветного кино у Эйзенштейна, был направлен на осуществление цветозвукового синкретического действа. Более всего Эйзенштейна в Вагнере заинтересовало напряженное внимание к синтезу искусств, попытка соединения звуковых образов со зрительным. Эйзенштейн многократно называл (т. 2: 200, т. 3: 322 и др.) Вагнера рядом со Скрябиным (Галеев 1967, ср. «Свет и музыка» 1969) в качестве одного из предвестников того синтеза, который он сам надеялся найти в цветовом звуковом кино. Постановку «Валькирии» Эйзенштейн считал важной вехой на пути к цвету в кино (Барнэ 1966: 294).
Незадолго до смерти в набросках к своей главной книге Эйзенштейн снова вернулся к воспоминанию об этом торжестве стихии огня в спектакле. Эйзенштейн вспоминает о своем разговоре с Крэгом, который излагал ему первоначальную идею своей постановки «Гамлета». Крэг намеревался «сделать двор единой золотой массой, которая в одно золотое облачение включала бы и короля, и королеву, и всех придворных» (GP, «Потоп», 3 IX.1947 г.). От этой идеи Крэг вынужден был отказаться из-за расхождения с Немировичем-Данченко и Станиславским (ср. о технических трудностях реализации идеи Крэга: Станиславский 1928: 594).
От этой пластически сходной идеи Эйзенштейн отличал аналогичные построения в собственной постановке «Валькирии», «шедшие, однако, совершенно безотносительно к этому и выраставшие из совсем иных мотивов...», а именно – «из принципа связи “всего со всем” в сценическом разрешении этого спектакля. Ведь игра и движение действующих лиц переливалась и на активную игру декораций – хотя бы... цветовая игра рефлексов в тон прощания Вотана, или нюансы красно-голубых мотивов огня в тон ходу музыки в “Feuerzauber”. Да и само искание зрительного эквивалента музыке – основное в сценическом разрешении – вообще ведь тоже целиком в среде этих соображений» (GP).
Эйзенштейн подчеркивал, что все эти особенности сценического воплощения мифа в «Валькирии» определялись его концепцией синкретического единства, согласующегося с атмосферой первобыта. Идея точных звукозрительных соответствий как следствие этой атмосферы опять-таки может быть сопоставлена с тем, как построен первый том «Мифологий» Леви-Стросса, где каждый миф рассматривается в нескольких «кодах», находящихся по отношению друг к другу в строгом соответствии (Леви-Стросс 1964).
В замысле постановки «Валькирии» Эйзенштейн был верен своим представлениям о роли низших чувственных пластов восприятия для искусства. Первобытность некоторых эстетических принципов, возрожденных Вагнером, по Эйзенштейну прямо связывалась с темой и эпохой, к которой отнесен спектакль. Этим, в частности, определялась и идея Эйзенштейна, по которой каждое движение в опере должно было стать «руной» – знаком (подобным знаку древнегерманского рунического письма), имеющим определенное значение.
Чрезвычайно показательным представляется сходство этой интерпретации структуры мифа с записями Соссюра о легенде о Нибелунгах, где он утверждал, что вся легенда состоит из серии семиотических символов, подобных рунам древнегерманского письма. Из этих записей видно, что окончательному оформлению принципов семиотики на основании сравнения языка с другими системами знаков в «Курсе общей лингвистики» предшествовало их приложение к знакам-символам легенды о Нибелунгах, которой он занимался в 1906 г. (Якобсон 1973: 194, Годель 1957: 136): «Легенда складывается из последовательности символов в том смысле, который будет уточнен ниже. Эти символы, независимо от них самих, подвергаются тем же превратностям и подчиняются тем же законам, что и любые другие последовательности символов, например, те символы, которыми являются слова языка. – Они все входят в область, изучаемую семиотикой. – Не существует никаких методологических оснований для того, чтобы предполагать, что символ должен остаться неизменным, ни для того, чтобы он был бесконечно разнообразен; вероятно, он должен меняться в некоторых определенных пределах. – Тождество символа самому себе не может быть никогда строго определенным после того, как он стал символом, т.е. пущен в социальную среду, которая в каждое мгновение определяет его ценность» (Старобинский 1971; 15).
Это понимание знака-символа в легенде Соссюр поясняет сравнением с руной – знаком рунического алфавита, на примере которого можно показать, что «каждый символ после того, как он пущен в обращение – а всякий символ является таковым только потому, что он пущен в обращение – с этого самого мгновения остается совершенно неопределенным в том смысле, что нельзя предсказать, в чем будет состоять его тождество (т.е. чему он будет тождествен) в следующее мгновение. В этом духе мы подходим к вопросу о любой легенде, потому что каждый из персонажей это символ, который, как можно видеть, меняется точно так же, как это можно сказать и по поводу руны – в том, что касается а) времени, b) позиции по отношению к другим персонажам, с) характера, d) функции, действий персонажа. Если имя может быть перенесено на другого, то из этого следует, что часть действий тоже может быть перенесена, и обратно, и что вся драма может измениться из-за подобной случайно перемены» (Старобинский 1971, стр. 16).
Представляется чрезвычайно важным для истории семиотики, что важнейшие принципы функциональной неоднозначности знака-символа были сформулированы Соссюром именно на материале легенды, для языка которой это положение столь существенно. К близкому пониманию знаков-символов («рун» в его спектакле) подходил и С.М. Эйзенштейн, когда он вслед за Вагнером восстанавливал структуру мифа в «Валькирии».
Каждая деталь постановки «Валькирии» толковалась в соответствии с этнологическими концепциями Эйзенштейна. Когда в первом акте Зигмунд прикасается к рогу с медом после Зиглинды, это интерпретируется Эйзенштейном и в самой постановке, и в его последующем теоретическом трактате (М) как преддверие будущего любовного единения.
В том же духе, что и близкий ему синэстетизм вагнеровских замыслов, воспринимаемый как возврат (регресс) к синэстетизму первобытному, Эйзенштейн трактовал и другую близкую ему черту вагнеровского творчества – повторение лейтмотивов, которое ему представлялось одним из ярчайших повторений «формулы пафоса» (т. 3: 116 и 601). Обнаружение истоков этой характернейшей стилистической черты вагнеровской музыки в примитивных культурах для Эйзенштейна было лишним подтверждением правильности всего хода его мысли. Найдя в русской перепечатке статьи Кандинского отсутствовавшее в ее первоначальной публикации (в известном сборнике «Der Blaue Reiter») наблюдение о сходстве лейтмотивов Вагнера с особенностями саамской (лопарской) народной музыки, Эйзенштейн отметил это открытие как важное для всей его концепции: «каждой лопарской семье присущ определенный музыкальный мотив, которым и встречают членов этой семьи, когда они являются на семейных празднествах» (Кандинский 1919: 44).
Эйзенштейн с его умением находить аналоги интересовавших его архаических явлений и в коллективах позднейшего времени, отмечает, что можно обнаружить «традицию этого… в национальных гимнах! Вообще же plunge slightly in the fountains of this in primitive societies ‘надо погрузиться хоть немного в источники этого в примитивных обществах’ (GP, «Лейтмотив» Вагнера, 23 VI.1945).
Этиологический материал, обнаруженный в последние годы, подтверждает правильность мыслей Кандинского и Эйзенштейна об истоках таких лейтмотивов (современные «регрессивные» аналоги этого явления можно найти не только в упомянутых Эйзенштейном гимнах различных сообществ и сигналах фанфар при появлении того или иного исполнителя социальной функции, но и в особенности в позывных радиостанций, выступающих как «индивид» в кибернетическом смысле, т.е. как сложно организованная система, сама входящая в систему общения; в современном кино можно было бы указать на аналогичный лейтмотив в «8 1/2» Феллини). Явление, подобное саамским семейным мотивам, найдено в примитивных обществах разных частей света – вплоть до индейского племени сирионо группы Гуарани в Боливии (Ки 1963).
Особый интерес представляет биндэб иль ‘собственная песня’ у кетов (енисейских остяков), характеризовавшая каждого человека или во всяком случае каждого шамана; каждая собственная («своя») песня состояла у шамана из семи частей (Алексеенко 1967:183), что объясняется ритуальной ролью числа «семь» у кетов (в частности, наличием у человека, как и у медведя, «комплекта» из семи душ, из которых шесть могут быть общими с другими живыми существами, а седьмая специфична именно для человека), ср. Иванов, и Топоров 1962: 100, 1965: 142–143; Алексеенко 1967: 178, примеч. 27, 196. Связь душ и песен вела и к возможности обмена душами и песнями между шаманами (Алексеенко 1967: 194 и примеч. 75), в чем можно видеть еще одно свидетельство того, что синкретические (музыкальные и словесные) тексты могли участвовать в ритуале архаичного церемониального обмена.
В свете этих данных не приходится сомневаться в том, что лейтмотивы Вагнера, занимавшие Кандинского и Эйзенштейна, действительно соответствуют одной из наиболее архаичных функций музыкальной мелодии в примитивном обществе.
Глубокое проникновение в суть первобытного синкретического действа сказывается и в том, как Эйзенштейн формулирует роль загадок в примитивном обществе, где они были чрезвычайно существенны для архаического обмена словесными текстами. Объясняя обычай, по которому принимающему жреческий сан задавались загадки (например, в Индии), Эйзенштейн разбирает структуру загадки и приходит к выводу, что «загадка есть по существу проверка на цельность мышления, владеющего всеми слоями и как бы изжитыми “глубинными” в основном и в первую очередь» (GP); ср. о загадке как способе тренировки на синонимические и омонимические возможности языка Топоров 1974, 712, примеч. 70; о загадке в связи с языком ср. Поливанов 1968: 351; Скотт 1965.
Сформулированное Эйзенштейном в связи с этим семиотическое понимание загадки и ритуала в целом лучше всего подтверждается такими загадками, которые прямо связаны с обрядом, в частности шаманским. Таковы, например, у кетов загадки: «в ладони сына паук запечатлелся» (отгадка: «колотушка шамана»), «за спиной сына бессердечный заяц ничком лежит» (отгадка: «одежда шамана»), «за спиной сына разрисованный щит из бересты поставлен» (отгадка: «шаманский бубен», Крейнович 1969 б: 28).
В связи с предполагаемым им объяснением роли загадок для посвящения в жреческий сан Эйзенштейн дает семиотическую характеристику культа: «Религиозная практика есть целая система “метафорических” переложений “непроизносимой тайны сущности культа в условные изображения, имеющие совершенно иное чтение и значение для посвященных”» (GP). Объясняя [отчасти в духе известной более ранней работы П.Г. Богатырева о знаковой функции одежды (Богатырев 1971), которая тогда еще не была Эйзенштейну известна] знаковый характер одежды и других атрибутов ритуала, Эйзенштейн приходит к выводу, что в основе богослужения лежит «соскальзывание элементов знания символического значения предметов и действий культа в чувственное их переживание через живую метафору самого действия» (GP). Эта формулировка, отвечающая принципам современного семиотического исследования ритуалов, прямо соотносится с практикой сценического воплощения мифа в «Валькирии».
При сходстве многих выводов Эйзенштейна и повлиявшей на него книги Фрейденберг он сам находил, что в этой книге недостаточно обращается внимания на структуру анализируемых метафор (GP). Точно так же и анализ загадки как архаизма у Эйзенштейна характеризуется большим вниманием к ее структуре. Занимаясь теорией загадки, Эйзенштейн приходит к выводу, что отгадка дает «название предмета формулировкой, в то время как загадка представляет тот же предмет в виде образа, сотканного из некоторого количества его признаков. Степень характерности признаков, при невозможности тем не менее легко отгадать, определяет загадку “высокого стиля” в отличие от комической загадки, нарочито выбирающей случайное, не характерное или даже противоречащее» (GP). В качестве характерного примера загадки высокого стиля можно привести уже цитировавшуюся кетскую загадку «за спиной сына разрисованный щит из бересты поставлен» (отгадка: «шаманский бубен»), в качестве нарочито «остраненной» кетскую же загадку (Крейнович 1969 б: 230) «к стоянке обындевевшие люди подкрадываются» (отгадка: «кучи кала» подтверждает принадлежность загадки к категории комических и связанных с «карнавальными» образами телесного низа; о структуре таких загадок с «внешним семантическим point» ср. Левин 1973: 180, ср. там же о признаках и описаниях предмета в теории синтеза и анализа загадки).
Исследование загадки Эйзенштейну представляется как бы моделью изучения искусства в целом в духе его порождающей поэтики: “Художнику “дается” отгадка – понятийно сформулированная теза, и его работа состоит в том, чтобы сделать из нее... “загадку”, т.е. переложить ее в образную форму» (GP). Эйзенштейн намечает эволюционную типологию загадки в ряду других литературных форм. Характерная для загадки «высокого стиля» «замена точного определения пышным, образным описанием признаков сохраняется как метод в литературе» (GP). Имелись в виду такие старинные труды ученых, как многотомный труд Бюффона, который в оригинале изучал Эйзенштейн (издание сохранилось в его библиотеке; ср. замечания о стиле Бюффона, сделанные примерно в те же годы в заметках, биологическая ориентированность которых близка к Эйзенштейну; Мандельштам 1968: 193).
Считая недосказанность общей для поэзии и загадки, Эйзенштейн признает загадку более первичной (более архаичной) формой, потому что в ней «предоставлена возможность воссоздать и необходимое блуждающее усилие, посредством которого в конце концов и с большей затратой сил этот процесс приходит к благодатному разрешению. Поэзия, наоборот, строит свою недосказанность с таким расчетом, чтобы, сохранив образ самого процесса, вместе с тем снять усилие, когда-то требовавшееся в этом процессе!» (М., глава «Рильке II»).
На античном литературном материале связь древней трагедической стихомифии с загадкой прослеживала Фрейденберг (1936, стр. 181), когда она устанавливала пути эволюции древнего словесного поединка в позднейшей литературе. Именно потому, что загадка представляет собой архаический обломок древнего словесного действа (позднее, очевидно, переосмысленный на особый жанр), в загадке (ср. Иванов и Топоров 1965а и 1974) можно обнаружить достаточно существенные пережитки образности, частично сохраняющей древнюю символику знаков мифа и самый принцип архаического синкретического обмена знаками и знаковыми текстами.
5.
Мысль Эйзенштейна о том, что схема типа детективного романа, где убийство совершается внутри закрытого наглухо помещения, сходна со схемой мифа о Минотавре, могла бы представить интерес для типологии сюжетов. Но попытка подвести под эту же схему любой детективный роман, где ищется путь нахождения истины, и объяснить все эти схемы психоаналитически (вслед за книгой М. Бонапарт о психоанализе Эдгара По) все тем же комплексом выхода из чрева матери на свет божий выглядит явной натяжкой. К тому же сам Эйзенштейн достаточно хорошо понимал, что интересовавшая его в этом типе детективного романа «ситуация, транспонированная в принцип, может свободно существовать и помимо самой первичной – «исходной» ситуации» (М., «Мертвые души»). Анализ самой ситуации и принципа построения детектива у Эйзенштейна сохраняет ценность и для современных исследований детектива именно потому, что эта часть его работы тоже «может свободно существовать и помимо» психоаналитической интерпретации или же в рамках более широкой психологической (не узко фрейдистской) интерпретации, намеченной самим Эйзенштейном.
Восприятие сюжета, как и формы вообще, Эйзенштейн склонен объяснить пережиточным воздействием «первичного инстинкта преследования добычи» (М., «Grundproblem II»). Поэтому он с особенным увлечением ссылается на «Анализ красоты» Хогарта (глава V), где анализ сложности формы поясняется сравнением с охотой. В этом смысле «наиболее совершенной разновидностью интриги» Эйзенштейн называет детективную или уголовную, «когда не только читатель охотится за ее перипетиями, но и сами перипетии изображают охоту друг за другом преступника и жертвы или погоню сыщика по следам преступления» (М, «Grundproblem II»).
Замечание самого Эйзенштейна (там же) о сходстве распутывания нити интриги в детективе с нитью в том же мифе о Минотавре напоминает о его же мыслях, согласно которым рудиментарные эмоции, такие как инстинкт охоты, играют существенную роль в восприятии произведений искусства. В этом случае может быть предложена другая историко-психологическая интерпретация этих сюжетных схем, видящая в них след одного и того же архетипа, но воздерживающаяся от традиционно-психоаналитического истолкования (если не расходящаяся с ним). С этими поправками можно было бы как гипотезу сохранить вывод Эйзенштейна: «всякий детектив сводится к тому, что из “лабиринта” заблуждений, ложных истолкований и тупиков наконец “на свет божий” выводится истинная картина преступления. И таким образом детектив как жанровая разновидность литературы во всяком своем виде исторически примыкает к мифу о Минотавре и через него к тем первичным комплексам, для образного выражения которых этот миф служит» (М, «Мертвые души»).
Эйзенштейн с увлечением разбирал роман Эллери Квина «Тайна китайской оранжевой» не только потому, что на этом примере он с успехом мог продемонстрировать тезис о полном структурном единстве всего произведения от замысла до мельчайших деталей, но еще и потому, что ложные ходы в этом романе построены на обыгрывании пережиточных «пралогических» обычаев. Но Эйзенштейн едва ли думал о том, что сам он в какой-то мере в своем «Методе» и «Grundproblem» уподобился сыщику Эллери Квину в этом романе: анализ произведения часто у него замечателен совсем не тем, что он во всем хочет выявить пережитки пралогического.
Выводы Эйзенштейна, касавшиеся архаических форм сознания, основывались на сочетании данных этнологии с глубоким самоанализом. Поэтому в еще большей степени, чем работы Mappa – этого «Чурлёниса в языкознании», мысль Эйзенштейна сохраняет ценность человеческого документа даже там, где ее можно оспаривать научно. Она справедлива по отношению к одному человеку, но надо воздержаться от поспешных обобщений индивидуального опыта, столь исказивших картину в психоанализе.
Идея отождествления структуры мысли исследователя с мифическим мышлением, в последнее время повторяемая К. Леви-Строссом, в случае Эйзенштейна выражена особенно ясно.
Эйзенштейновская охота за комплексом Mutterleib напоминает те ложные цели, в погоне за которыми совершались подлинные открытия. Так, в предсмертных записях Эйзенштейна из цикла о Дега, сделанных в декабре 1947 г. и в январе 1948 г., сам по себе анализ структуры картин Дега точен, но попытки их объяснения все тем же комплексом часто недостаточно убедительны.
Сказанное не означает, что неверны или сомнительны все многочисленные предложенные Эйзенштейном интерпретации. Сравнительный этнографический материал показывает, что занимавший Эйзенштейна символ действительно играет большую роль в обрядах, например, австралийских (Элиаде 1962: 101, 102, 1959: 106, Берндт 1951).
Сходным образом Эйзенштейн в заметках о «Mutlerleibversenkung» («погружении во чрево матери») интерпретировал и миф о герое во чреве кита. Из того, что пребывание героя мифа в бочке соответствует пребыванию во чреве рыбы, могут быть сделаны выводы как психоаналитические, так и социологические – в связи с идеей дерева-тотема. По второму пути пошел В.Я. Пропп (Пропп 1946: 224).
В те же годы, когда писалась книга Проппа (но еще не зная о ней), Эйзенштейн приходит к сходным заключениям. Но для Эйзенштейна был при этом характерен эволюционистский подход, биологизмом сближавшийся с психоаналитическим.
Внимание Эйзенштейна и позднее было устремлено – в соответствии с общей его установкой на исследование синтаксиса ситуации – не столько на исследование застывшего символа, сколько на структуру основных ситуаций.
В качестве примера архетипического образа, через который Эйзенштейн хотел раскрыть лежащую в основе его исходную ситуацию, можно указать на повторяющийся в творчестве самого Эйзенштейна, начиная с замысла пантомимы о человеке, идущем по кругу, образ круга (и колеса), которому посвящен большой раздел «Grundproblem».
Эйзенштейн выдвинул в «Grundproblem» глубокую гипотезу об архаическом обществе, рассматривая причины выделения круговой композиции как особой формы, имеющей «в себе целый комплекс подспудно неизжитых в нас ассоциативно и рефлекторно откликающихся элементов, воссоздающих смутное переживание благих и благополучных стадий “райского” бытия» (GP, 27 X.1946). Эйзенштейн объясняет биологические и социальные истоки круга как первозданного «образа Рая», тем что «форма “круга” неотрывно связана со всеми институтами, предполагающими равное участие в общем деле, в отличие от условий, где кто-то кому-то уже диктует, где кто-то кого-то заставляет делать себе, а не ему угодное». Эту мысль можно подтвердить обширным этнологическим материалом.
Отношение Эйзенштейна, к психоанализу, очень внимательно им изученному, было сложным, как это отмечают исследователи и по отношению к другим художникам века, не просто испытавшим влияние Фрейда, но часто предлагавшим другие решения тех же или близких проблем. То же внутреннее противоборство, сведение счетов с самим собой обнаруживается и в отношении Эйзенштейна к психоанализу, с помощью которого Эйзенштейн пробует проникнуть в дологические подсознательные основы искусства.
Эйзенштейн в годы войны в Алма-Ате в заметке автобиографического характера вспоминал, что сборник Г. Закса и О. Ранке «Значение психоанализа в науках о духе» «был одной из первых книг, заставивших меня чуть ли не впервые задумываться над некоторыми вопросами искусства» (М, набросок предисловия, АА). В библиотеке Эйзенштейна сохранился читанный им в юности экземпляр книги с многочисленными его пометками.
Несомненной заслугой психоаналитиков Эйзенштейн считал то, что они указали на роль подсознания в сознательной деятельности, а главным их недостатком – «задержку на полустанке эротики» (М, «Grundproblem II»). «Комплекс эротики» по Эйзенштейну – лишь часть области пралогического чувственного поведения, «но стадия эротической интерпретации... никак не есть первичная, базисная или ... отправная первооснова. Она – не более, чем промежуточный полустанок» (там же.) Эйзенштейн полагал, что «психологическая кульминационная точка эротического переживания сама есть повтор на довольно высокой стадии значительно более первичных стадий» (там же). Более первичные истоки могут быть найдены на стадии полной недифференцированности и бессознательного функционирования. Эйзенштейн внимательно изучает (в частности, по монографии Ференчи) эволюционные изменения форм размножения. Он полагает, что архаические формы, находимые на низших этапах эволюции животного мира, продолжают сохраняться внешне «и для тех случаев, когда “единение соединение” от своего примитивного копулятивного смысла начнет перескальзывать в переносные чтения. Вторя ему, и форма первичной ситуации соскользнет во всевозможные виды замещений, переносов, условных обозначений, символических действий, настолько удаленных по своим новым видимостям, что даже трудно будет распознать или предположить происхождение от их исходной формы» (М, глава, датированная 9 января 1944г.). Семиотический подход Эйзенштейна к интерпретации этого процесса несомненен, но спорным остается самый принцип объяснения позднейших символов ранними фазами эволюции видов, характерный для подчеркнутого биологизма эволюционного подхода Эйзенштейна.
Эйзенштейн непосредственно сближается с теми современными исследователями, которые (как Лакан и его школа) исследуют символику бессознательного теми же методами, что прилагаются к языку и другим системам знаков в структурной лингвистике и семиотике. Эйзенштейн постоянно указывал на параллелизм возникновения вторичных (переносных) значений у слов и символических действий: «одновременно со словесным переносом от формы непосредственной (близость сексуальная) на понятие более отдаленное (от той же основы – близость дружеская, или организационная) – внешняя видимость действия (совершенно как и внешняя звучность слова) претерпевает такой же внутренний сдвиг переосмысления» (М, глава, датированная 9 1.1944г.).
Уже в заметках «О сущности искусства», датируемых 1929 г. и представляющих собой, по-видимому, тезисы доклада, прочитанного Эйзенштейном по-немецки во время поездки в Германию в начале заграничной командировки, Эйзенштейн писал: «Die Erotik ist erne allzu große Macht um sie nicht zu gebrauchen. Sie wird «delokalisiert». Nicht Liebessituation, sondern Bearbeitung des Unterbewußtseins», ЦГАЛИ, ф. 1223, оп. 1, ед. хр. 1035, л. 2 («Эротика – это слишком большая сила; ею нельзя не воспользоваться. Она “делокализуется”. Не любовная ситуация, а переработка подсознательного»). В качестве примера в тех же тезисах Эйзенштейн ссылается на «Генеральную линию». Об этом же он говорил тогда же и в своем докладе в Сорбонне (ЦГАЛИ, ф. 1923, од. 1, ед. хр. 1036) и в заметках «Как сделана “Генеральная линия”», где он утверждает, что «локализация эротического фонда именно на участке любви в большинстве случаев приводит к самодавлению и самоисчерпыванию раздражений… Самоисчерпывание я понимаю в том смысле, что оно не приспособлено к образованию условных связей, направленных во вне эротический план. Треугольник в себе замкнут и себя исчерпывает» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1034).
Утверждая в духе разделявшейся им концепции школы Павлова необходимость «отдирания любого раздражителя от свойственной ему ситуации», Эйзенштейн приводит образный пример, связанный с интересовавшей его специфической областью японского искусства: «Японцы самураи. У них “в снаряжении” полагался футляр с порнографическими рисунками. Истекая кровью, самурай бросался в шатер, смотрел на них и переключал эротическое возбуждение в боевую отвагу. На многих в музее еще следы пятен крови» (там же).
О десексуализации символики бессознательного, в частности, на примере «Генеральной линии», Эйзенштейн писал и позднее – в заметках на полях книги Гране о древнекитайской мысли (PC).
В черновых записях для самого себя к «Grundproblem», датированных 1944 г., Эйзенштейн подчеркивает, что в своей теории он хочет десексуализировать реконструируемые им архетипы. На низших этапах эволюции эти архетипы выражаются только в виде «продления цепи особей... Во всех абстракциях или достижениях этого же путем приложения первичного urge'а [влечения, импульса] к иным не биологическим и физиологическим потребностям – создавание прогрессивных явлений – социально-общественных... и ... всего искусства» (GP, ч. II, «О тотемизме»). Говоря о ненормальных видах сексуальности, но способствующих продлению рода, Эйзенштейн замечает, что возможности других (общественно-полезных) реализаций импульса могут достигаться именно благодаря «einer gewisser Genemmtheit» («известной затрудненности») простейшего сексуального начала. Но существенным у действительно великих («wirklich Großen») людей Эйзенштейн считает, разумеется, не сопутствующее их деятельности наличие разных (всех) форм удовлетворения импульса («Urge'a»), а проявление у них «всего сонма внесексуальных видов его удовлетворения» (там же).
В черновых записях для самого себя к «Grundproblem» Эйзенштейн подчеркивает, что «очень важно» «десексуализировать вопрос» погружения в материнское лоно, объяснив его «простейшим физическим законом соотношения действия и противодействия» (GP). Эйзенштейн стремился понять, как символические действия от первоначальной биологической функции приобретают переносный социальный смысл. Последовательное пригубливание сосуда от символа первобытного брака (в «Валькирии» в интерпретации Эйзенштейна) становится символом братского единения (круговая чаша) и «принадлежности к одному групповому телу» (М, глава, датированная 9.1.1944 г.).
Проблема противопоставления отца и сына, их борьбы, кончающейся у Эйзенштейна гибелью сына (а иногда, потом и отца, как в случае Басмановых), глубоко волновала Эйзенштейна. Еще в 1939 г. он отмечает эту тему как одну из «основных тем» (GP, «basic themes», «Пралогика и драма», 11 IV. 1939). В автобиографических записках Эйзенштейн, иронически используя фрейдовские представления о взаимоотношениях отца и сына, предъявляет счет своему отцу, который не посвятил его в «тайны» жизни – и Мейерхольду – любимому учителю, которого он как бы отождествляет с отцом и упрекает в том, что он не раскрыл ему секреты искусства. Биографически Эйзенштейн переживал свои отношения с отцом едва ли не так же напряженно, как Кафка.
Интерпретация Мейерхольда – учителя – как «отца» во фрейдовском смысле у Эйзенштейна напоминает о том, что и в учении самого Фрейда, интерпретируя его в контексте эпохи, можно видеть отражение специфической профессорской среды, где учитель господствовал над учеником, создавая социальную ситуацию, воспроизводимую в комплексе Эдипа (Займан 1968: 85). Социологическая интерпретация противопоставления отца и сына была одним из существенных расхождений концепции «Grundproblem» с ортодоксальным фрейдизмом. Эдип для Эйзенштейна – знак конкретной социальной ситуации, не являющейся при том самой архаической; в записях к предполагавшейся работе о Диснее Эйзенштейн пишет о сказочных ситуациях, что «они – “до-Эдипны”, до-общественно-био-физиологически par excellence» (ЦГАЛИ, ф. 1923, ед. хр. 1928, л. 6). По поводу темы Хама, смеющегося над Ноем, Эйзенштейн писал, что этот отросток темы Эдипа «именно в этой ослабленной ужасами редакции дает и наиболее отчетливый ключ к первично социальному осмыслению Эдипа, Юпитера-Сатурна-Урана» (GP, «Ковчег – потоп»). Работая над посвященным этой проблеме разделом «Grundproblem», Эйзенштейн приходит к выводу, что «Уран и Сатурн связаны... с историей соц[иального] протеста» (GP). Восстание сыновей рассматривается им как общественный протест: «вопрос Vatermorder (‘убийства отца’. – В. И.) связан с вопросом social revolt» (‘общественного бунта’, GP). В тех же записях Эйзенштейн рассматривает «убийство отца» как «эволюционное преддверие» (буквально Vorstufe ‘подготовительную ступень’) бунта.
В заметках 1944 г. о тотемизме (GP, ч. II) Эйзенштейн исследует роль отца в «Иване Грозном», где драма (и гибель) Федора Басманова строится на противопоставлении «отца кровного (физиологически – физического)» и «отца социального (общественного)» – царя (подобно тому, как в своих мемуарах Эйзенштейн пишет о кровном отце и отце по искусству – Мейерхольде). Пимен в «Иване Грозном» выступает как «праотец» (патриарх), «которого как изжитую более древнюю стадию надо всегда уничтожать восходящему сыну. Пимен – некий праотец типа Сатурна» (GP, ч. II).
Противопоставление праотца отцу и отца сыну, которое Эйзенштейн называл терминами греческой мифологии, где мифологический сюжет борьбы нескольких поколений богов в конечном счете восходит к древневосточным мифам (Мельцер 1974, Иванов 1974д), у Эйзенштейна постоянно соотносилось с противопоставлением бога человеку. Тема богоборчества и отцеборчества в наиболее острой и трагической для самого автора форме решалась в «Бежином луге». В реконструированном на основании сохранившихся срезов костяке погибшего фильма в очень слабой степени отражена та его подчеркнутая мифологичность в решении двух этих тем, о которой много раз писал сам Эйзенштейн по поводу «Бежина луга». Та конкретная историческая приуроченность темы, которая едва ли была бы воспринята современным зрителем, в фильме (но не в реконструированном его варианте), по-видимому, отходила на задний план по сравнению с мифологическим решением темы столкновения отца и сына. В «Бежином луге» выразилось с предельной отчетливостью отмеченное самим Эйзенштейном взаимопроникновение и согласованность личных комплексов (в какой-то мере восходящих, согласно Эйзенштейну, к «травмам» раннего детства) и социального заказа. Это свойство, очень характерное для Эйзенштейна и определившее особое место его фильмов последнего периода в истории нашего искусства, в «Бежином луге» было выражено с предельной отчетливостью.
В «Грозном» Эйзенштейн объясняет, а тем самым и оправдывает своего героя психоаналитическими средствами, открытыми в XX в. и являющимися суррогатом нравственности. «Пролог» к «Грозному», дающий психологическое объяснение всей жизни Ивана, по словам Эйзенштейна, «совсем во мраке подсознания» (М, 19 1.1944).
Травмы детства героя переданы автобиографически (судя по признанию самого Эйзенштейна: т. I: 85) в прологе к «Ивану Грозному» (не вошедшему в окончательный прокатный вариант фильма, но сохранившемуся). Отчасти сходным образом и сценарий «Американской трагедии» начинается с травм детства Клайда. По отношению к Грозному Эйзенштейн смыкается с теми новейшими историками, которые, вслед за Ключевским, утверждают, что именно детство определило черты характера Ивана (Хельман 1966: 65; Смилянич 1969 : 125).
Отсюда сформулированная Эйзенштейном мысль, по которой «травмы» его собственного детства в какой-то степени наложили отпечаток на его будущее искусство. Он сам сознавал это, когда писал о жестокости своих фильмов, о повторяющихся в них бесчеловечных образах, которым искал психологический источник в своем детстве (подобный описанию детства Грозного в прологе к его фильму). Но если эти особенности его искусства – следуя его собственным гипотезам – отчасти можно объяснить психоаналитически, то не в меньшей степени нужно думать о совпадении типа специфических образов художника с типом явлений, характерных для времени. Достаточно привести только один пример соединения социального анализа с психологическим, к которому он стремился: в духе наблюдений самого Эйзенштейна можно было бы построить гипотезу об отражении его собственных психологических комплексов в сценах, изображающих женский батальон, который защищал Зимний, в фильме «Октябрь» (ДЭ, т. Va, стр. 14, § 8). Но именно эти сцены соответствуют документальному материалу (Астрахян 1965).
Сам Эйзенштейн со свойственной ему беспощадностью психологического анализа указывал и на те художественные просчеты, которые возникали у него, когда стремление изжить «травму» получало перевес над исторической реальностью. Так обстояло дело, по его собственному мнению, с эпизодом расправы женщин над демонстрантами в «Октябре». Разбирая этот эпизод, Эйзенштейн признавался, что он был ему нужен (внутренне) для выявления и изживания «травмы», причем травмы его «книжного детства».
Понятие «травмы» широко используется, в «Методе» для стилистической характеристики писателей. Описанную Эйзенштейном в разделе о ситуации как трóпе структуру, где в отсутствие карающего рока герои сами себя карают, Эйзенштейн считает «прямым сколком с основной психологической пружины самого Достоевского – проблемы христианского искупления... Но мало этого – проблема перенесения вины и перенесения акта искупления – одновременно же и травма Достоевского» (М., глава о Достоевском, ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 255).
Если одержимость одной манерой, одной темой Эйзенштейн ставит в зависимость от «ушибленности» одной травмой, то, наоборот, «поразительная легкость и прозрачность пушкинской манеры писать, неисчерпаемое многообразие средств и путей выражения своих замыслов, – вероятно, прямое следствие его внутренней свободы, свободы от травматической привязанности к руководящей – “точащей” – мысли» (М, глава «Герой видит эту затею насквозь»).
В те же годы и в том же городе, где Эйзенштейн вел работу над осмыслением роли «травмы» в творчестве художника в «Grundproblem», реализуя ту же идею в «Прологе» к фильму, этим же (на материале собственного творчества и собственной судьбы) занимался один из наиболее одаренных его современников – Зощенко, заканчивавший в Алма-Ате свою автобиографическую книгу «Перед восходом солнца». Конечной целью, поставленной перед собой автором, было преодоление «травмы», пережитой в раннем детстве.
Лежащая в основе тех представлений о роли детства, которыми пользовались и Эйзенштейн, и Зощенко, гипотеза об определяющей роли первых впечатлений, находит все более широкие подтверждения. В частности, ей соответствует вывод современной биологии, по которому поведение животного в той мере, в какой оно не формируется с помощью генетической программы, обусловлено первыми впечатлениями, получаемыми им от внешнего мира. Это же явление «отпечатывания» (imprinting) внешнего мира по существу лежит и в основе психоаналитической концепции «травмы» раннего детства, повлиявшей на Эйзенштейна и на Зощенко. Психология подстановок (замен) одного предмета другим не только теоретически изучалась Эйзенштейном, но и использовалась в его сценариях. Уже в «Американской трагедии» герою в объятиях Роберты мерещится другая женщина – Сондра (ч. 6, 16). Эти замены и оказываются решающим психологическим мотивом построения сценария о Пушкине.
Для Эйзенштейна тема «безыменной любви» Пушкина представляла интерес прежде всего как воплощение занимавшей его мысли о ряде последовательных замещений, следующих за первоначальной психологической травмой.
Концепции психоанализа у Эйзенштейна преобразовывались, потому что его занимало не следование рецептам школы, а постижение сути душевной жизни художника. Из собственного опыта и биографических трудов исследователей, вовсе не являвшихся психоаналитиками, Эйзенштейн черпал аргументы, которые дополняли обычный арсенал последователей Фрейда. Примером такого интуитивного, вовсе не психоаналитического проникновения в биографию поэта, которое Эйзенштейн оценил очень высоко и положил в основу своего замысла цветового фильма о Пушкине, может быть статья Ю.Н. Тынянова (Тынянов 1968), где предполагалась «безыменная любовь» поэта к Карамзиной. Эйзенштейну эта гипотеза пришлась по вкусу как художественно достоверная. По его словам, в письме к Тынянову, где он вспоминает по этому поводу пародирование шекспироведческих споров в «Улиссе» Джойса (сцена со Стивеном Дедалусом в библиотеке), «исследовательская истинность и историческая достоверность ее меня совершенно не беспокоили» (Эйзенштейн 1966 : 180). Ему было не важно, сколько в гипотезе Тынянова «факта и сколько здесь вымысла» (т. 3: 496). Но казалось бы парадоксальным образом при этом художественной реконструкции юношеской любви Пушкина в незавершенном из-за смерти автора романе Тынянова «Пушкин» он предпочитал статью, где та же догадка «изложена гораздо острее и вдохновеннее, чем в последней части романа, где так и кажется, что торопится рука дописать последние страницы, боясь не успеть их закончить» (т. I: 524). Здесь Эйзенштейн-художник почти дословно совпадает с исследователем Б.М. Эйхенбаумом, которому тоже «при сопоставлении со статьей эти главы романа кажутся более бедными, лишенными той научной остроты, которая есть в статье» (Эйхенбаум 1944). Именно научная острота статьи с глубоким разбором элегии «Погасло дневное светило» вдохновила Эйзенштейна на замысел фильма и на гипотезу, развивавшую мысль Тынянова.
Согласно дополнительной гипотезе Эйзенштейна, в «безыменной любви» к Карамзиной – объяснение любви Пушкина к Гончаровой. Это развитие идеи Тынянова Эйзенштейн, как он писал в том же неотправленном (из-за смерти Тынянова) письме, основывалось на психоаналитическом объяснении донжуанизма как продолжающихся поисков и последовательных замен единственной недоступной возлюбленной; подтверждение этому он видел в жизненной ситуации Чаплина, с которым Эйзенштейн сблизился во время поездки в Америку.
Как бы предвосхищая современные опыты семиотического истолкования замен знаков, Эйзенштейн, пытаясь понять, что могло сделать Гончарову «заместительницей» Карамзиной, писал: «неисповедимы пути ассоциаций, помогающих внезапно подставить по схожести микроскопического признака одно существо вместо другого» (т. 3; 497). Он хотел понять, по какому признаку Гончарова сблизилась с Карамзиной.
Истолкование Эйзенштейном этой «безыменной любви», которая ему рисовалась как «самая прекрасная, самая строгая и великолепная тема» (т. 3; 496) биографии Пушкина, шире того круга мыслей, о котором может заставить думать немецкая психоаналилитическая терминология («Vater – Imago», «отец – образ», «Ersatz» – «замещение»), употребляемая, хотя и не без иронии, в его письме Ю.Н. Тынянову. Само отождествление Карамзиной и Наталии Гончаровой можно было бы понять скорее в свете аналитической психологии Юнга (и в других отношениях имеющей много общего с концепцией «основной проблемы»), где обобщенное представление мужчины о его типе женщины – anima – является одним из центральных понятий.
Разительно сходно с эйзенштейновским сопоставлением Карамзиной и Гончаровой изложение мыслей, которое содержится в недавно опубликованном черновом отрывке Цветаевой (Цветаева 1967).
Замысел эйзенштейновского фильма о Пушкине, вероятно, не поддавался пересказу словами и даже рисунками, – он мог бы быть передан только цветовым фильмом, который в то время был технически неосуществим. Но содержащаяся в цитированных записях вокруг этого фильма психологическая догадка находит неожиданную опору во внезапной перекличке с Цветаевой, так глубоко (через себя) проникшей в суть личности и судьбы Пушкина.
С поэтическими прозрениями и научным анализом другой великой современной русской поэтессы, много занимавшейся Пушкиным – Ахматовой, согласуется и дважды оброненное Эйзенштейном в связи с изложением этой гипотезы замечание о неслучайности донжуановской темы у Пушкина (т. I: 496). В поразительно трезвом и убедительном разборе «Каменного гостя», написанном в 1947 г., – спустя несколько лет после цитированных записей Эйзенштейна – Ахматова показала, что эта вещь определяется собственными лирическими переживаниями Пушкина. Ее разбор во многом основывается на том письме Пушкина своей будущей теще, которое поразило и Цветаеву – полным ясности предсказанием будущей судьбы.
Наиболее глубокое сходство между концепцией «Основной проблемы» и той линией современного искусствознания и литературоведения, которая испытала воздействие психоанализа и аналитической психологии, можно видеть в понимании Эйзенштейном «базисных» (архетипических) ситуаций. Одной из основных мыслей «Grundproblem» Эйзенштейна является выявление набора базисных ситуаций и символов – таких, как обмен одеждами. Через эти базисные ситуации описывается каждое из интересовавших Эйзенштейна произведений искусства. Но в отличие от исследователей-психоаналитиков Эйзенштейн использование этих ситуаций рассматривает прежде всего как столкновение двух социальных эпох.
В заметках по поводу анализа соотношения между отцом и сыном в «Исторической поэтике» Веселовского, сделанных 15 ноября 1941 г. (GP), когда Эйзенштейн заканчивал работу над литературным сценарием «Ивана Грозного», он, помимо некоторых фактических дополнений (в частности, относящихся к порядку наследования через поколение в древнем Китае) к материалам Веселовского, дает анализ противопоставления отца и сына в этом сценарии. По мнению самого Эйзенштейна, самые сильные эпизоды в сценарии – убийство Владимира Андреевича («несомненно, ключевой эпизод и для темы и для стиля», там же), Иван и казнь Басмановых, сцена исповеди – связаны с этим противопоставлением и являются его «усложненными дериватами». В сцене казни Басмановых поединок делится на две части с двумя трагическими исходами: «Сын (Федька) убивает отца (Алексея), после чего дериват отца – Царь (Иван) убивает сына (Федьку). Помимо сюжетной схемы здесь еще и структурная схема чистого Umbruch'a в противоположность [:] сын – отца: отец – сына» (там же). Такой же «обмен положением и функциями» происходит, по Эйзенштейну, и в сцене исповеди, где «сын-исповедующийся – занимает место и положение отца-исповедника (и физически, и морально) и побивает отца» (там же). Согласно Эйзенштейну, весь конфликт в сценарии «посажен на первичную драму – становление отца – становление вожака – отца из стада (феодального равнозначения)» (там же).
Говоря о постепенном развитии представления общества как матери, затем как отца, и о соотношении «единицы, растворяющейся в массе», как она была показана в «Потемкине», Эйзенштейн, по его словам, «20 лет спустя» точно сформулировал «переход к отцу» (в рукописи Эйзенштейна по-немецки «Übergang zum Vater» в «Иване Грозном»: «Есть и иная взаимозависимость общества и единицы. Единица выделилась из среды равных и не дает себя заглотать обратно, но наоборот покоряет все остальное себе. Сама поглощает уже не как мать, а как зверь и это уже Иван и… отец!» (М, ч. II, «О тотемизме», 16 I–22 II – 44 г. Алма-Ата). Отмечая «звериные обозначения» века Ивана в письмах Курбского и бессознательно (по словам самого Эйзенштейна) данные им самим обозначения Ивана как зверя Курбским и Филиппом в его сценарии, Эйзенштейн замечает: «Mon Dieu! И все это сделано подсознательно» (там же).
6.
Но сопоставление будет оправдано только в том случае, если оно останется структурным, и не будет претендовать на историко-психологическое объяснение, которое часто дается в «Методе». По существу такое структурное сопоставление с языковыми нейтрализациями имел в виду и сам Эйзенштейн, когда он сопоставлял криминальные сюжеты типа «Красной гостиницы» с «вопросом условной небылицы»: «ворона летела, а собака на хвосте сидела». Эйзенштейн поясняет, что впечатление фантастичности, «чуда» возникает благодаря сплавлению (т.е. нейтрализации) того, что в эксплицитной, «размежеванной» форме той же фразы («ворона летела, а собака на хвосте – на своем хвосте сидела») не содержит ничего фантастического. Сверхъестественность возникает за счет отсутствия обычного языкового средства отождествления или различения (своего и несвоего, принадлежащего одному или другому).
Особенно занимала Эйзенштейна структурная схема произведений, где меняются местами члены определенной пары противопоставленных друг другу элементов. Простейший (в этом смысле «грубейший») пример представляет «свифтовская страна лошадей, где переставлены местами лошадь и человек (всадник!). Тоньше буквально то же самое сделано в толстовском [“]Холстомере[“], где у коня и хозяина обменены причитающиеся им по рангу скотский и человеческий “душевный” облик. Совершенно то же в “Мадемуазель Фифи” Мопассана, где обменены традиционно присущие “нравственные наборы” (наборы нравственных черт) между проституткой и офицером» (GP, заметка «Ситуация как стадия тропа», 7 XI.1942 г.). Эйзенштейн подчеркивает, что эта структурная схема перемены мест в равной мере верна для свифтовской «сатирической сказки-небылицы», «поэтической притчи в реалистическом рассказе» Толстого и даже для «натуралистического тенденциозного Мопассана, далекого от условно-метафорической стилистики» (там же).
Как пример такого же «перевертыша» в сюжете Эйзенштейн рассматривает один из детективных рассказов Честертона, где лакеи и джентльмены (члены клуба) одеты одинаково и, имитируя только разницу походок, преступник среди джентльменов изображает лакея, среди лакеев – джентльмена и остается незамеченным.
«Перевертывание», или «перевертыш», Эйзенштейн рассматривает как «литературно-языковый прием, знающий целую серию формальных разновидностей, и образцов». В частности, в своих разборах детективных новелл и романов Эйзенштейн рассматривает случаи переворачивания привычных традиционных схем: привычным носителем тайны обычно служит убийца, а в детально исследованном Эйзенштейном романе Эллери Квина «Тайна китайской оранжевой» – убитый (вместо убийцы). В «Поющей кости» Остина Фримена «перевернута последовательность процесса обнаружения тайны. Сперва описаны подробности преступления и личность преступника, а затем дается процесс раскрытия их сыщиком (доктором Торндайком)» (М). В детективном романе Эйзенштейн выделяет «ряд классических типовых ситуаций», среди них «убийство внутри наглухо закрытого... помещения» – тип ситуации «Двойного убийства на улице Морг» Эдгара По («Мертвые души», М). Различая эту ситуацию и общий принцип детективного раскрытия преступления, Эйзенштейн отмечает «тот факт, что исторически первый чистый образец жанра (наравне с «Похищенным письмом» того же автора) «Убийство на улице Морг» дает одновременно как принцип, так и его непосредственное (ситуационное) воплощение» (там же).
Наиболее детально и убедительно анализ вещи, основанный на единстве ее от заглавия и общей сюжетной схемы до мельчайших подробностей описания и языковых приемов, проведен Эйзенштейном по отношению к роману Эллери Квина «Тайна китайской оранжевой».
Эйзенштейн в соответствии с общей своей концепцией роли двоякого значения (и амбивалентности) знака в искусстве обращает внимание на отражение этой черты уже в самом заглавии «The Chinese orange mystery», которое «содержит всю интригу. И весь ключ детективного метода... в нем заключена “игра слов”, т.е. двойное чтение. “The Chinese orange” буквально означает “Китайский мандарин”, переносно же означает особый оттенок оранжевого цвета... В самом же романе это обозначение имеет еще и второе добавочное переносное значение – оно является обозначением для одной... уникальной китайской почтовой марки, оранжевого цвета. Эта марка существует в одном лишь экземпляре, является колоссальной ценностью и вокруг ее похищения и связанного с ним убийства строится весь роман. Систематически всплывающие в романе... китайские мандарины в непереносном смысле... служат систематическому отвлечению внимания на ложные ходы» (М).
Эйзенштейн внимательно исследует прием «унификации» не только в кино (на примере «Наполеона» Абеля Ганса, где Наполеон, чтобы скрыть нарушение строя своим старым товарищем, приказывает всем сделать шаг вперед; т. 3: 244), но и в детективных рассказах, например у Честертона, где срезаются углы у листов бумаги, чтобы спрятать лист с отрезанным углом, или труп прячется среди трупов павших на поле боя. Наиболее детально этот прием унификации, заключающийся в том, что предмет прячется среди других, ему подобных или ему уподабливаемых, Эйзенштейн рассмотрел в своем мастерском анализе детективного романа Эллери Квина. В этом романе главной задачей сыщика («перевернутой» по отношению к обычной цели – нахождению убийцы) является обнаружение того, кем был убитый. Единственной приметой, по которой можно было бы его опознать, оставалось отсутствие у него галстука (священнический наряд убийца унес, но у него не было запасено галстука) и то, что воротник перевернут. Для того, чтобы это скрыть, убийца все «унифицировал», перевернув все предметы на месте преступления. Лейтмотивом романа, его «сквозной темой», определяющей единство построения, является «обратность», «перевернутость» всех предметов и ситуаций. «Перевернутость», лежащая в основе главной улики (перевернутый воротник, по которому можно было бы опознать загадочного убитого – священника), распространяется на все предметы и делает тем самым очень трудным обнаружение именно этой улики: «...Для своих “ложных ходов” Эллери Квин с великолепием первоклассного мастера [ис]пользует все переносные психологические “обратности”, чтобы отвлечь внимание от истинной причины [той] ситуационной “обратности”, нужной ему по сюжету» (М). Впервые эта тема вводится словами врача об убитом: «...Все на нем одето наоборот (“задом наперед” – по-английски backwards ‘обратно’)... Щит тоже оказывается перевернутым шиворот навыворот (вся глава III названа “Убийство шиворот навыворот”)... Все оказывается перевернутым. Вплоть до стола, повернутого ящиками в стенку, дедовских часов, обращенных циферблатом туда же. То же самое в отношении удобных глубоких кресел. А настольные лампы перевернуты вверх ногами. Выясняется, что мебель и все остальное, что поддается перемещению, все в равной степени перевернуто, повернуто обратной стороной, направлено “обратно”... перевернутый воротник “рифмуется” с перевернутым ковром, перевернутые брюки с лампой, поставленной вверх ногами» (М).
Ошибочное истолкование этой перевернутости вводится посредством вопроса китаеведки мисс Тэмпл: «Вы думаете, что в отражении самого преступления или в ком-либо из его участников есть что-то, что могло бы иметь a backward significance?» («второй смысл» – по-английски backward significance, т.е. дословно ‘смысл, находящийся позади чего-то’) и перевернутость всего использована для того, чтобы направить внимание туда. Мисс Тэмпл предлагает понимать перевернутость предметов как метафору, решенную перевернутой мебелью, коврами, шкафами и картинами. Это типичный для детектива – ложный ход: образное, а не по смыслу, чтение улики». Мисс Тэмпл и сыщик Квин направляются по ложному пути, пытаясь найти разгадку в специфической для старого Китая «обратной» первичной психологии (backward по-английски означает и ‘обратный’ и ‘отсталый’ в смысле ‘прошлый’).
С этим двояким значением самого слова «backward» Эйзенштейн связывает «поиски Квина по ложным следам – нет ли чего-либо непосредственно “backward” в нравах и обычаях китайцев, что могло бы послужить указанием на сокровенное значение именно самого факта, что все... перевернуто обратной стороной». На первый план выдвигается... «умышленно ложно акцентируемая все время эта видимая сторона факта, чтобы лучше скрыть ее сущность». Это же по существу своему семиотическое (основанное на различии видимой, означающей, и скрытой, означаемой, сторон знака – «симптома», т.е. улики, на различении знака-символа и знака-индекса преступления) понимание структуры детектива Эйзенштейн подтверждает словами самого Квина, который сознается, что он ошибался, считая, будто «перевернутость предметов указывает на что-то касающееся участников преступления, тогда как на деле истинным смыслом перевернутых вещей явилась задача скрыть нечто связанное с участниками драмы. Т.е. существенна вовсе не видимая сторона факта, что все “перевернуто”, а факт того, что именно “все” перевернуто. И перевернуто все именно с целью скрыть одну “ключевую деталь” – перевернутый воротник – примету убитого священника».
Приведенный разбор романа Эллери Квина интересен тем, что в нем сам Эйзенштейн показывает, как поиск архаических черт может оказаться и ложным. Самый принцип переворачивания более универсален, чем те случаи, где он унаследован от глубокой древности. Тем не менее эти случаи больше всего занимали Эйзенштейна. Этот же прием переворачивания Эйзенштейн рассматривает и на материале карнавала, где он безусловно является весьма архаичным. Речь идет о карнавальном обмене мест (позиций) между царем и рабом (подданным). Анализируя с этой точки зрения «Принца и нищего» Марка Твена, Эйзенштейн писал: «Эта тема соприкасается с одной из самых глубоко-таинственных ситуаций обмена социальными положениями (раб – государь) в обрядах, пола путем переодевания в сатурналиях и даже в историко-политических случаях – таинственная история Ивана Грозного и татарского царька Симеона Бекбулатовича, временно заменявшего царя всея Руси на престоле. Эта “необходимость” обменов тема сама по себе бесконечно интересная и где-то соприкасается не только с вопросом амбивалентности первобытного мышления, тоже переложенного в ситуацию, поведение и поступок, но где-то скрещивается и с вопросом метафоры – в том же смысле, – ибо орудует двойным переносом – обменом в ситуации» (GP, глава «Американцы нам кажутся...»).
Весь цикл заметок Эйзенштейна на эту тему представляет огромный интерес не только для теории карнавала (где Эйзенштейн в еще ненапечатанных отрывках лекций 1934 г. по режиссуре близок к идеям замечательной книги Бахтина), но и для правильного понимания внутреннего сплетения мотивов во 2-й серии «Ивана Грозного». В «Грозном» сначала дается та карнавальная ситуация, которую сам Эйзенштейн считал исходной – обмен мужскими и женскими одеждами (во время пляски Федора), а затем дается архетипическая ситуация обмена одежд между царем и подданным. В одной из последних записей на эту тему Эйзенштейн писал: «Сегодня, ура, кажется, наконец поймал за хвост основу обычая обмена местами между царем и рабом! Меня это вообще давно интриговало, но в особенности в связи с Иваном Грозным» (GP, «Медникъ Сляй», «Круг», 13 IX.1947 г.).
Снова напомнив о том, что Иван Грозный реально обменялся местами с татарским царевичем, Эйзенштейн указывал, что в его фильме «эта ситуация перенесена на смерть Владимира Андреевича... Этот обмен одеждами (и местами) стоит в одном ряду с другими обменами одеждами. А основной обмен одеждами – это обмен мужской и женской между мужчинами и женщинами. Карнавальная традиция, разрастающаяся во все переодевания: соотношения здесь, вероятно, такие же, как между парным танцем и хороводом (как “обменом”)» (GP).
В «Иване Грозном» Эйзенштейну удалось воспроизвести ту древнюю ситуацию умерщвления ритуального заместителя царя, которая была детально изучена этнологами.
Древняя сакральная традиция, которую в известной мере оживил Грозный с его тягой к карнавалу, была Эйзенштейном воспроизведена во всех деталях, известных по древневосточным материалам. Царя замещает заместитель, когда царю грозит беда; заместитель объявляется царем после того, как ему вручаются царские знаки; его убивают вместо царя. В этом, как и во многих других деталях, вторая серия «Ивана Грозного» может рассматриваться как точная реконструкция всего круга обрядов, связанных со священным царем. При этом теоретически Эйзенштейн пришел к выводу (также воплощенному во 2-ой серии фильма еще до того, как он сформулировал его в «Grundproblem»), по которому этот обмен местами связан с нейтрализацией основных семиотических оппозиций.
Общая теория карнавала как инверсии двоичных противопоставлений, намеченная М.М. Бахтиным (Бахтин 1963, 1965, Иванов 1973а, 19736), находит опору в современных этнологических исследованиях, посвященных обрядам переворачивания социального положения (status reversal). Как установлено в этих исследованиях, для циклических и календарных ритуалов, в которых участвует целый коллектив, характерно то, что в определенные моменты сезонного цикла, по-разному определяемые в разных культурах, некоторые группы (или категории) лиц, обычно занимающие низшее положение, должны приобретать ритуальную власть над теми, кто обычно занимает высшее положение, В свою очередь эти последние (например, офицеры, которые прислуживают солдатам во время рождественского праздника в британской армии) должны добровольно претерпевать ритуальное унижение. Такие обряды сопровождаются грубым словесным и жестовым поведением лиц низшей группы, которые дурно обращаются с лицами высшей группы, ругают, обзывают их малопристойными словами. Часто при совершении обрядов этого типа лица, занимающие обычно низшее положение, образуют иерархию, служащую как бы пародией на обычный иерархической порядок высшей группы (Тернер 1969: 167–168).
В качестве характерного примера этнологи приводят распространившиеся среди жителей Меланезии с конца XIX в. культы карго, в которых имитировались особенности европейской административной структуры. Для культов карго обычны поверия, согласно которым европейцы будут изгнаны или уничтожены, но туземные пророки и предки туземцев будут править ими, образуя собственную «псевдобюрократическую структуру» (Тернер 1969: 191).
Согласно некоторым вариантам культов карго, белый человек должен быть низведен до положения чернорабочего, делающего всю грязную работу (Мид, Шварц 1960: 183). Поэтому в культах карго можно видеть проявление стремления к «инверсии существующих порядков» (Уорсли 1963: 347). С этой точки зрения показательно использование туземцами на раннем этапе движения крикетных клубов для создания собственной внутренней «карнавальной» организации, включавшей губернатора, верховного судью и государственного секретаря (Уорсли 1963: 347).
В социолингвистическом плане инверсия символизируется распространением «новомеланезийского» языка, основанного на пиджин-инглиш, в качестве основного языка. Характерное для культа карго представление о том, что в будущем (в конце света) наступит переворачивание отношений между белыми и черными, напоминает типологически сходные представления об уже осуществившемся ранее и ожидаемом в будущем (как в культах карго). Инверсия основных соотношений между членами полярных бинарных оппозиций (типа «мужской – женский», «горы – море») в таких мифологиях, как айнская, согласно которой «в начале мира явления были обратными тому, что известно теперь. Так, айны были маленького роста; у мужчин, а не у женщин, были менструации; местоположение моря и гор было взаимно перевернутым. Божества сообщили айнам через посредство шаманов, что в конце света положение вещей будет перевернуто еще раз» (Охнуки-Тьерни 1969: 48).
Инверсия двоичного противопоставления «мужской – женский», существенная для этих космогонических и эсхатологических схем айнской мифологии и других с ней типологически сходных, является едва ли не определяющей и для значительного числа карнавальных ритуалов переворачивания социального положения. В тех местностях Западной Европы, где до настоящего времени сохраняется древняя карнавальная традиция, для нее остается характерным прежде всего надевание участникам карнавала масок противоположного пола; «в течение маскарада пол тех, кто носит маски, скрывается и лица обоего пола могут меняться ролями, причем женщины могут приглашать на танец мужчин без масок» (Галт 1973: 337, 326, 332, 336, Лич 1961: 132–135).
Ритуалы, при которых девушки надевают мужские одежды и пасут скот, обнаруживаются во многих обществах южных и центральных племен банту; обряды этого типа могут совершаться, если основной территории племени грозит бедствие. Благополучие племени восстанавливается посредством обращения к тем, кто находится «ниже схватки за юридические и политические превосходства. Но само понятие “низа” имеет два значения: оно относится не только к тому, что структурно занимает низшее положение; это также и общая основа всей социальной жизни – земля и ее плоды. Другими словами, то, что является нижним в одном социальном измерении, является основным в другом» (Тернер 1969: 184). С этими идеями выдающегося этнолога-африканиста В. Тернера, обстоятельно изучившего обряды переворачивания социального положения, совпадает понимание роли «низа» в карнавальных образах у М.М. Бахтина, намеченное им уже в 40-х годах в его диссертации.
Особый интерес для развития намеченного М.М. Бахтиным понимания карнавала как инверсии двоичных семиотических оппозиций представляют свадебные обряды с травестизмом. Эта проблема была детально исследована в монографиях С.М. Эйзенштейна «Метод» и «Grundproblem».
Архетип, объясняющий становление этих обрядов и повторное обращение к ним (в ритуализованном поведении, как и в неритуализованном – обыденном нормальном), является, по-видимому, универсальным, что отмечал Эйзенштейн, ссылаясь на материалы, собранные Фрейзером. Но он обращал вместе с тем внимание на диспропорцию между необъятностью фактов, приведенных в этой связи «Золотой ветвью», и скромностью выводов самого Фрейзера в предисловии к дополнительному тому «Золотой ветви», изданному в 1936 г.: «В истолковании приведенных фактов сэр Фрэзер идет не дальше того, чтобы предполагать в этом средство к ограждению ... от дурного глаза и враждебных духов. Если это может... в какой-то степени подходить к случаям (им же приводимым в другом месте), когда, дабы избегнуть места души убитого человека или зверя, мужчина-воин прячется, облачаясь в одежду женщины, то здесь, где происходит обмен, т.е. продолжают существовать все те же оба “преследуемых”, только поменявшись местами – такое толкование вряд ли достаточно исчерпывающе и убедительно» (М).
Широкое понимание травестизма как обмена, повторяемое в целом ряде записей Эйзенштейна к «Grundproblem», сближается с современными этнологическими концепциями, в которых, вслед за Моссом, обмен понимается как целостный социальный факт. «Эта необходимость обменов – тема, сама по себе бесконечно интересная и где-то соприкасается не только с вопросом амбивалентности мышления, тоже переложенного в ситуацию, поведение и поступок, но где-то скрещивается и с вопросом метафоры – в том же смысле, – ибо орудует двойным переносом – обменом – в ситуации» (GP).
Вместе с тем (предвосхищая последующие труды Мирче Элиаде и Бауманна о культе адрогинов) Эйзенштейн полагал, что обряд травестизма относится к множеству поверий и ритуалов, связанных с культом «единого исходного андрогинного существа, затем разделенного на два разобщенных вида – начала мужского и женского, которые в брачном сочетании празднуют новое восстановление этого исходного первичного, единого бисексуального начала» (М). Смысл этих обрядов Эйзенштейн видел в приобщении к сверхчеловеческой сущности андрогинного божества, в уподоблении ему. Существенно для него то, что во всех подобных культах оба начала – мужское и женское – объединяются в одном (ср. Элиаде 1962, Бауман 1955).
Для современной этнологии травестизм (как и другие карнавальные обряды) является одним из случаев ритуальной нейтрализации семиотически значимых оппозиций, в данном случае оппозиции «мужской – женский». Основным выводом структурной антропологии как части семиотики, особенно отчетливо сформулированным К. Леви-Строссом, является то, что в ритуалах и мифах постоянно ищется равновесие полярных двоичных противоположностей. Оно может достигаться благодаря медиации между ними, что типично для карнавальных обрядов, типа исследованных Тернером западноевропейских, где одетые в маски «дети оказываются медиаторами между живыми и мертвыми» (Тернер 1960: 172). В финале мексиканского фильма Эйзенштейн использует аналогичные карнавальные образы детей в масках смерти, разобранных самим Эйзенштейном в его анализе мексиканского праздника «Дня мертвых» (т. 2: 365–366).
Другим способом достижения равновесия является объединение двух полюсов в едином целом. Показательным примером может быть древнекитайское наименование шамана – жреца или гадателя инъ-ян, в котором объединяются оба ряда противоположностей инь (в частности, ‘женский’) и ян (в частности, 'мужской'), точно так же, как в названиях качеств типа кит. да-сяо ‘величина’ объединяются оба полярных значения семантического признака (да ‘большой’, сяо ‘маленький’), что позволяет предположить аналогию разбираемого этнологического явления с явлением нейтрализации семантической оппозиции (Апресян 1974: 158–163, 239–243, 299) в естественном языке, в известных отношениях изоморфной нейтрализации фонологических оппозиций. Китайское наименование шамана инъян является символом объединения (нейтрализации) обоих рядов противоположения символов в такой же мере, в какой эту функцию в древнекитайском наборе изобразительных символов имела логарифмическая спираль. Специально о логарифмической спирали в этой связи писал С.М. Эйзенштейн (т. 4: 653–654).
Следует отметить, что использование образа пульсирующей логарифмической спирали в фильме Кокто «Кровь поэта» (1930 г.) может быть объяснено воздействием Эйзенштейна, с которым Кокто встречался в Париже в 1929 г. (как это отмечено в мемуарах Эйзенштейна). Эйзенштейн не только занимался этой спиралью теоретически, но и сам использовал ее как символ (в значении, близком к ее употреблению у Кокто) в своем рисунке «Леонардо». Ритуальное использование образа андрогина по существу представляет собой один из видов объединения полярно противоположных символов. На этом и основано принимаемое Эйзенштейном объяснение травестизма.
Эйзенштейн указывал и на возможность сходного толкования еще двух ритуалов, относящихся к «двум другим вершинам биологического существования особи: обрезания при вступлении в жизнь» и инициации (посвящения), «когда молодой дикарь достигает половой зрелости и достоин быть принят в общину полноценных членов примитивного общества» (М).
В качестве иллюстрации к учению об андрогинном существе Эйзенштейн приводит соответствующие примеры из культовой символики и мифологии острова Бали, древнекитайской религии и иероглифики, египетской религии, библейского сказания, отраженного в Каббале. В качестве более новой параллели Эйзенштейн ссылается на Сведенборга и его поэтическое переложение в «Серафите» Бальзака; у того же Бальзака косвенно этот круг представлений сказался и в образе «сверхчеловека» Вотрена.
Эйзенштейн замечает, что «везде и всегда достижение этих черт первичного божества связывается с могуществом достичь сверхчеловеческого состояния. Примечательно, что на наиболее отчетливом образе намеренного сверхчеловечества – у Ницше – этот элемент присутствует неизбежно в образе Заратустры и в те моменты самоизлияния о себе, в которые автор сливается с создаваемым им образом сверхчеловечества вперед (как и следует ожидать), мы имеем оборот вперед – в идеал, исходного, первичного дочеловеческого состояния» (М).
При установлении связи представления о сверхчеловеческом с андрогинным комплексом Эйзенштейн в «Методе» описывал виденного им пациента в берлинском Институте сексологии доктора М. Гиршмана (впоследствии уничтоженного гитлеровцами). Этот пациент утверждал, что «вместе с надеванием женского платья он как бы начинает ощущать себя целостным и превосходящим обычных людей», что Эйзенштейн описывает как «восполнение себя до совершенства» путем приобщения через платье.
Согласно концепции Эйзенштейна, развернутой им в книгах «Grundproblem» и «Метод», «любые регрессивные формы, т.е. формы воспроизведения нормально исторически-социально и биологически изжитых этапов – неминуемо ведут к мистико-религиозной регрессии сознания и форм деятельности или к патологии... Регрессивный импульс должен сочетаться с областью прогрессивного приложения. Только тогда результат или результирующий процесс поступательны и благоденственны для развития человечества» (М) (по изложенному в «Grundrpoblem» пониманию искусства, в нем регрессивный импульс необходим для создания психологически выразительных форм).
Представление об андрогинном существе, как и другие «первичные учения», по Эйзенштейну, это «прежде всего опоэтизированный (или ранее омифологизированный) биологический (или ранний социологический) факт ... Бисексуальность в происхождении видов ([онто]генетически повторяющаяся в периоде от детства до окончательного сексуального созревания) такое же общеизвестное положение, как сейчас общеизвестно, что и легенда о непорочном зачатии есть перепев древнейшей видовой формы оплодотворения – до животно-растительного» (М) 4.
Такая эволюционно-биологическая интерпретация соответствовала подчеркнуто диахронической ориентированности не только самого Эйзенштейна, но и повлиявших на него (или работавших с ним одновременно) исследователей, в том числе Фрейда. По рассказу самого Эйзенштейна (в «Методе»), проблема андрогинного существа занимала его с того времени, когда он прочитал (в 1918 г.) работы Фрейда о Леонардо да Винчи. Дополнительным импульсом послужило знакомство с древнемексиканской религией. В качестве любопытной аналогии следует указать на сходную тему в автобиографических записях Т. Уильямса. Идея роли андрогинного комплекса в древних религиях в какой-то мере продолжала линию, намеченную в персонологическом плане популярным в начале века Вейнингером (в этой связи упомянутым в записях Эйзенштейна об андрогине) и Розановым (в «Людях лунного света»), подошедшим с этой точки зрения к пониманию христианства.
Связь «сверхсуществ» – богов (как египетского божества Мут – Кээс 1956: 162–163, Матье 1956: 160, ср. о хурритских двуполых богах Ларош 1970: 61) и их жрецов, как потом «сверхчеловека» с представлением об андрогине, согласно Эйзенштейну, объясняется тем, что это существо должно по нормам раннего мышления вмещать «обе противоположности» познания. В терминах современной этнологии можно было бы сказать, что речь идет о ритуальном снятии противоположностей между двумя полярными рядами классификационных семиотических символов, из которых, один соотнесен с мужским началом, другой – с женским. Такое истолкование вполне согласуется со словами Эйзенштейна, который в конце одного из разделов «Метода», посвященного андрогинизму, утверждает: «приведенные здесь соображения о бисексуальности никакого отношения к какой-либо узкой сексуальной проблеме не имеют. Нас интересует вопрос «снятия» этого биологического поля приложения противоположностей в идее, в образе воображаемого сверхчеловека, объединяющего противоположности» (М). В связи с проблемой древнего «снятия противоположностей», повторяемого на новом этапе людьми искусства, Эйзенштейн обращает внимание на Бальзака и Уитмена: «Оба восклицают почти в одних и тех же выражениях о совмещении в себе противоречий... оба создают свои воображаемые автопортреты, которые и они, подобно автопортрету (вернее полпреду) Ницше – Заратустре, снабжают бисексуальностью: герой “Каламуса” в “Побегах травы” у Уитмена, а у Бальзака Серафито-Серафита и Карлос Херрера-Вотрен-Надуй-Смерть» (М). У обоих писателей Эйзенштейн находит соединение двух казалось бы прямо противоположных «первичных» тем (архетипов) – сверхчеловечности и образа нерасчлененности и недифферепцированности, у Бальзака выраженного в его «склонности к образу тайных обществ» (М). «Это единство сверхчеловека и коллектива, мистически отвлеченно данное в “Серафите” – в “Нищете куртизанок” дано материально и ситуационно; сверхчеловек Надуй-Смерть просто всемогущий вожак союза преступников фонанделей» (М).
Нельзя не отметить полноты совпадения проницательного анализа Эйзенштейна с выводами новейшей этнологии. Разбирая «пороговые» (liminal) явления, связанные с «карнавальным» переворачиванием социального положения, Тернер перечисляет в их ряду и сицилийскую мафию, Ку Клукс Клан и «другие виды тайных обществ» (Тернер: 1969: 192). Следовательно, предпринятая Эйзенштейном попытка объяснения внимания к этим обществам теми же факторами, которые он привлекал и для осмысления карнавального переворачивания отношения в оппозициях тина «мужской – женский», «царь – раб», согласуется с этнологическим истолкованием этих «пороговых» явлений. Так же можно объяснить и его интерпретацию опричнины Грозного.
Следует подчеркнуть, что и в труде М.М. Бахтина о Рабле указано наличие карнавального элемента в опричнине (Бахтин 1965: 294), который еще только начинают исследовать историки культуры (Лихачев 1973, 1974, Лихачев, Панченко 1976, ср. в этой связи об Эйзенштейне Андроникова 1974: 68; ср. Иванов 1973а).
К числу тем, объединяющих труд Бахтина с цитируемыми записями Эйзенштейна, принадлежит и анализ мотива андрогина в связи с идеей двутелости, возникающей благодаря снятию двоичных оппозиций (типа «жизнь – смерть», «мужской – женский»). Рисунком Леонардо да Винчи, упоминаемым в этой связи Бахтиным (Бахтин 1965: 349–350), навеян рисунок Эйзенштейна «Леонардо» (Р III, 2). Экстатическое соединение в Леонардо да Винчи разных полюсов бинарных оппозиций, о котором Эйзенштейн не раз писал (ссылаясь и на других исследователей), в этом рисунке обозначено как пластически, так и символически – древнекитайской спиралью-образом соединения двух противоположных начал (бинарных оппозиций) – инъ и ян (рис. 4).
Рис.4. Схема логарифмической спирали (по Эйзенштейну и Гране)

Эйзенштейн обратил внимание на то, что в рисунках и рукописях Леонардо повторяется тема логарифмической спирали, интерпретируемой в трудах Эйзенштейна (в согласии с другими современными исследованиями) как образ органического развития. Этот же символ в таких архаических традициях, как древнекитайская, выступает как знак объединения противоположностей, в книге Гране о китайской культуре и в других изученных им трудах Эйзенштейн специально отмечает геометрическую и математическую интерпретацию этой кривой, согласно которой кривая приближается к диаметру круга, и 3 стремится к 2 (PC: 280).
Для выявления ритуальных и мифологических истоков таких противопоставлений в искусстве существенно то, что, например, соотношение правой и левой сторон, верха и низа сцены соответственно с раем и адом в финале 2-й части «Фауста» имеет прообраз в средневековом мистериальном театре. Здесь обнаруживается непосредственная преемственность структурных соотношений, выявляемых в современном искусстве, я архаических ритуалов и мифологических представлений, для которых значимы те же самые универсальные оппозиции.
Сохранение и развитие пространственных оппозиций, существенных для средневековых мистерий, в позднейшем европейском театре способствовало выявлению в нем основных противопоставлений еще на ранних этапах театроведческих опытов семиотиков, входивших в Пражский лингвистический кружок. Предшественником подобных работ был С.М. Эйзенштейн, писавший об этих противопоставлениях в театре в своих первых эстетических набросках 20-х годов. В дальнейшем на предложенную им теорию эстетических двоичных различительных признаков несомненное влияние оказала древняя дальневосточная эстетика, основывавшаяся на различении полярных рядов инъ и ян в древнекитайской модели мира (где с каждым из этих рядов соотносились и известные эстетические объекты, в частности музыкальные).
Из этих древних дальневосточных эстетических учений Эйзенштейном была перенята оппозиция чет – нечет, использованная наряду с другими двоичными оппозициями в анализе эпизода с яликами из его же фильма «Броненосец Потемкин», а также в его разборах «Троицы» Рублева и триптиха Утамаро, где Эйзенштейн шел по пути, близкому к тому, благодаря которому Вельфлин выявил роль оппозиции «правый – левый» для западноевропейской живописи. Освоение Эйзенштейном теории рядов инъ и ян можно сопоставить с использованием маздоистских оппозиций для построения эстетической системы двоичных различительных признаков (общим числом 29) у И. Иттена в Баухаузе: в обоих случаях архаическая дуалистическая концепция переосмысляется и становится средством структурного эстетического описания.
Выявив значимость таких двоичных противопоставлений, как «чет – нечет», в мифологии и философских (а позднее эстетических) системах Дальнего Востока, продолжающих ту же мифологическую традицию, Эйзенштейн применил эту же оппозицию к описанию не только дальневосточных, но и европейских образцов искусства. Его первоначально занимало при этом то, как в самой композиции сказываются законы, управляющие архаическими слоями сознания. Но даже независимо от принятия этого основного тезиса «Grundproblem» предложенный Эйзенштейном анализ остается классическим, так же как его анализы структур картин Дега представляют собой выдающиеся достижения точного искусствоведения независимо от того, насколько оправдано предложенное им психоаналитическое истолкование этих структур. Разбор «чета и нечета» в произведениях живописи Японии и Европы останется одним из наиболее наглядных и простых образцов структурного анализа. Принцип анализа по двоичным признакам, сейчас ставший одним из основных методов структурного изучения разных знаковых систем, был усвоен Эйзенштейном из дальневосточной эстетики. Его приложения этого принципа по существу соответствуют установкам новейшей науки о знаках.
Эйзенштейн начинает свой разбор триптиха Утамаро с формулировки асимметрического приема композиции, последовательно выявляя двоичные противопоставления типа «чет – нечет», «сомкнутый – разомкнутый», «твердый – жидкий». После этого исключительного по ясности основных положений разбора Эйзенштейн задает вопрос: «Встречается ли подобный метод композиции только на востоке или можно его обнаружить еще и на других примерах, которые с востоком непосредственно не связаны?» Эйзенштейн дает на этот вопрос положительный ответ, разбирая тем же методом ряд произведений европейского искусства. Замечательным по простоте и точности является предложенный им разбор «Троицы» Рублева. Отмечая, что в этом случае «число фигур доведено до минимума – до трех – и музыкальность необыкновенно отчетлива и сильна», Эйзенштейн объяснял эту музыкальность теми же простыми соотношениями:
«Мне кажется, что необычайное усиление пластической лирики “тихого перезвона”, которым проникнут образ “живоначальной троицы” Рублева (1408 г.), во многом зависит от того, что и здесь в фигурах трех ангелов применен тот же принцип сочетания четных элементов с нечетными».
Убедительность предложенного Эйзенштейном разбора несомненна. Но кажется бесспорным и то, что ценность этого разбора выходит далеко за пределы той более ограниченной проблемы, которую решал Эйзенштейн. Он не просто доказал наличие соотношения чета и нечета в европейской живописи (что казалось важным ему самому), а сформулировал принципы структурного описания. Эти принципы действительны и там, где едва ли без натяжки можно говорить о регрессе к архаичным слоям сознания. На примере разбора Эйзенштейном «перевертышей» (инверсий) и переодеваний карнавального типа и других соотношений, основанных на наличии бинарных оппозиций, можно видеть, как его диахронический подход налагался на собственно структурное описание. В таких случаях, как разбор «Троицы» Рублева, значение диахронического принципа минимально. При исследовании карнавала, особенно мексиканского, где – на примере праздника «Дня мертвых» – Эйзенштейн убедительно раскрыл карнавальную тему смеха над смертью (связанного с нейтрализацией противопоставления «жизнь – смерть» в карнавале), наоборот, именно диахронический анализ становится наиболее значимым. Для Эйзенштейна эти последние случаи были особенно важны, так как они позволяли ему объединить изучение карнавальной культуры с исследованием глубинных пластов внутренней речи и чувственного мышления.
7.
Так, постепенно разгадывается тайна строения монтажа как тайна структуры эмоциональной речи. Ибо как самый принцип монтажа, так и все своеобразие его строя – суть точный сколок с языка взволнованной эмоциональной речи» (т. 5: 174–175). Закономерности этого языка Эйзенштейн находит «в третьей разновидности речи – не в письменной, не в устной, но во внутренней речи, где аффективная структура присутствует в наиболее полном и чистом виде» (т. 5: 176). Как бы прямо продолжая эту мысль Эйзенштейна, но уже на основе всего того опыта современного кино, первым предвосхищением которого был сценарий «Американской трагедии». Пазолини в одной из многочисленных своих работ, посвященных киноязыку с точки зрения лингвистики и семиотики, писал: «Когда мы вспоминаем, мы проецируем внутри своей головы, небольшие, обрывочные, искаженные или явные последовательности кадров фильма.
Теперь такие архетипы воспроизведения языка действий, ИЛИ попросту действительности (которая всегда является действием) конкретизировались в таком механическом и общераспространенном средстве, как кинематограф» (Пазолини 1966).
На основании этой концепции, предельно близкой к идеям Эйзенштейна зрелого периода (после работы над «Американской трагедией»), Пазолини предложил свое понимание поэтического кино как кино, фиксирующего эту внутреннюю речь, отождествляющего автора фильма с героем. В языке художественной литературы аналог этому Пазолини находит в несобственно прямой речи, т.е. во внутреннем монологе. Здесь Пазолини опять-таки прямо перекликается с Эйзенштейном, для которого внутренний монолог, в частности в той его форме, как он был разработан Джойсом, был образцом для построения киноязыка
Эйзенштейн писал о Джойсе: «Ко всему арсеналу приемов литературного воздействия здесь присоединяется ещё композиционный строй, который я бы назвал “сверхлирическим”. Ибо, если лирика воссоздает наравне с образами и самый интимный ход внутренней логики чувств, то Джойс уже дает ее сколком с физиологии образования эмоций, сколком с эмбриологии формирования мыслей» (т. 5: 90). По мнению Эйзенштейна, по ложному пути идут многочисленные исследователи «Улисса» Джонса, которые вместо изучения психологической значимости его метода, «предпочли играть в отгадки и разгадки намеков, рассыпанных по роману, расшифровывать содержание ассоциаций, делать анкеты на неврозы, беспокоящие бедного м-ра Блума» (М. «Фрэнк Бэдмен»). Синтаксис для Эйзенштейна должен соответствовать строению вещей: внутренний монолог Джойса удивителен тем что передает ход движения сознания.
Объясняя, почему для него Джойс не близок сюрреалистам, а в определенном смысле противостоит им. Эйзенштейн утверждает, что сюрреалисты (в отличие от Джойса) не увидели в движении сознания главное – «закономерность хода, а не только анекдот содержания мыслей!» (М, «Фрэнк Бэдмен»). Силу Джойса Эйзенштейн видит в передаче не мелькающих в обрывках потока сознания деталей, а именно в воссоздании «закономерности хода» потока сознания: «Джойс велик тем, что он из процесса внутреннего хода мышления извлек на первый план иной строй хода тех содержаний, которые скользят во внутреннем монологе» (там же).
Согласно Эйзенштейну, подчеркивавшему не только словесный, комплексный характер внутренней речи, в ней «по самой природе, сущности и закономерности ее именно и не может быть выделения из диффузного целого вообще одной какой-то ведущей черты, например, словоряда. выделенного из всего остального, чем думаешь пралогично, внутренне чувственно. Путь слов – лишь... такая же условность передачи, как трехмерность тела, подаваемого двумя проекциями, или процесс движения, зачерченный кривой по системе Декартовых координат. И в этом процессе воссоздания основная сила именно не в рациональной стороне текста, а как раз в иррациональной. Не только в том, что значат слова, а как они расставлены. Не смысл слова, извлекаемый всеми анализами из под сдвига, в котором его подает Джойс, но в природе того сдвига, которым обработано слово, и в том расчете эффекта, который дается именно этим сдвигом, а не иным. И еще, главное в этой таинственной силе покорения – это строй хода от порядка сочетания двух слов рядом, до целых страниц и глав» (М. «Фрэнк Бэдмен»).
Сходство Дюжардена и Джойса Эйзенштейну кажется лишь темой салонных бесед: «сходство приемов можно установить в литературном разговоре – пропасть принципиального различия лишь читая» (М. «Фрэнк Бэдмен»).
Эйзенштейн издевался над теми снобами, кто не смог увидеть глубины проникновения Джойса в закономерности внутренней речи и поэтому считал Джойса всего лишь продолжателем Дюжардена в развитии приема внутреннего монолога: «При таком (ихнем) прочтении удивительности Джойса она приобретает характер не более некоей частной эксцентричности, которой очень старательно приписывают – и по этой линии вполне обоснованно! – генеалогию (с самодовольным Дюжарденом во главе) некоей частной эксцентричности “трюка”, которому по истечении “моды” предстоит не только “лечь под вечные своды”, но и не иметь потомков» (М, «Фрэнк Бэдмен»). Анализируя различие между глубоким открытием Джойса и внешним новаторством Дюжардена, Эйзенштейн приходит к выводу: «Внутреннему монологу “габаритов” Дюжардена ничего не оставалось делать дальше, как опять укладываться в могилу на обширном кладбище литературных курьезов» (там же).
Двадцать лет спустя после того, как Эйзенштейн написал свое эссе о Джойсе и Дюжардене, чье влияние на Джойса он считал пустой темой салонных разговоров снобов, эти продолжающиеся разговоры были иронически запечатлены в романе Н. Саррот «Золотые плоды».
Выраженное в цитированной части «Метода» Эйзенштейна отношение к Дюжардену, как к писателю, несопоставимому с Джойсом, становится все более распространенным. Внутренний монолог Дюжардена был еще слишком украшен безвкусными для нынешнего читателя стилистическими общими местами конца века. Там, где у Джойса точность детали, Дюжарден отделывается общей фразой. Синтаксис Дюжардена предвосхищал стиль Джойса, но Эйзенштейна занимала не столько синтаксическая структура, сколько лежащая в ее основе внутренняя речь.
Эйзенштейн внимательно анализирует приближение в передаче внутренней речи в «Кроткой» Достоевского, внутренние монологи у которого были исследованы М.М. Бахтиным. По мнению Эйзенштейна, подойдя к передаче внутренней речи, Достоевский тут же от нее «отходит и, подслушав магию истинного хода внутренней речи, сглаживает ее “шершавость” и равняется на риторический шаблон условной формы внутренней... декламации, восхваляя и именуя “прообразом” “Последний день осужденного” Виктора Гюго. Правда, у Достоевского кое-где всего лишь в двух-трех местах прорываются и истинные образцы “иного синтаксиса”, – но их бесконечно мало среди общей условности монолога о Кроткой, да и даже в этом случае это скорее сколок изобразительной угловатой жизненности, с которой Достоевский умеет ухватывать истинный “разговорный” синтаксис, comme on le parle [как обычно говорят] в отличие от книжной “правильности” фразопостроений» (М. «Фрэнк Бэдмен»).
В конце «Кроткой», отличие которого от всей остальной повести замечено и самим Достоевским и его исследователями, Достоевский приближается к внутреннему монологу, где мешаются несвязанные прямые фразы, рубленные (часто именные предложения) с отсылками к прежде упомянутому. «Ресницы лежат стрелками. И ведь как упала – ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта “горстка крови”. Дессертная ложка, то есть. Внутреннее сотрясение. Странная мысль: если бы можно было не хоронить?»
Этот же рассказ и авторское предисловие к нему разбираются Бахтиным в книге о Достоевском для иллюстрации того, как «внутреннее слово» героя о себе самом становится последней целью построения (Бахтин, 1963: 72–74).
Путь Эйзенштейна от исследования знаков монтажного киноязыка к попыткам проникнуть средствами кино и одновременно научными методами в строй внутренней речи в известной мере аналогичен движению от рационалистически (логически) понимаемого знака как основного объекта семиотики на первом этапе ее развития к высказыванию.
Монолог Бахтин вообще понимает как диалог, вошедший внутрь, «интериоризированный» в терминах Пиаже, которые использует в своей работе на эту тему Бенвенист, здесь полностью совпадающий с Бахтиным (Бенвенист 1970). «Слово должно было сначала родиться и созреть в процессе социального общения организмов, чтобы затем войти в организм и стать внутренним словом» (Волошинов 1929:50). Эта идея, впервые отчетливо выраженная в исследованиях Бахтина в 1926 – 1929 гг. позднее (в 1934 г.) была поставлена Л.С. Выготским в связь с данными экспериментально-психологических работ Пиаже о детской эгоцентрической речи.
Выготский в своем классическом исследовании «Мышление и речь», впервые изданном в 1934 г., установил, что внутренняя речь, являющаяся формой, в которой обычно протекает работа сознания взрослого человека, возникает из эгоцентрической (предназначенной только для самого говорящего, хотя и произносимой в присутствии других) речи ребенка (Выготский 1956). Эта гипотеза представляет исключительный интерес для решения поставленной недавно Ж. Пиаже общей проблемы «интериоризации» знаков (в частности, слов) – перевода их из сферы общения между индивидами и управления человеческим поведением извне. Эйзенштейн много раз обращал внимание на особенно верное психологически воссоздание внутреннего монолога у Джойса в последней главе «Улисса», которая «чрезвычайно точно воспроизводит течение мыслей засыпающего человека» (т. 3, 287).
Как заметил В.Б. Шкловский (Шкловский 1939), сходная с прозой Джойса запись потока сознания была дана еще Львом Толстым в ранней его вещи «История вчерашнего дня», при жизни Толстого не печатавшейся; в этой вещи есть запись именно дремотного сознания.
Верность этих психологических прозрений писателей и ученых подтвердилась несколько лет тому назад, когда с помощью магнитофона была записана преддремотная речь ребенка (Якобсон 1971б). Если внутренняя речь взрослого человека никогда не произносится, а эгоцентрическая речь ребенка, обращенная к самому говорящему, произносится всегда при других детях, то преддремотная речь ребенка, обращенная к нему самому, не терпит слушателей и поэтому ее стало возможным обнаружить лишь благодаря магнитофону. Строение этого произносимого монолога оказалось сходным с той преддремотной речью, которую записывали Лев Толстой и Джойс. Пристальное внимание к внутренней речи и ее изображению в искусстве позволило Эйзенштейну не только определить вместе с Выготским экспериментальную психологию своего времени, но и, как теперь широко признается в науке о кино, заглянуть в будущее этого искусства.
Интерес к внутреннему монологу объясняет внимание Эйзенштейна к монодраме Н.Н. Евреинова, в ту пору оставшейся недооцененной. Эйзенштейн называет монодраму таким «театральным действием, где сценическое представление есть проекция сгустка психологического внутреннего клубка переживаний персонажа на сценическую площадку». Говоря о монодраме «Представление любви», Эйзенштейн замечал, что она построена «по типу непрерывности потока сознания, которым написана последняя... глава романа Джойса. В ней миссис Блум ждет мужа в кровати и вспоминает своих бывших любовников – без единого знака препинания через много-много страниц – точь-в-точь, как… движется поток нашего сознания особенно в полусумеречных состояниях, особенно перед сном» (М). Сопоставление монодрамы с этой главой «Улисса», занимавшей Эйзенштейна (ср. о ней же т. 3: 286–287) особенно интересно потому, что монодрама, несомненно очень близка тому, что позднее осуществил в своих пьесах (таких, как «Последняя лента Крабба») Самуэль Беккетт – ученик, последователь и секретарь Джойса, переписывавшийся с Эйзенштейном.
С приемом, использованным Беккеттом в «Последней лепте», где внутренний монолог героя записан на магнитную ленту, можно сравнить описанный Эйзенштейном (именно в связи с сопоставлением внутреннего монолога в монодраме Евреинова и в «Улиссе») опыт пародирования внутреннего монолога (по Эйзенштейну, подобный пародии в пьесе Евреинова «В кулисах души») в неосуществленной комедии «М.М.М»: «В М.М.М. – герой М.М… хватая воздух, как рыба, вытащенная из воды – в момент морального затруднения – неосторожно заглатывает… съемочный микрофон. Страшная звуковая баталия вводит нас в круг “внутренней борьбы”… Любви и Долга в душе героя» (М.). Напряженное внимание к проблеме внутреннего монолога, характерное для звукозрительного замысла «Американской трагедии», в этот период сменяется опытом пародийного обращения к нему.
Если средства звукозаписи способствовали экспериментальной проверке крайне занимавшей Эйзенштейна реальности внутреннего монолога в преддремотной речи, то они же могут с успехом быть применены в монодраме, как показывает пьеса Беккетта. Эйзенштейн, намного предвосхитив весь этот круг развития научного и художественного осмысления проблемы внутреннего монолога, первым увидел роль современной техники звукозаписи для решения этой проблемы.
Исследование метода Джойса привело Эйзенштейна к опыту передачи внутренней речи средствами кино в сценарии «Американской трагедии».
Затемнение, наплыв, двойная экспозиция и монтаж Эйзенштейну казались, как он пишет в «Методе» (вспоминая и о ранних своих статьях – «Родится Пантагрюэль», т. 2 и предисловии к книге Гвидо Зебера «Техника кинотрюка», т. 5), естественными средствами передачи внутреннего монолога. По Эйзенштейну, кинодраматургия отличается от театральной драмы тем, что она вырастает из «закономерностей, управляющих специфической формой внутренней монологической речи».
Среди записей к сценарию «Американской трагедии», сделанных по-английски рукой Эйзенштейна. есть одна, в которой вначале назван внутренний монолог, а далее имитируется его разорванная синтаксическая структура – так, как, она передается в прозе после Джойса: «Murder: Inner monologue – I'll never have the courage lo kill her… Never moaning. No» («Убийство: Внутренний монолог – у меня не найдется мужества убить ее... Без единого крика. Нет»). Опубликованный еще в 1942 г. фрагмент сценария «Американской трагедии», по словам самого Эйзенштейна, не раскрывает монтажной структуры внутреннего монолога, которая хранилась в описаниях в заметках (пока лишь частично разобранных).
В сценарии «Американской трагедии» (ч. 9, 5–6) замысел убийства, родившийся у Клайда, когда он прочел газетное сообщение об утопленниках, воплощается сперва в голосе, ему шепчущем, и в видéнии опрокинутой лодки. Здесь средства по существу еще близки к театру Шекспира. Но по мере того, как нарастает голос, говорящий ему «Убей!», на экране мелькают различные изображения (комната Клайда, улица в деловом оживлении, озеро, убогое жилище Роберты, летняя резиденция Сондры, машины на заводе, поезда в движении, бурное море) и всякий раз движения Клайда противоположны состоянию среды, на фоне которой он показывается (он движется в быстром темпе, если фон недвижим, и наоборот: неподвижен на шумной оживленной улице). Шум колес экипажей или заводских машин – все складывается в голос «Убей!», после чего приятный голос без выражения читает статью из газеты. При всей обусловленности развитием сюжета эта часть сценария кажется слишком рационалистически придуманной, чтобы приблизиться к реальному внутреннему монологу.
Как бы опережая замысел «Мариенбада» или «81/2», сценарий «Американской трагедии» (ч. 10, 3–12) использует звуковые и словесные ассоциации для того, чтобы мотивировать всплывание воспоминаний героя (о его детстве). Когда Роберта спрашивает Клайда, не пойдут ли они в церковь, Клайд, слушая ее, начинает слышать голос проповедника, пение гимна, как в его детстве, и он наполняется отвращением. Если эта часть сценария психологически тонко разработана, то следующая за ней сцепа, предшествующая гибели Роберты, в сценарии обозначена с помощью несколько схематичного конфликта двух голосов («Убей!» и «Не убивай!»), борющихся в сознании Клайда. Среди мелькающих в сознании Клайда картин можно видеть сходные с теми внезапными вспышками – предвидениями будущего, которые вводит в кинематографический внутренний монолог героя Ален Рене в своем недавнем фильме «Война окончена». Это как бы кинематографическое соответствие тех моделей поведения, которые ежеминутно строит человек согласно концепции физиологии активности Н.А. Бернштейна.
Внутренний монолог в его литературной передаче у Джойса и кинематографический у самого Эйзенштейна для него был частью той программы, которую он изложил в статье «Одолжайтесь». Характерно, что к английскому переводу этой статьи (Эйзенштейн 1945), Эйзенштейн предпослал эпиграф из речи Стивена Дедалуса – героя «Улисса» Джойса: «Так что жест не музыка, не запахи, будет всеобщим языком, когда дар речи сделает зримым не обыденный смысл, а первую энтелехию, структурный ритм» («So that gesture, not music, not odours, would de a universal language, the gift of tongues rengering visible not the lay sense but the first entelechy, the structural rhythm»). Именно «структурный ритм», метод внутренних монологов Джойса Эйзенштейн хотел подслушать и воссоздать средствами киноязыка (т. 5, 485). Последующий опыт Феллини («8 1/2»), Бергмана («Земляничная поляна»), Алена Рене показал значимость приема внутреннего монолога для киноязыка. Но еще существеннее был метод, передающий значимость этого приема «стенограммы» внутренней речи.
Взаимодействие приемов монтажного кинематографа и современной прозы (в частности. Фолкнера) приводится в современной семиотике в качестве одного из наиболее убедительных примеров того общения разных сфер культуры, которое связано с проблемой их специфичности (Метц 1969: 380–381). Сосредоточение на структуре, а не только на содержании внутреннего монолога, примером которого может быть также ранний опыт Льва Толстого «История вчерашнего дня» (с записью дремотного «потока сознания»), представляет собой особенно важный для искусства XX в. путь, принципиально отличный от объективной подачи внутреннего монолога (Волошинов, 1929) («в линейном стиле»). Если несобственно прямая речь определяется формально как такая, которая может быть посредством одного ряда трансформаций переведена в прямую речь, а посредством другого ряда в косвенную (Успенский 1970: 60, 91), то внутренний монолог «живописного стиля» (в школе потока сознания) непереводим ни в косвенную, ни в прямую речь без потери существенных его композиционных свойств.
Проблему внутренней речи Эйзенштейн, и здесь обнаруживающий себя как характерный мыслитель века, решал в духе подчеркивания ее структурных характеристик, в которых он находил отражение специфических законов чувственного мышления. Поэтому он одновременно был далек и от более ранних опытов изображения внутреннего монолога, до Джонса не проникавших в самую суть этого процесса, и от понимания джойсовского потока сознания только как особой литературной техники.
Решение этой проблемы в теории и практике Эйзенштейна и в работах близких ему ученых (Бахтина, Выготского) может проиллюстрировать тезис о неотторжимой связи наиболее смелых исканий науки с творческим экспериментом в искусстве. Для таких ученых, как Бахтин и Выготский, внутренняя речь оказывалась узловой проблемой при исследовании соотношения между коммуникативной и психической деятельностью человека: трансляция общего для всего коллектива в индивидуальное осуществляется через внутреннюю речь. Сходным образом и для Эйзенштейна проблема внутренней речи стала трамплином для построения теории «Основной проблемы», где скрещивается чувственное мышление и логическое (подчиненное целям коммуникации).
Как и Выготский. Бахтин приходит к семиотическому пониманию высших психических функций, которые всегда «существуют только в знаковом материале» (Волошинов 1929: 37) 5. Бахтин исходит из роли его «знакового воплощения... организующий и формирующий центр которого находится не внутри (т.е. не в материале внутренних знаков), а во-вне. Не переживание организует выражение, а, наоборот, выражение организует переживание» (Волошинов 1929: 101), что отвечает идеям эйзенштейновской психологии выразительности. Наряду с «мы-переживанием» (высшие психические функции в терминах Выготского) Бахтин выделяет низшее чувствование – «я-переживание», лишенное в своих крайних формах коммуникативного проявления: «В отношении к потенциальному (а иногда и явно ощущаемому) слушателю можно различить два полюса, два предела, между которыми может осознаваться и идеологически оформляться переживание, стремясь то к одному, то к другому. Назовем эти пределы условно: «я-переживание» и «мы-переживание». Собственно «я-переживание» стремится к уничтожению: оно теряет по мере приближения к пределу свою идеологическую оформленность, а, следовательно, и осознанность, приближаясь к физиологической реакции животного. Стремясь к этому пределу, переживание утрачивает все потенции, все ростки социальной ориентации, а поэтому теряет и свое словесное обличив» (Волошинов 1929: 164). В частности, группы сексуальных переживаний могут выпадать из социального контекста и в связи с этим утрачивать словесную осознанность.
Бессознательное у Фрейда Бахтин рассматривает как «неофициальное сознание» (Волошинов 1927: 136–137); «чем шире и глубже разрыв между официальным и неофициальным сознанием, тем труднее мотивам внутренней речи перейти во внешнюю речь» (Волошинов 1927: 134). Так в ранней работе, посвященной пере-интерпретации данных психоанализа с семиотической точки зрения, формулируется та проблема соотношения между официальным и неофициальным сознанием, которая составит содержание серии позднейших историко-культурных работ М.М. Бахтина, посвященных противопоставлению «официального монолога» диалогу и неофициальной карнавальной культурной традиции средневековья и Возрождения. По очень близкому пути идет Эйзенштейн, который в еще неопубликованных фрагментах «Режиссуры» и позднее в «Методе» и «Grundproblem» в связи с социально-историческим исследованием проблемы чувственного мышления и его использования в искусстве решал те же вопросы роли карнавала. В книге Бахтина о Рабле «неофициальные элементы речи» или «непубликуемая сфера» (Бахтин 1965: 459, прим. 1), освобожденная от иерархии и запретов официального языка, противопоставлены ему как особый язык, которому соответствует и особый коллектив – карнавальная «толпа на площади» (Бахтин 1965: 203). Само содержание образов гротескного тела, изученных в книге о Рабле, близко к тому кругу символов, которые исследовались Фрейдом и его школой, в этом отношении повлиявшей и на Эйзенштейна; общее есть и в тезисе об амбивалентности площадных слов и карнавального образа.
Но точка зрения Бахтина и Эйзенштейна принципиально отлична от фрейдовской: они анализируют тот неофициальный народный язык, который сложился в определенных – праздничных, карнавальных, ярмарочных ситуациях неофициального общения. Этот язык карнавала пользуется, в частности, набором символов, которые могут иметь много общего с «я-переживанием» (образы низа тела), но по отношению к этому языку (как, видимо, и вообще по отношению к творчеству Рабле и его современников) нельзя говорить о «бессознательном», потому что у Рабле символы карнавала выступают в качестве осознанного коммуникативного средства.
С этой точки зрения, которая была выработана Бахтиным еще в ранних его трудах, биологические и биографические факторы существенны только для «нижних пластов жизненной идеологии» (Волошинов 1929: 111). «То, что обычно называется “творческой индивидуальностью”, является выражением основной твердой и постоянной линии социальной ориентации данного человека... Сюда входят, таким образом, слова, интонации и внутрисловесные жесты, проделавшие опыт внешнего выражения в более или менее широком социальном масштабе, как бы социально хорошо пообтершиеся, отшлифованные реакциями и репликами, отпором или поддержкой социальной аудитории» (Волошинов 1929: 110, 111). Поэтому же карнавальный язык оказывается средством связи нижних пластов внутренней речи с широкой социальной средой, иначе говоря, способом ретрансляции индивидуально-биологического в социальное и обратно – способом перевода социального на язык этих нижних пластов в соответствии с идеей «Основной проблемы».
Связь карнавальной традиции и ее позднейших ответвлений, с одной стороны, и глубинного чувственного мышления (соответствующего нижним пластам внутренней речи), с другой, всего нагляднее обнаруживается на примере цирка. Недавно опубликованные отрывки из детских писем Эйзенштейна (Шкловский 1973) показывают, как рано началось его увлечение цирком. Превращение театра в цирк, намеченное Мейерхольдом в «Мистерии буфф», было экспериментальным соответствием той теоретической работы по биомеханике, которой Эйзенштейн увлекся вслед за Мейерхольдом. Эйзенштейн принимал участие в качестве режиссера-лаборанта в спектакле Мейерхольда «Смерть Тарелкина», целиком строившемся на биомеханике и во многом близком к «чистой клоунаде».
Сращение театра с цирком составляло отличительную черту ранних эйзенштейновскнх постановок. Эйзенштейн и в этом был верен духу своего времени, когда цирк стал едва ли не одним из самых часто упоминаемых видов искусства, в которых не только Эйзенштейну, но и многим другим художникам виделся прообраз других искусств. Цирковые увлечения великих мастеров живописи конца прошлого и начала XX в. – Тулуз-Лотрека, Дега, Пикассо голубого и розового периодов – были словно преддверием той роли, которая отводится цирку у крупнейших кинорежиссеров – Чаплина, Феллини (начиная с «Дороги» и кончая финалом «8 1/2», построенным, как цирковое шествие в конце представления, и последним его телефильмом «Клоуны»), Бергмана (особенно в его «Вечере шутов»).
Для установления непосредственной преемственности особый интерес может здесь представить отмеченная еще И. Аксеновым связь между балетом Пикассо и Кокто (1917 г.) и эйзенштейновскими спектаклями, прямо подготавливавшими аттракционы в ранних его фильмах. Отчасти роль цирка для кино (особенно для массовой широкой продукции) можно было бы объяснить сходством социального заказа: кино унаследовало ту широкую аудиторию, которая раньше могла быть только у спортивных и цирковых зрелищ. Но более существенным – и вероятно определяющим по отношению к названным кинорежиссерам как и по отношению к Эйзенштейну, – является внутреннее родство обоих видов искусства, глубоко выявленное в последнем теоретическом трактате Эйзенштейна. Цирк для Эйзенштейна оставался моделью всякого искусства, вплоть до последних лет его жизни когда по этой именно причине «основную проблему» эстетики Эйзенштейн в заключении к «Методу» раскрывал на примере цирка. Цирковая форма для Эйзенштейна всегда оставалась «предельной» в том смысле, что всякое искусство, по его мнению, тяготеет к этой форме.
Свою постановку «Мудреца» Эйзенштейн позднее (в дневнике 1928 г.) осмыслял как намеренное столкновение «предельно»» цирковой формы с традицией, идущей к Островскому от классического театра: «Умышленный “прыжок назад” от предельной формы всегда заостряет блеск построения. Там, в “Мудреце” хорошо, что это не просто Revue, а ревизованный Островский» (ДЭ, т. IV, стр. 94; у Эйзенштейна игра слов: Revue ‘ревю’ и ‘ревизованный’).
Но в то же время, это театральное действие, где предметность целиком растворялась в монтаже цирковых аттракционов, оставалось весьма содержательным. Его значение не лежало, однако, на поверхности, а касалось глубинных слоев психики зрителя, воздействие на которые Эйзенштейн всегда считал главной задачей искусства. Действие совсем лишалось денотатов (обозначаемых вещей), через которые может быть интерпретировано действие в натуралистическом театре, но у него оставалось (и доводилось до наибольшей возможной остроты) то значение, которое определяется непосредственной реакцией зрителя и поэтому в семиотических терминах может быть названо прагматическим – в соответствии с названием «прагматика» (область семиотики, исследующая взаимоотношение между знаком и его потребителем-получателем или источником, в отличие от семантики, исследующей значение знаков, и синтаксиса, исследующего их соотношения между собой).
Поэтому очерк теории циркового искусства, предложенный Эйзенштейном в «Методе», представляется исключительно важным не только для теории цирка – области, остававшейся совсем еще но разработанной до недавних семиотических опытов, что скорее всего зависело от снобистского пренебрежения низшими формами «площадных забав», к которым, по словам Пушкина, тяготеет «прямой поэт». Для семиотики искусства в целом эта часть завершающего эстетического труда Эйзенштейна важна тем, что в ней показана многослойность тех уровней, по отношению к которым определяются значения знаков искусства. Казалось бы беспредметное на уровне соотношения знаков с денотатами цирковое искусство оказывается особенно семантически насыщенным, если рассматривать его на более глубоком уровне прагматических значений, определяемых через реакции зрителя, что соответствует концепции выразительности Эйзенштейна.
При кибернетическом подходе к проблеме значений естественно возникает возможность определить значение знака через его воздействие на получателя знака. Значением слова или предложения, сообщаемого автомату, можно было бы считать те действия, которые этот автомат совершит благодаря полученному слову или предложению. Эйзенштейн по существу был очень близок к такому кибернетическому подходу к определению значении произведений искусства. Согласно формулировке, много раз повторяющейся в его курсах лекций, программах к этим курсам и статьях, художник в своем произведении всей совокупностью взаимосвязанных его черт сообщает зрителю или слушателю «пропись», согласно которой он испытывает определенные эмоции (его состояние меняется). По существу здесь в зачатке содержится теория искусства как способа программирования человеческого поведении. Согласно такой теории значение знака, являющегося инструкцией или программой, определяется через изменение внутреннего состоянии получатели знака.
Сформулированная Эйзенштейном задача «управления психотехникой зрителя» (т. 1: 80) была непосредственно связана с исследованием управления психикой посредством знаков, которая была выдвинута Выготским и по существу намечала путь, позднее приведший к кибернетическому. «Оперативная эстетика» (т. 1: 86) Эйзенштейна по существу и была уже кибернетической.
С этой точки зрении искусство, оказывающее на зрителя столь сильное воздействие, как цирковое, не может считаться не имеющим значений. Но значения его должны исследоваться способами, отличными от обычных приемов изучения предметного искусства. Как писал Эйзенштейн в соответствующем разделе «Метода»: «Цирковое зрелище есть тот случай, где мы имеем дело с разновидностью искусства, в которой сохранилась в чистом виде только чувственная компонента... во всех иных случаях являющаяся лишь формой воплощения неких сюжетно-идейных содержаний. Поэтому цирк неизбежно работает как своеобразная чувственно-тонизирующая ванна. И поэтому-то цирк особенно популярен среди детей и т[ак] н[азываемого] простонародия, не ищущего в этом виде зрелищ особенных ответов на особые интеллектуальные запросы. Одновременно же и для особо рафинированных, изощренных (“левых”) умов... Поэтому же цирк совершенно безнадежен по линии “осмысления” или осмысленного использования его. Двадцать пять лет систематических и неудачных попыток сделать из цирковой программы “идейное целое” могли бы сами по себе служить подтверждением этой мысли для тех, кому недостаточно отчетливо ясно, что цирковое зрелище самосодержательно, т.е. что чувственный арсенал зрелища здесь самоисчерпывающ» (М, «Цирк»).
Утверждение Эйзенштейна о невозможности «осмысления» цирковой программы относится к его протесту против попыток такого ее видоизменения, которое выводило ее за пределы цирка и лишало действенности. Сам же он дал пример глубинной семантической интерпретации (а не поверхностного осмысления) по отношению к цирковым номерам в своем «Мудреце» и другим ранним своим спектаклям. Разбирая семантику костюма Януковой в момент ее выхода на сцену в «Мудреце», Эйзенштейн писал что «помимо всей “глубинной” образности в этом моменте был и выход за пределы иллюзорной (хотя и относительной) “сценической жизни” – в реальности цирковой – внеиллюзорной работы» (GP, «Круг»).
8.
Каждый выявляемый при исследовании искусства структурный прием Эйзенштейн старался понять через его психологические и патопсихологические эквиваленты: «повторность есть структурный эквивалент или, если угодно, выразитель понятия одержимости (в положительных случаях) или “навязчивости идей” (в случаях патологических) или просто автоматизма, как первобытной стадии всякого функционирования» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»). Эту интерпретацию Эйзенштейн подкрепляет ссылкой на истолкование ритма в работах Кретчмера по медицинской психологии.
Исследуя в свете выводов структурной психологии (Geslaltpsychologie) роль приема недосказанности в поэзии (и в прозе, например, у Хемингуэя), Эйзенштейн отмечает, что он связан с общим для всех людей свойством, заставляющим «всякого нормального человека завершить какое-либо незамкнутое построение в законченную и закономерную формулу» («Рильке II»).
Для психологии искусства и для психологии вообще, значительный интерес представляют мысли Эйзенштейна об экстатическом типе художника (и религиозного деятеля, например Лойолы, подробно им проанализированного).
В мексиканских дневниках Эйзенштейна, в его опубликованных ужо трактатах (т. 3: 205–207) и в «Рильке, II» (АА), в «Grundproblem» («Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»), он постоянно возвращается к экстатической технике Лойолы. Анализируя сохранившуюся (единственную) тетрадку с записями экстатических состояний Лойолы, Эйзенштейн приходит к выводу, что «процесс достижения состояния экстаза распадался на две фазы. Во-первых, создания остропережитых конкретных состояний на темы, взятые из священного писания. Во-вторых, из накопления и сопоставления таких острых состояний обрести необходимое состояние уже сверхсюжетной экзальтации, перебрасывающейся в то, что известно под состоянием экстаза («выхода из себя»)» («Рильке II»). Вторая фаза легче осуществима, но «самым трудным было искусственным путем добиться естественного сильного и искренного переживания «на заданную тему» (там же).
Эйзенштейн подчеркивает правильность вывода о том, что переживание само по себе не может быть вызвано насильно, «для того, чтобы оно возникло само и естественно, нужно собрать достаточное количество сопутствующих явлений и обстоятельств, из сопоставления которых возникает необходимое чувство» («Рильке II»). Детально изучая общую систему и приемы вызывания экстаза, Эйзенштейн отмечает, что важнейшим приемом является «создание определенных физических ощущений по всем пяти исчерпывающим видам чувств: вид, звук, запах, осязание, вкус» (там же). Эйзенштейн, многократно подчеркивавший архаичность экстатической техники, был бы рад узнать, что по исследованиям Леви-Стросса, именно «симфония пяти чувств» характерна для мифов и ритуалов бразильского индейского племени бороро (Леви-Стросс 1964).
Каждое из ощущений согласно экстатической технике возникает суммарно из уже известных: «вообразите, то есть, по существу, вспомните известный вам из опыта – запах серы» (там же). Из этих воспоминаний об ощущениях родится представление (например, картина ада или ощущение смерти), которое уже и вызовет нужную эмоцию, особенно острую «еще и потому, что сфера воссоздания через остроэмоциональное воспоминание не ограничивается только одною сферою органов чувств. В медитациях на тему смерти вам предлагается ощутить то, что вы «отделены от близких вам», «что вы их никогда не увидите» и т.п. психологические и психические состояния, которые вам неминуемо известны из эмоционального прошлого вашей собственной биографии» (там же).
Сравнивая эту экстатическую технику с системой Станиславского, Эйзенштейн указывал на наличие многих общих черт при менее отчетливой рационализации всей системы классификации приемов по отдельным органам чувств (осязания, зрения, вкуса и т.п.) у Станиславского.
Особенно заинтересовала Эйзенштейна предпоследняя «ступень» погружения в экстаз по описанию Лойолы, «когда в сознании должен беспрерывно повторяться одни и тот же образ, облаченный в разные формы. Например, сквозной образ бога, через всевозможные частные эпизоды его предполагаемого бытия на земле в образе человека. При этом важно не разбегаться в подробности, по наоборот добиваться того, чтобы через все разнообразие эпизодов непрестанно “билась” одна и та же мысль, один и тот же образ» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»). Здесь естественно напрашивается сравнение с монтажной фразой «Боги» (рис. 5), в постанализах которой Эйзенштейн утверждал, что эта фраза выражает значение отрицания идеи бога.

Способ достижения экстаза (ср. рис. 6), разработанный Игнатием Лойолой, Эйзенштейн называл «психическим барабаном», сравнивая его с физическим воздействием – фасцинацией «ритмического барабана» первобытных обрядов. В записях экстатических состояний Лойолы Эйзенштейна заинтересовал рационалистически описанный «график, по которому душа восходит к богу, т.е. попросту отделяясь от сфер логического мышления, способна галлюцинации сверхвозбужденного воображения, тонко обработанного “подсказом” образов ожидаемого видения, принимать за реальность; утрачивать ощущение “себя”, погружаться в небытие, т.е. в полный отказ от регистрируемых форм мышления и т.д.» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»).
| Рис.6. Риcунок Эйзенштейна «Экстаз» 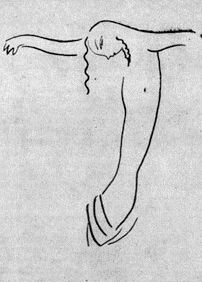 |
Основным средством «первоначальной обработки» человека, вовлекаемого в круг чувственного мышления, Эйзенштейн считал «ритмический барабан». «Приложение этого средства почти универсально, несмотря на самое изысканное разнообразие форм. Начать с простейшего [,] с буквального – с ритуальных барабанов культа Ву-Ду (остров Куба). Мерный стук их, во все убыстряющемся темпе, приводит вторящих им слушателей в состояние полного исступления. Воля парализована. И они находятся в полной власти образов, которые проносятся перед их возбужденным воображением, или тех, что внушает им ведущий. Ничем не отличны “вертящиеся дервиши” Востока, шаманы Сибири или “дансанте” Мексики, в одном и том же ритме с утра до ночи отплясывающие одну и ту же фигуру, под одну и ту же музыку…» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»). Во всех этих случаях посредством действия «ритмического барабана» достигается «временное “выключение” верхних слоев сознания и полное погружение в чувственное мышление, уводящее от реальности в область фантастических обрядов...» (там же).
Причиной того, что ритмический барабан возвращает слушателей на регрессивные стадии мышления, Эйзенштейн считал согласие этого барабана с внутренними бессознательными состояниями: «Все то, что в нас происходит помимо сознания и воли – происходит ритмически: сердцебиение и дыхание, перистальтика кишок, слияние и разделение клеток и т.п. Выключая сознание, мы погружаемся в нерушимую ритмичность дыхания во время сна, ритмичность походки сомнамбулы и т.д. И обратно – монотонность повторного ритма приближает нас к тем состояниям “рядом с сознанием”, где с полной силой способны действовать одни черты чувственного мышления» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»).
Технику экстатического построения в зрительных искусствах (графике и архитектуре) Эйзенштейн изучал на примере Пиранези (т. 3: 165–179). Интерес к Пиранези роднит Эйзенштейна одновременно с романтиками – Гюго, Нодье, Кольриджем, де Квинси, Одоевским – и с новейшими авторами. Следующим за искусством Пиранези шагом Эйзенштейн считает взрыв предметности, осуществленный в искусстве XX в.
Поэтому возобновление интереса к Пиранези в последние годы органично. Характерно, что Пуле, как бы восстанавливая ход мыслей Эйзенштейна, уловил связь видений Пиранези (в их осмыслении де Квинси) с последовательностью «жестов одного и того же человека, запечатленных на киноленте» (Пуле 1966: 666). Энценсбергер – совсем в духе трактата Эйзенштейна – обращается к строениям Пиранези как к символам человеческого сознания (Энценсбергер 1965: 26, 27, ср. Келлер 1966).
Верлибр Энценсбергера, где «темницы» Пиранези предстают в черно-белом монтаже нерифмованных строк без пунктуации как символ человеческих видений (термины, употребленные в стихотворении, относятся одновременно и к архитектурным видениям, и к анатомии черепа), продолжает ту традицию их отождествления с экстатическими видениями, которая была начата де Квинси и поддерживалась Эйзенштейном.
Разбирая архитектурные видения Пиранези в их экстатической интерпретации де Квинси и Кольриджем, Эйзенштейн в связи с особенностями восприятия этих английских романтиков занимается проблемой экстатических видении, вызываемых необычными состояниями сознания.
Эйзенштейн в записях о Мексике не раз (т. 1: 367; т. 3: 176) обсуждает гипотезу, по котором «орнаментальное разложение... в декоративный орнамент человеческого лица на памятниках древнемексиканской архитектуры стилизует искажение образов действительности под влиянием наркотиков» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).
Разбирая (во многих своих записях) орнаментацию перуанской керамики, Эйзенштейн говорит о том, что вне помноженности на зрительные «сдвиги» в видениях сумеречных состояний никогда не могла бы осуществиться подобная причудливость орнаментальных форм» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).
В описанных Гране особенностях стиля древнекитайских авторов, которые с помощью стандартных формул прямо вводят читателя (слушателя) в целостную систему понятий, не расчленяемую аналитически, Эйзенштейн замечает, что речь идет о «физиологическом воздействии par excellence» (т.е. «по преимуществу» PC: 72 и 74). Его занимает то, что, согласно Гране, речь идет не о сообщении сведений, а о пробуждении уже существующих в воспринимающем состоянии; для этого подходят стереотипные формулы, получающие различные толкования. За физиологическим глобальным воздействием, по Эйзенштейну, следует восприятие детали (там же; 74); существенны оба эти приема (там же).
Эйзенштейна чрезвычайно заинтересовала связь разных жанров древнекитайской литературы с типом вдыхания (PC: 76–77), предполагающаяся по гипотезе, на много столетий предвосхитившей смелые выводы Выготского – друга Эйзенштейна: в некоторых жанрах древнекитайских стихов обязателен глубокий вздох, приходящийся на месте цезуры в каждом стихе. Изложенное Эйзенштейном представление о «прописи», которую произведение искусства сообщает человеку, его воспринимающему, близко к пониманию процесса восприятия речи в психолингвистике, где предполагается, что слушатель синтезирует воспринимаемые фразы по тем же правилам, которые используются говорящим.
Наибольший интерес высказывания Эйзенштейна об экстазе имеют не в той части, где они касаются рецептуры экстатического творчества, а там где изучение экстаза связывается с проблематикой регресса к низшим формам (в этом же духе можно оценить и новейшие труды Мирче Эллиаде о шаманизме и технике экстаза) и с установлением связей между структурой произведения и психологическими структурами. Описание архитектурных форм у Гоголя Эйзенштейн рассматривает и как раскрытие Гоголем «экстатической природы своей натуры», и как выражение некоторых принципов «предпосылочных устремлений нашей природы» (т. 3: 192). Искусство предопределено человеческой природой.
Схему композиции патетических произведений он мыслил как сколок с закономерностей «ежесекундного становления и развития вселенной» (т. 3: 202). По его словам, те же переживания лежат в основе представлений мистических и пантеистических, но его интересовал более глубокий уровень, позволяющий объяснить эти последние, но к ним не сводящийся.
Психологически и социологически исключительный интерес представляет столь напряженное внимание к технике экстатического слияния со всей природой у художника, в высокой степени связанного по своим эстетическим истокам с разладом искусства начала века, его дисгармоничностью.
Искусство, по Эйзенштейну, непосредственно отображает структурные закономерности природы. Резонанс, как явление природы. первоначально прямо передается «перезвоном» (как в древнекитайском искусстве) и лишь позднее становится приемом искусства – повтором (т. 3: 274). Особенно близки Эйзенштейну были современные идеи синтеза наук о неорганической и органической природе (т. 3: 189).
В очень глубоком смысле слова Эйзенштейн понимал исследование искусства в духе современной бионики – науки, исследующей некоторые общие принципы построения биологических систем с тем, чтобы перенести их на построение систем конструируемых. Эйзенштейна особенно привлекали такие случаи, когда «произведение искусства – искусственное произведение – построено по тем же законам, по которым построены явления неискусственные – “органические”, явления природы» (т. 3: 46).