Очерки по истории семиотики в СССР
| Вяч. Вс. Иванов Очерки по истории семиотики в СССР | Глава первая | Глава вторая | Глава третья | Глава четвертая | Литература |
1.
С точки зрения теории знаков (семиотики) художественное произведение можно рассматривать как текст или знак, состоящий из нескольких уровней. В наиболее простом случае под текстом понимается последовательность знаков, а под знаком – структура, включающая означаемую (signifié) и означающую (signifiant) стороны знака. Однако для семиотического исследования искусства существенно то, что текст (высказывание) может выступать и как единое целое, не членящееся на отдельные самостоятельные знаки, обладающие значением, хотя при этом нечленимый на знак текст может разлагаться на отдельные компоненты – «фигуры» (по терминологии Ельмслева, принятой в последних работах Бенвениста, где особенно четко сформулирована эта мысль, впервые еще в конце 20-х годов намеченная М.М. Бахтиным). Такими фигурами, не имеющими самостоятельного значения и поэтому не являющимися знаками, могут быть, например, отдельные цветовые пятна на картинах тех художников нового времени, которые (в отличие от некоторых школ иконописи) не пользовались символикой цветов (при использовании этой последней каждое цветовое пятно имеет свое собственное значение и поэтому выступает как знак – подобно зеленому цвету, означавшему бессмертие в египетских текстах Пирамид).
Можно условно называть весь такой членящийся на фигуры, но не на знаки текст, например, все живописное произведение в целом, знаком, хотя ввиду его размеров и сложности сопоставление со знаками (например, словами) естественного языка не окажется в этом случае наглядным; но в пользу такого употребления термина «знак» говорит то, что и в некоторых языках один знак-слово существенно сложнее по своей структуре (и существенно больше по величине), чем более нам привычны слова европейских языков. Так, в инкорпорирующих-полисинтетических языках индейцев Северной Америки и в северо-западнокавказских языках внутрь одного знака-слова входит по существу эквивалент целого высказывания: абазинское дrIахI-напIы-цIашвад ‘он попал в наши руки’ формально является одним (инкорпорирующим) словом, но внутри него находятся не только фигуры (фонемы – звуковые единицы), но и целые знаки-слова (напIы ‘рука’).
Другим существенным уточнением, вносимым в теорию эстетического знака современным развитием семиотики, является то, что знак представляет собой сложную структуру, которая, например, в естественном языке описывается как состоящая из нескольких уровней. Отношения между единицами этих уровней формализуются в порождающей грамматике с помощью правил переписывания (развертывания – rewriting rules у Хомского). То, что на ранних этапах развития семиотики именовалось означаемой и означающей сторонами знака, представляет собой только сообщения на входе (input) и выходе (output) всей знаковой структуры. Но как для лингвистики, так и для семиотики в целом и отдельных ее ветвей (в том числе занимающейся исследованием искусства), наибольший интерес представляет соотношение между разными уровнями внутри знаковой структуры.
Эти уровни, по которым могут быть расклассифицированы различные художественные средства, располагаются между замыслом (представляющим собой высший уровень или означаемую сторону художественного произведения) и конечным его воплощением в последовательности сигналов, воспринимаемых органами чувств. Последнюю можно назвать означающей стороной, или низшим уровнем художественного произведения. Знаковый характер художественного произведения предполагает наличие не меньше чем двух этих уровней, обязательно не совпадающих друг с другом (поэтому, например, не является художественным произведением деловая фотография для паспорта или другого документа, где изображение не должно выражать никакого замысла).
В наиболее простом случае означаемая сторона художественного образа может быть отождествлена с концептом (смыслом – Sinn, в терминах Фреге (Frege) и логиков, за ним следующих), означающая сторона – с детонатом: образный смысл (концепт) красного флага в кинофильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» может быть раскрыт словами, описывающими идею восстания, тогда как денотатом этого образа («образа-знака», согласно теории киноязыка П. Пазолини) является самый предмет – флаг. Подобные однозначные образы характерны для интеллектуального кино Эйзенштейна, интеллектуального театра Брехта и других образцов современного «ангажированного» («завербованного») искусства, где у каждого художественного образа предполагается четкая прагматическая функция (социальный заказ), а также для более ранних образцов программного искусства, в частности, ритуального (ранние архитектурные памятники, своей формой воспроизводящие определенную, например, четырехчленную модель мира; иконы; священные действа и мистерии; некоторые виды духовной музыки и т. п.).
Для художественного произведения с четко выраженными концептами допустим перевод на другие языки (в случае словесного искусства) или транспонирование их средствами другого искусства. Так, здесь возможно создание музыкального эквивалента стихотворному тексту, например, в 13-й и 14-й симфониях Шостаковича, или тексту прозаическому в операх «Катерина Измайлова» и «Нос» того же композитора и в «Свидетеле из Варшавы» Шенберга. Такой перевод или транспозиция невозможны в тех произведениях искусства, где на первый план выдвигаются собственно эстетические задачи, формулируемые прежде всего в терминах соотношений между разными уровнями знаковой структуры или соотношений внутри одного уровня.
В таких случаях часто концепт может быть описан лишь негативно – при сопоставлении с отличными от него концептами других произведений; эта негативная установка отчетливо выражена в термине «антитеатр», относящемся к пьесам театра «абсурда» (Хармс, Введенский, ранний Ионеско, Беккет, Олби), где, в отличие от пьес драматургов других школ, концепт либо отсутствует, либо намеренно противоречит денотату. При отсутствии заданного концепта на первый план выдвигаются не семантические, а синтаксические задачи. Наличие не менее двух уровней в художественном образе обеспечивается в этом случае благодаря несовпадению изображения с эталоном, считающимся (для обычного восприятия) нормальным по отношению к данному денотату (остранение в словесном искусстве, например описание оперного спектакля в «Войне и мире», или художественная деформация, характерная для ранних стадий искусства и для отдельных крупнейших художников позднейших эпох: Микельанджело, Эль Греко, Роден, и особенно последовательно проводимая в кубизме, например у Пикассо). С теоретико-информационной точки зрения при остранении (новом показе) предметов, восприятие которых автоматизировалось, передается существенно большее количество информации.
Низший уровень (означающая сторона) художественного образа образуется материальными сообщениями, кодирующими замысел: звуками речи в поэзии, цветовыми пятнами в живописи, линиями в графике, объемами и поверхностями в скульптуре. В тех современных искусствах, где концепт характеризуется чаще всего негативно, обнаруживается стремление соотнести этот негативный концепт непосредственно с низшим уровнем художественного образа («заумная» поэзия Хлебникова и дадаистов, беспредметная живопись). В этих случаях изобразительность (соотнесенность с денотатом) может быть сведена к минимуму (как это обычно в непрограммной музыке или архитектуре), а перевод или транспозиция принципиально невозможны.
Различные уровни художественного образа (например, низший – звуковой и более высокий – семантический в поэзии) оказывают влияние друг на друга. Структура художественного образа на каждом уровне в поэтическом языке зависит не только от высшего уровня (замысла), но и от ограничений, наложенных на низший уровень выбранной автором формой.
С лингвистической точки зрения работа писателя состоит в отборе единственного текста, удовлетворяющего эстетическим критериям, из всего возможного числа фраз (или более обширных текстов), передающих некоторое содержание. Особенностью обычного (естественного) языка, благодаря которой делается возможным словесное художественное творчество, является многообразие синонимических способов передачи одного и того же значения (в отличие от полной однозначности, к которой стремится язык науки). Мера равноценных способов передачи одного и того же содержания h2 может быть в принципе вычислена на основании таких экспериментов, как, например, осуществление разными лицами перевода одного и того же иностранного текста или пересказ одной и той же ситуации (или же с помощью машинных экспериментов семантического синтеза). Для поэтики, в частности для проблемы метафорического и метонимического стилей, исключительное значение имеет соотношение между этим коэффициентом h2 и коэффициентом β, характеризующим ограничения, налагаемые на текст стихотворной формой. Благодаря этим ограничениям существенно уменьшается число текстов, из которых производится выбор. Последний коэффициент может быть вычислен благодаря успехам современного статистического стиховедения.
Применяя к исследованию стиха идеи теории информации, А.Н. Колмогоров исходит из того, что (в согласии с трудами создателя теории – Шеннона, развитыми в многочисленных работах последних десятилетий) может быть экспериментально определена энтропия естественного языка. Поэтому можно построить модель творческого процесса, понимаемого как распределение «расходов энтропии» (в пределах возможностей языка).
Согласно Колмогорову, энтропия языка H складывается из h1-информационной емкости языка, т.е. количества разных мыслей, которые могут быть изложены в тексте данной длины, и h2-меры равноценных способов изложения одного и того же значения: H = h1 + h2. Если коэффициент β, характеризующий формальные ограничения, накладываемые стихотворной формой, больше меры синонимии языка (β > h2), то выражение заданной мысли в данной форме невозможно. Таким образом, неравенство h2 > β оказывается необходимым условием поэтического творчества; им определяется, в частности, соотношение между сложностью поэтической формы (т.е. величиной β) и числом образных употреблений слов, увеличивающим величину h2.
Из открытой А.Н. Колмогоровым роли неравенства h2 > β следуют чрезвычайно существенные выводы для описательной и исторической поэтики: при увеличении сложности стихотворной формы (т.е. при увеличении β) должна быть увеличена и гибкость языка данного автора (h2). Это оказывается достижимым благодаря разрешаемому структурой языка увеличению числа образных (переносных или метафорических) употреблений или многозначности каждого слова (что увеличивает соответственно синонимию в широком смысле слова, т.е. гибкость языка). Обратно, расширение числа метафор для переносных употреблений слова создает условия для увеличения числа формальных приемов (рифм, звуковых повторов и т.д.) в данном тексте.
В строфах Пастернака, описывающих море в его поэме о 1905-м годе, такие цепочки слов с одинаковыми или сходными фонемами, как рьяности – прячась – пряность, допотопный – расторопный, свирепеет – сатанеет, по-своему – воет, по сваям – по-своему, не могли быть употреблены, если бы поэт не использовал бы этих слов в метафорическом смысле (характерен контраст с отсутствием звукописи и метафоричности в последующих строфах). Поэтому взаимозависимость между усложненностью заданной поэтической формы и образностью поэтического языка, характерная для многих восточных поэтических традиций и для определенных периодов истории европейской поэзии, оказывается выводимой из указанной математической закономерности.
Стихотворная форма с заданным метром и с обязательным повторением одних и тех же рифм в заданном порядке, которой написаны, например, сонеты Гонгоры или «баллады» из «Второго рождения» Пастернака («На даче спят» и «Дрожат гаражи автобазы»), по-видимому, предполагает в принципе употребление поэтом большего числа образных выражений, чем свободный стих. Именно поэтому свободный стих столь широко используется в таких образцах публицистической или интеллектуальной поэзии с четко очерченными значениями слов, как стихи Брехта.
Распространение свободного стиха в новейшей поэзии естественно связывается с преодолением традиционного противопоставления поэтического и разговорного языка. В указанном отношении свободный стих XX в. можно сравнить с белым стихом предшествующих столетий (при этом в обоих случаях относительное уменьшение ограничений, накладываемых звуковой организацией стиха, может компенсироваться усложнением смыслового строения текста, что заставляет внести соответствующие поправки в приведенные выше общие рассуждения). Сама по себе тенденция к приближению языка поэзии к разговорному языку многократно ощущалась и в предшествующие эпохи, но только во второй половине XX в. увеличение роли свободного стиха, функционально сближающегося с «киноправдой» (где язык реальных событий подвергается минимальной монтажной деформации, как в свободном стихе минимальной деформации может подвергаться семантика языка естественного), ведет к изменению верного для более ранних эпох тезиса о том, что метафоры преобладают в языке поэзии, метонимии – в прозе (характерна, впрочем, роль метонимического «крупного плана» в классической японской поэзии, с которой сближается и современный свободный стих). Господство метафорической установки предполагает выдвижение на первый план парадигматических отношений, тогда как метонимический стиль всегда характеризуется ролью синтагматических отношений по смежности (Якобсон 1973).
Помимо парадигматического разделения по уровням, структура художественного произведения может исследоваться синтагматически – с точки зрения выделения отдельных составных частей внутри художественного произведения; каждая из таких частей в свою очередь может рассматриваться как художественный текст (например, эпизод внутри фильма, монтажная фраза внутри эпизода, кадр внутри монтажной фразы). Замысел целого (произведения как художественного образа) не выводится из суммы концептов составных частей, каждая из которых приобретает свою функцию только в пределах всего произведения (монтаж в немом кино и в некоторых новейших звуковых фильмах, например, у А. Рене; композиция новеллы и романа и т.п.). Обычный предмет повседневной жизни (колесо от брички в «Мертвых душах») может рассматриваться как знак некоторой ситуации, из-за чего получает особую значимость. Персонажи в литературных произведениях так же могут быть описаны прежде всего по их синтаксическим (сюжетным), функциям.
Принципиально отличны друг от друга те виды искусства, низший уровень которых строится из дискретных единиц (например, звуков речи – фонем) и непрерывные виды искусства (например, кино, где кадр, особенно кадр-эпизод в современном метонимическом кино, в реальном восприятии неразложим на отдельные дискретные знаки). По отношению к низшим уровням художественного образа, строящимся из дискретных элементов – «фигур», уже оказалось возможным построение математических моделей (в стиховедении), определение количественной меры сложности художественного образа методами теории информации (расчеты затрат энтропии языка на художественную форму, например, в «Евгении Онегине» около 13 двоичных единиц информации на одну строку, по А.Н. Колмогорову).
Это, в свою очередь, дает возможность описать художественный образ как результат действия автомата, перерабатывающего первоначальный замысел. Для такого автомата применительно к поэзии может быть дана оценка его сложности и временных характеристик (из которых, в частности, следует принципиальная трудность автоматизации художественного творчества по сравнению с другими видами интеллектуальной деятельности). Знаковая структура может быть интерпретирована как программа работы автомата, откуда следует возможность моделирования ряда эстетических проблем (Колмогоров 1965, 1969).
Наличие строгих синтаксических правил следования «фигур», единиц низшего уровня, складывающихся в единицы высшего ранга, последовательности которых тоже закономерно организованы, характерно для классической европейской музыки в отличие от некоторых направлений новейшей музыки, где, как и в беспредметной живописи, осуществляется, согласно К. Леви-Строссу, наибольшее приближение к одноуровневому искусству (с наименее сложной структурой художественного образа, не являющегося в этом случае знаком в обычном смысле) (Леви-Стросс 1964, 1972).
Выделение алфавита (набор) элементов – «фигур», из которых строится низший уровень художественного образа, проведено по отношению к таким формализованным системам, как классический балет (набор основных положений) и пантомима (алфавит основных движений, по системе М. Марсо), древнеиндийская скульптура (где в местной традиции выделены основные жесты, соответствующие и основным элементам индийского танца). Для более высоких уровней, непосредственно связанных с концептом, синтаксические правила следования элементов установлены в дискретном случае по отношению к таким фольклорным произведениям, как русская народная сказка (с жестко определенной последовательностью действий или функций), и сказки некоторых других народов, загадки (представляющие собой удобную простую модель для изучения структуры текста), заговоры. Такие же четкие синтаксические правила обнаруживаются и в произведениях современной массовой культуры (детективный роман и новелла, голливудский фильм), но в этом случае под вопросом остается принадлежность их к числу художественных.
Модель, предполагающая наличие замысла и низших уровней, может быть использована как при описании произведений искусства, так и при исследовании художественного творчества. При этом предполагается, что для воплощения своего замысла автор произведения отбирает некоторое число элементов из обширного репертуара, представляемого в его распоряжение грамматикой и словарем естественного языка (в поэзии), определенной 5-тоновой, 7-тоновой, 12-тоновой и т.п. системой (гаммами в музыке), набором допустимых движений (в балете), запасом повседневных ситуаций (в художественной прозе, кино и т.д.).
Можно предположить, что отчасти перебор астрономически огромного числа вариантов, без которого нельзя полностью обойтись при моделировании решения таких задач, на практике сокращается благодаря наличию множества людей искусства, например, писателей, подготавливающих появление одного крупного писателя (как Пушкин был подготовлен меньшими поэтами XVIII и начала XIX вв.). При этом перебор осуществляется всем обществом, совокупно читающим своих писателей. Поэтому препятствия, которые могут возникнуть перед обществом при решении этой коллективной задачи, пагубно отразятся на результатах литературного развития: так, например, особенно вредной может быть практика литературного редактирования, устраняющая из текста элементы, несущие информацию, в частности, необычайные сочетания слов, содержащие наибольшее количество информации в точном смысле этого слова.
С этой точки зрения особенно существенной задачей литературоведения оказывается тщательное исследование того, как отдельные частные достижения в творчестве крупных поэтов подготавливаются всей предшествующей литературой (например, большой материал, относящийся к использованию традиций XVIII и начала XIX вв. Пушкиным, был собран в исследованиях таких наших пушкиноведов, как Г.А. Гуковский, Г.О. Винокур, Б.В. Томашевский и др.). Сходный материал накоплен шекспироведением, исследовавшим преобразование дошекспировской традиции на уровне мотивов и сюжетов у Шекспира. В пределах творчества одного писателя «персональная филология» – исследование черновиков и версий одного произведения – может содействовать уяснению еще неясных путей отбора. В киноведении также возможна постановка сходных задач там, где сохранилось много промежуточных материалов, позволяющих восстановить историю фильма. По существу литературоведение в указанных областях может дать опору для построения моделей, подобных современным кибернетическим моделям биологической эволюции.
Рождающаяся в новейших математических и литературоведческих работах стохастическая поэтика в той же мере, что и современная биология, исходит из роли случая в эволюции сложных структур. Понятие отбора прямо связано с представлением о нарушении традиций. В поэтике мы находим аналог к устойчивости видов (таковы традиционные жанровые формы, начиная с фольклорных) и мутациям. При этом можно говорить о литературном развитии (в частности, в европейской литературе XX в.), направленном в сторону мутаций. Особенное значение и для литературной теории, и для эксперимента (например, сюрреалистического) имеет принятие случайного как метода (в этом отношении несомненный интерес представляет алеаторика в музыке, предшественником которой считают уже Моцарта, интересовавшегося возможностями случайного составления музыкальных произведений). Отбор осуществляется путем выбора из большого числа случайно получаемых структур. В художественной литературе те сообщения, которые с точки зрения теории информации несут шум, могут быть переработаны в такие, которые в составе литературного текста являются носителями информации. В этом и состоит преобразование фраз обиходного языка, включаемых в художественный текст.
В эстетических исследованиях Эйзенштейна с той точки зрения, которую в современных терминах можно назвать семиотической, детально исследовано соотношение между образом (соответствующим означаемому в семиотике) и изображением (соответствующим означающему). При этом всякий раз Эйзенштейн исследует взаимоотношение образа и изображения с обозначаемыми предметами (денотатами) и идеями (концептами). Характер этих взаимоотношений вытекает из теории выразительности: необходимость достижения максимального воздействия произведения на человека, его воспринимающего, часто требует несовпадения образа с изображением, изображения с денотатом и т.п. Различные возникающие при этом возможности были отдельно изучены Эйзенштейном. Согласно Эйзенштейну, лейтмотив в каждом из его фильмов, пронизанных сквозной темой, дается трояким способом: предметным изображением, возгласом и титром (GP).
Эти три типа показа темы отвечают трем ступеням представления предмета. Первая из них – такая, которая не отделена от видимости самих предметов. В качестве иллюстрации в одной из своих заметок Эйзенштейн упоминает философов из академии Лапуты, в «Путешествиях Гулливера» у Свифта, изъяснявшихся с помощью демонстрации предметов. Вторая стадия, по Эйзенштейну, характеризуется «полуосвобожденностью от чувственного комплекса», связанного с предметом; этот «звукокомплекс» Эйзенштейн сравнивает с диспутами буддистов, во время которых исследовалось соотношение предмета и имени. Наконец, титры соответствуют «чистой абстракции – депиктографированному начертанию» (GP), т.е. начертанию, свободному от изобразительности.
Эйзенштейн, по его собственным словам, еще в детстве испытал сильное впечатление, «когда впервые узнал, что то, что мы полагаем совершенно абстрактно самостоятельным – наши собственные имена, есть не более, как весьма предметные обозначения, только высказанные на мало известных нам в обиходе и обычно мертвых языках» («Глава о Достоевском», М; в качестве примера Эйзенштейн приводит свое собственное имя: «Сергиус – значит ‘почтенный’»). Проблема постепенного превращения конкретного предметного обозначения в иероглифический знак для отвлеченного понятия становится одним из главных предметов размышлений Эйзенштейна в то время, когда он приступает к решению задач интеллектуального кино. Но еще раньше сходные вопросы возникали перед ним при работе в театре.
Опыт, накопленный в этих областях экспериментального искусства и при занятиях иероглификой, осмысливается в статье «За кадром» – послесловии к книге «Японское кино» Н. Кауфмана. Статья посвящена разбору тех черт японской культуры, которые, с точки зрения Эйзенштейна, являются кинематографическими, хотя и лежали тогда еще за пределами кино («за кадром»). Статья начинается с анализа иероглифики. Эйзенштейн показывает, как древнее изображение лошади превращается в иероглиф  ‘лошадь’ по-китайски читающийся ма, по-японски умма (т. 2, 284). Здесь Эйзенштейн формулирует закономерность, характерную для всех типологически поздних иероглифических систем письма. В них почти полностью устраняются элементы изобразительности, еще сохранявшиеся в полупиктографических, отчасти сходных с рисунками, знаках раннего письма.
‘лошадь’ по-китайски читающийся ма, по-японски умма (т. 2, 284). Здесь Эйзенштейн формулирует закономерность, характерную для всех типологически поздних иероглифических систем письма. В них почти полностью устраняются элементы изобразительности, еще сохранявшиеся в полупиктографических, отчасти сходных с рисунками, знаках раннего письма.
Эволюция знаков-символов, возникающих из конкретных изображений, Эйзенштейна заинтересовала очень рано. Обсуждая мысль психиатра Кретчмера о развитии письма путем формального сокращения серий знаков-образов, Эйзенштейн замечает, что его это волновало «...очень давно еще с детства»; например в латинском L ему виделся контур очертания профиля лежащего льва (попутно можно заметить, что самый образ лежащего льва, связанный с зарождением методов интеллектуального кино в «Потемкине», с детства входил в «запас» образов, занимавших Эйзенштейна).
Преобразование означающей (внешней) стороны письменного знака, становящейся все более условной, обычно связано с тем процессом, который Эйзенштейн детально прослеживает в «За кадром» и других своих работах тех же лет. Речь идет о том, что в семиотических терминах может быть названо превращением знака-изображения (icon) или указателя (index) в знак-символ (symbol).
Для всякого знака характерной является двусторонность, то есть наличие внешней (означающей) стороны (написания в письменном языке, звучания в устном языке), соотнесенной со значением – концептом и с некоторым предметом (или чаще всего классом предметов) – денотатом. Связь между означающей стороной знака, с одной стороны, и значением и денотатом, – с другой, может быть различной. В знаке-изображении (например, на картине в предметной живописи) означающая сторона воспроизводит денотат (хотя бы частично); знак-указатель, например, стрелка, показывающая, куда идти, ограничивается сигналом, указывающим на предмет. Наконец, для знака-символа (например, для большинства слов языка) характерна полная условность связи между означающей стороной, значением и денотатом.
Интересовавшие Эйзенштейна знаки-символы иероглифической письменности обычно проходили путь развития от наиболее прямой (изобразительной) связи начертания и значения к наиболее окольной – условной.
Эволюция знаков-изображений, становящихся знаками-символами, имеет место не только при превращении рисунков-пиктограмм в стилизованные иероглифы-символы и при грамматикализации, когда самостоятельное слово становится грамматическим знаком, но и при развитии ритуалов и социальных институтов.
С этой точки зрения изучен процесс развития конкретного ритуального символа – знака неба, солнца, грома или быка, становящегося позднее синтаксическим знаком особой социальной функции – царем (архаические ритуалы, связанные с символикой царской власти, реконструированы Эйзенштейном в его последнем фильме). По мере развития царской власти она абстрагируется от первоначальной символической функции, к которой сводилась роль царя во всех древних обществах, не знавших выделенного устройства для управления (Хокарт 1963; Иванов 19696).
Устранением черт изобразительности объясняется и развитие игр, где деление на две группы фигур (шашек или шахмат) или на две команды (как в футболе) некогда воспроизводило социальную (дуальную) организацию, как в шашках древнейших культур долины Инда и в шашках народов Сибири, а затем свелось к чисто синтаксическим правилам устройства данной игры. Возможность соотнесения каждой из команд с солнцем или ночью еще сохранялась в играх все той же древней Мексики, архаичность которой столь привлекала Эйзенштейна. Оживление древней ритуальной функции игры, например, футбола, когда каждая из команд снова соотносится с какой-либо социальной группой, является примером того регресса к древним формам, черты которого в современной жизни, возникающие, в частности, под влиянием аффекта, внимательно изучал Эйзенштейн.
Это же развитие прослеживается и при изучении орнамента, где первоначальная непосредственная связь с денотатом может быть восстановлена только исторически. Как отметил Эйзенштейн, самой архаичной формой орнамента является такая, где обозначаемый предмет сам себя обозначает. Эйзенштейна очень занимала история орнамента, материалы для изучения которого он подбирал в своей библиотеке по разным странам мира (о чем он упоминает и сам в одной из своих записей об орнаменте).
Говоря об основных чертах искусства, проявляющихся в его «первообразе» (орнаменте, которому посвящены многие заметки Эйзенштейна), он отмечает, что «в самой ранней стадии орнамента изобразительность отсутствует вовсе. На месте изображения – просто сам предмет, как таковой: на нитку натянуты когти медведей, или зубы океанских рыб, просверленные раковины, засушенные ягоды или скорлупа» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).
В соответствии с этой точкой зрения Эйзенштейна, показ предмета как такового в искусстве XX в. вместо изображения предмета (например в коллажах кубистов) можно было бы считать регрессом к начальным стадиям искусства, что соответствует одной из основных мыслей его «Grandproblem».
Дальнейшие тенденции развития орнамента связаны с постепенным развитием изобразительных черт, становящихся все более условными.
По мнению Эйзенштейна, росписи перуанской керамики, многократно им анализируемой, поражают своим рисунком именно потому, что в степени ее графической и цветовой застилизованности совершенно невозможно ухватить источники внешних впечатлений, их породивших» (М., отрывок «Снимать нельзя. Пишу»).
Точно так же Эйзенштейн (с художественной проницательностью предвосхищая выводы, подтвержденные недавними исследованиями древнего центральноамериканского искусства) говорит о возможности разгадать в орнаментах майя «бесконечные вариации на тему силуэтов верхней челюсти кайманов и крокодилов» (там же).
Потеря изобразительности, являющаяся, следовательно, результатом развития в одном и том же направлении в самых различных системах знаков, интересовала Эйзенштейна в особенности тогда, когда она была связана с соединением двух знаков в один. В той же статье «За кадром», на примере второй категории иероглифов (хой-и, ‘совокупных’) Эйзенштейн показывает, как путем монтажа совершается переход от изображения предмета к передаче понятия (т. 2: 284–285).
Часто об Эйзенштейне говорят как о теоретике, переоценивавшем роль монтажа в кино (Миша 1951, Метц 1964) и распространявшем этот принцип на все виды искусства (Метц, 1968: 40–41).
Но он сам отошел от крайностей своих ранних теоретических работ с их установкой на короткий монтаж в узком (технически-кинематографическом) смысле. В трактатах поздней поры, как и в статье «За кадром», им предшествующей, его занимает не столько монтаж в общепринятом смысле, сколько «синтаксис языка форм искусства» (т. 3: 218), в частности, «звукозрительный синтаксис кинематографа» (т. 3: 474).
Здесь даже терминология совпадает с развившейся в самое последнее время семиотической, где под синтаксисом понимаются правила сочетания друг с другом каких-либо знаков, передающих определенное значение, будь то сочетания звуков в словах, слов в предложении, комбинации цветовых пятен на картине, иероглифов в иероглифической надписи или кадров в фильме. Первые десятилетия нашего века характеризовались исключительным вниманием к синтаксису различных знаков как в искусстве (кубизм, дадаизм, монтажный кинематограф), так и в науке (дескриптивная лингвистика, метаматематика, логический синтаксис и т.п.). В этом смысле ранние фильмы Эйзенштейна с их подчеркнутой установкой на монтаж и соответствующие его теоретические декларации отвечали духу времени; позднее сам он видел признак юности в «осязаемости контрапунктического построения» в «Потемкине» (т. 3: 290).
Но для нынешнего семиотического подхода к произведениям искусства эстетические исследования Эйзенштейна представляют особый интерес не там, где он, следуя вкусам своего времени, занимался прежде всего синтаксисом как таковым, а там, где (как в статье «За кадром») Эйзенштейн синтаксис превращал в средство изучения семантики, что находит соответствия в работах по логической семантике. Эйзенштейн исследовал, как синтаксическим сочетанием двух изображений (например, двух пиктограмм или иероглифов) передается «графически неизобразимое». Этот принцип Эйзенштейн считал основным и для иероглифики задуманного им интеллектуального кино, которое отошло бы от фотографической изобразительности.
Анализируя в своем дневнике сразу же после завершения работы над «Октябрем» монтажную фразу «Боги», ставшую затем его «парадным примером» («Paradebeispiel») интеллектуального кино, Эйзенштейн писал, что при всем изобразительном различии вошедшие в эту фразу «куски похожи... по линии их значения... барочный Христос и деревянный болван – совсем не похожи, но значат одно и то же» (ДЭ, т. IV, стр. 50; подчеркнуто Эйзенштейном; позднее Эйзенштейн пробовал найти и черты пластического сходства между этими кусками монтажной фразы «Боги»).
| Рис.7. Монтажная фраза со статуями из кинофильма «Октябрь»  |
После постановки «Октября» Эйзенштейн старается понять, как в удавшихся местах фильма он сумел последовательностью изобразительно различных кадров передать одно значение. 2 апреля 1928 г. он записывает в своем дневнике: «Блестящий способ придания однозначности кадру – это его повтор. Очень сложное барокко Иорданской лестницы + Керенский + 2 адъютанта + статуи etc. – очень мало похож на “однозначный” значок. Повтором он становится одного значения – “вознесение”» (ДЭ, т. IV, стр. 20) (рис. 7). Выделив процитированную мысль тремя чертами с обеих сторон, он затем поясняет ее по-французски: «Il se souligne lui-meme» ‘Он (т.е. знак-кадр) сам себя подчеркивает’.
В занятиях теорией значения знака-кадра в интеллектуальном кино постоянно чувствуется проводимая Эйзенштейном аналогия между монтажными фразами и последовательностями иероглифов в дальневосточной иероглифике. Дневниковая запись «я очень пользуюсь всеми параллельными чтениями и параллельными значимостями» (ДЭ, т. IV, стр. 30) напоминает о структуре параллельных фонетических чтений одного иероглифа в японской иероглифике (с этой точки зрения прекрасно описанной самим Эйзенштейном). Выделяя в книге Гране о древнекитайской мысли описание характерных для китайской письменности сочетаний смысловых (идеографических) знаков, например, знака со значением «одежда», и знаков фонетических (например, знака ли, означающего при идеографическом употреблении «село»), в составе сложных иероглифов (ли ‘подкладка’), Эйзенштейн отмечал сходство принципов построения этих сочетаний с тем, что он называл «би-механическим» (PC: 44,51).
Гране прав в том, что касается принципов построения сложного иероглифа из простых. Здесь (как это многократно подчеркивал в своих статьях Эйзенштейн) целое складывается из двух образных (а не логических) значений – в отличие от логических языков и от современных искусственных [мета] языков для записи значений слов естественных языков.
Оригинальность идеи Эйзенштейна заключалась именно в выдвижении на первый план тех черт естественных языков, которые (в соответствии с идеей «Основной проблемы») не укладываются в рамки логики, хотя это и не всегда мешает использованию подобных «дологических» знаков для передачи сообщений, относящихся к более высоким (в эволюционном смысле) сферам интеллектуальной деятельности. По мере того, как семиотика «во втором поколении» от изучения логических языков начинает переходить к знаковым системам и текстам других типов, становится ясным значение идей Эйзенштейна, обнаружившего черты, существенные для структуры знаков этих систем.
Сформулированные Эйзенштейном принципы комбинаций иероглифов обнаруживаются не только в дальневосточной иероглифике, с которой был знаком Эйзенштейн, но и в египетской (Быстржыцка 1970).
Для Эйзенштейна существенным было то, что при монтаже, то есть при соединении в синтагматической последовательности двух знаков-изображений (иероглифов или кадров кино), каждый из которых может соотноситься с конкретными предметами (денотатами этих знаков), они в сочетании друг с другом становятся сложным абстрактным символом, соотносящимся с новым концептом, но не с этими денотатами. Позднее Эйзенштейна к сходным выводам пришел при семантическом исследовании китайской иероглифики синолог Рейфлер (Рейфлер 1949).
Для иллюстрации степени близости всех рассматриваемых исследований существенно то, что изложенное Рейфлером наблюдение об универсальном (повторяющемся в самых различных устных и письменных языках) характере связи значений ‘солнце’ и ‘один, единственный, одинокий’ может быть разъяснено в свете выводов исследований об универсальной роли символа солнца – царя как центра ритуала, что позволяет объяснить и древнейшую форму китайского иероглифа, изученного Рейфлером: круг с точкой в центре. Значения ‘один, единственный, одинокий’, связываемые с царем, послужили семантическим и эмоциональным ключом к решению темы Ивана – в особенности в замысле нереализованной до конца III серии фильма Эйзенштейна. Здесь, как обычно, Эйзенштейн добивается воссоздания архаичного ритуала и понятий, за ним стоящих; характерно, что Эйзенштейн считал весьма архаическим символ круга, лежащий в основе реконструированной Рейфлером связи понятий.
Исследование иероглифики с той точки зрения подводит к открытию семантических законов, общих для всех языков мира (или к универсальной семантике). Достаточно сказать, что образование значения ‘плакать’ из сочетания ‘вода’ и ‘глаз’, упомянутое в статье Эйзенштейна «За кадром» при разборе соответствующего китайского (и японского) сложного иероглифа (образующегося соединением двух простых), находит соответствия во множестве языков. Те законы соединения конкретных («изобразительных») значений в пределах одного сложного знака, которые Эйзенштейн изучал на материале иероглифов, действуют в большинстве языков (если не во всех языках). В частности, данными самых разных языков (в особенности, древних и архаичных), подтверждается мысль Эйзенштейна в «Монтаже» о том, как «родится глагол, процесс из сопоставления двух результатов: начального и конечного, например, кинофеномен как мы его описали из двух рядом стоящих клеток. Или практика китайского иероглифа, которая дает понятию действия «подслушивать» родиться из столкновения двух (существительных) предметов: изображения «двери» и изображения «уха» (т. 2: 429).
Для решения на материале культуры нашего века занимавшей Эйзенштейна проблемы единства разных областей научной и художественной деятельности огромный интерес может представить сравнение цитированного описания «кинофеномена» у Эйзенштейна с тем, как понимается в логике, вслед за Витгенштейном, строение языковых «картин» мира: в каждой такой картине сцепление двух предметов передает отношение между этими предметами (Моррисон 1968 : 54). Характерное для научных и художественных (в частности, монтажных) картин мира этого периода использование дискретных единиц делало особенно важным исследование того, как строятся комбинации дискретных единиц для передачи непрерывного процесса.
В теоретических занятиях Эйзенштейна намечался семантический синтаксис – исследование того, как комбинации конкретных предметных значений передают значение отвлеченного целого – процесса: «Звук японской флейты «яку» настолько выразителен в своей тоске мольбы, что пиктографический портрет инструмента... в соединении... с иероглифом головы читается как «мольба – умолять» (т. 4: 234).
Эйзенштейн очень бы обрадовался, если бы он узнал, что сформулированный им принцип был заново открыт благодаря сопоставлению его фильмов с искусством древней Мексики, которое он считал столь близким своему творчеству. В недавней богатой тонкими наблюдениями книге американиста Фердинанда Антона о древнемексиканской культуре в качестве наиболее характерной стилистической черты древнемексиканской поэзии отмечается соположение двух понятий, которые выражают третье неназванное слово. Не зная, по-видимому, о многократно выражавшемся убеждении Эйзенштейна во внутреннем тождестве мексиканской культуры и его собственного мироощущения, Ф. Антон как бы развивает эту мысль Эйзенштейна, говоря, что в древнемексиканской лирике «это стилистическое средство сходно с монтажной техникой великих мастеров советского немого кино, для которых не столь важно было рассказать о чем-либо, сколько вызвать определенные ассоциации посредством соположения образов» (Антон 1965 : 111).
Имеются в виду такие обороты древнемексиканской (древне-ацтекской) поэзии, как choquiztli moteca ixayotl pixahui ‘грусть увеличивается (растет), слезы текут’ в значении ‘скорбь’; описательное обозначение ‘моего тела’ посредством двойной метонимии (принцип «часть вместо целого», pars pro toto, столь интересовавший Эйзенштейна) «моя рука, моя нога»; обозначение ‘богатства, красоты’ соположением ‘нефритовый камень, перья божества Кетцала’. Также строятся (подобные древнекитайским) пары ‘его слово, его дыхание’ в значении ‘его речь’, ‘вода и холм’ в значении ‘селение’, ‘копье и пика’ (или ‘вода и огонь’) в значении ‘война’, ‘цыновка и скамейка’ в значении ‘власть, достоинство’; в двух последних случаях особенно ясно сказывается сформулированный Эйзенштейном по отношению к дальневосточной иероглифике принцип обозначения неизобразимого посредством соположения двух изображений; ‘облако и туман’ в значении ‘тайна чужестранца’, ‘рубашка и верхнее платье’ в значении ‘женщина’ (ср. в киплинговских стихах «A fool there was» сходное метонимическое, но гротескное обозначение ‘прекрасной дамы’ – lady fair – по принципу «часть вместо целого»: a rag and a bone and a hank of hair ‘тряпка и кости и пучок волос’).
В позднейших своих исследованиях, сохраняя понимание «первичного феномена» кино как сведения воедино двух разобщенных явлений (т. 2: 400), Эйзенштейн настаивает па роли образа – того объединяющего начала, которое раскрывается через сопоставление кадров (т. 2: 158–160). Приводимый Эйзенштейном пример из короткой «басни» А. Бирса «Безутешная вдова» (т. 2: 157–158) строится на сочетании двух изображений – женщины и черного наряда на ней, вместе дающих образ вдовы, оплакивающей потерянного возлюбленного. Но, как замечает Эйзенштейн, для сюжета этой басни (как, например, и для загадки) существенно противоречие между «трафаретным» чтением этого сочетания и эффектом, возникающим в данном тексте, где его же следует читать по-иному. В качестве аналогичного примера можно было бы сослаться на фильм Трюффо «Новобрачная была в черном», где осуществлено соединение двух полярных трафаретных образов – невесты в белом и вдовы в черном: ее жениха при выходе из церкви после венчания убивает шальная пуля веселящихся молодчиков (сюжет фильма строится на том, что она мстит им, последовательно убивая их одного за другим).
| Рис.8. Индийская миниатюра, изображающая перенесение Вишну 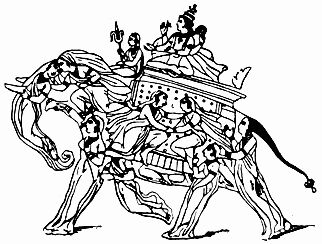 |
Продолжая исследовать соотношение между изображением и образом, Эйзенштейн обращает внимание на разные виды связей между ними. По мере того, как интерес к монтажу в узком смысле, то есть к соединению нескольких кадров, у него сменяется наблюдениями над структурой каждого из кадров, на смену монтажного понимания образа приходит пластическое. Теперь и в соединяемых монтажом кадрах (как во фразе «Боги» в «Октябре») Эйзенштейн ищет то общее, что позволяет свести их в единый пластический образ (см. рис. 5).
Различие и взаимопроникновение идеи обобщающего образа и изображения Эйзенштейн поясняет на примере индийской миниатюры, изображающей сонм дев, несущих бога Вишну (рис. 8). Изображение несущих Вишну девушек передает идею перенесения благодаря тому, что их очертания складываются в силуэт слона. Этот же разительный пример двойного образа привлек внимание Хлебникова, посвятившего ему целое стихотворение, начинающееся строфой:
Меня проносят /на/ /слоно/вых
Носилках – слон девицедымный.
Меня все любят – Вишну новый,
Сплетя носилок призрак зимний 1
Двойной экспозицией, сходной с образом слона на этой миниатюре, Эйзенштейн в своих ранних фильмах (например, в сцене «Гармошки» (рис. 9) и других из «Стачки») увлекался, как он сам пишет в «Монтаже», отчасти под влиянием принципов кубизма, но за ними, однако, уже предчувствовалась двуплановость всякого явления, сквозь которое «как бы второй экспозицией просвечивает обобщение его содержания» (т. 2; 456).
Другие современные Эйзенштейну крупные представители эстетической мысли, как П.А. Флоренский (в его «Анализе пространственности в художественно-изобразительных произведениях»), тоже говорили о двойственности произведения, где композиционная схема (по Флоренскому, являвшемуся предвестником кибернетики), в принципе уловимая даже с помощью фотоавтомата, отлична от смысла. «Художественное произведение всегда двойственно, и в этой двойственности коренится необходимость двойного подхода к произведению, а следовательно и двойной схемы его, соответственно с двойственностью потребного тут термина. Художественное произведение есть нечто само [по?] себе, как организованное единство его изобразительных средств; в частности, оно есть организованное единство цветов, линий, точек и вообще геометрических форм. Это единство имеет и основную схему своего строения; ее-то и называют композицией. Так, диагональное деление картин Рубенса, или центральная симметрия у Тинторетто, Ботичелли и т.д., господствующая вертикальная ось икон, или равноправие вертикали и горизонтали в греческом рельефе и т.д., все эти и подобные первосхемы, согласно которым построено некоторое произведение изобразительного искусства, они относятся непосредственно к изобразительным средствам художника: по тому или другому плану расположены на изобразительной плоскости линии, точки, цветовые пятна и поверхности...
Но, кроме того, произведение имеет некоторый смысл, организованное единство всех сред служит выражению этого смысла» (АП).
С последней формулировкой, вероятно, согласился бы Эйзенштейн, духу которого было близко, с одной стороны, исследование геометрической структуры картины (ср. данный им анализ портрета Ермоловой Серова и т.п., а также исследование геометрических схем мизансцен, в том числе диагональной у Мейерхольда), с другой стороны, обращение к смыслу целого. Но Эйзенштейна характеризует стремление раскрыть закон зависимости композиционной схемы от смысла, их взаимозависимость.
| Рис.9. Кадры с гармошкой из фильма Эйзенштейна «Старое и новое»  |
Выдвижение на первый план понятия «образа», не совпадающего с изображением, позволило Эйзенштейну дать очень глубокую трактовку закона построения вещи, который Эйзенштейн понимает как воплощение образа. Этот закон сказывается в самой технике выполнения, например, в «перипетиях волнующего бега мазка Ван Гога» (т. 3: 292). Живопись Ван Гога, на которого он ссылается едва ли не чаще, чем на какого-либо другого художника, привлекала Эйзенштейна тем, что в ней рисунок и контур «устремляются внутрь самого цветного поля, застывая средствами не только нового измерения, но и новой выразительной среды и материала: движениями мазков краски, одновременно и создающими и прочерчивающими красочные поля картины» (т. 2: 352).
Здесь невольно напрашивается сопоставление с Аленом Рене – на этот раз с последними кадрами его фильма о Ван Гоге, где передано это движение мазка. Образ для Эйзенштейна передается в изобразительном искусстве прежде всего контуром, что согласуется с приемом, характерным для многих (если не всех) его рисунков (и вызывающим естественное сравнение с рисунком Матисса; в данном случае сравнение не предполагает непременно влияния). Не было ничего более чуждого Эйзенштейну, чем «иллюзорная изобразительность» (т. 2: 271). Он неустанно подчеркивал, что образ (в частности, в кино) может быть отличен от изображения; недаром он ссылался на тогда еще малоизвестного Сёрена Кьеркегора, описывавшего картину, где образ могилы Наполеона передавался изображением двух деревьев и пустым пространством между ними. На примере архитектурного ансамбля он показывал, что «беспредметность» и «неизобразительность...» никоим образом не снимает с... ансамбля очень определенно выраженной «образности» (т. 3: 172). Но «беспредметность» (в живописи ему далекая, что видно из его полемики с Кандинским) занимала его не как таковая, а лишь как одно из проявлений образной природы искусства. Сопоставляя решение музыкальных задач в китайских пейзажах с аналогичной «чисто музыкальной игрой отдельными изобразительными мотивами» у Чурлёниса, Эйзенштейн отмечает у китайских художников «удивительное умение сочетать реальную пейзажную изобразительность ландшафта с музыкальной и эмоциональной интерпретацией его средствами композиции, остротой своего музыкального письма во много раз превосходящей симфонические абстракции» Чурлёниса (т. 3: 272).
Теория образа у Эйзенштейна предполагает не только умение отделить конкретное изображение (означающее в семиотическом смысле) от стоящего за ним абстрактного обобщенного образа (означаемого в семиотическом смысле), но и умение отделить идею изображения от данного конкретного изображения. Эйзенштейн считал очень важным развитие зрителя, при котором у него возникло бы общее представление об изображении и знаке вообще (sign-token и sign-type в современной семиотической терминологии) в отличие от частного знака (sign-event). Рассказывая в своем дневнике о случае, когда в деревне и фотографии принимаются за икону, Эйзенштейн замечает: «представление об изображении вообще у них не существует раздельно от частного случая изображения, имеющегося в их обиходе – иконы» (ДЭ, т. IV, стр. 120–121). С богоборчеством, составляющим одну из главных тем фильмов Эйзенштейна, было переплетено иконоборчество – стремление разрушить частные изображения, заменив их общей идеей, как в монтажной фразе «Боги» в «Октябре», где отрицание общей идеи бога проводится через нанизывание ряда конкретных воплощений идеи. В этом смысле для Эйзенштейна полна значения была сцена разгрома церкви в «Бежином луге».
В этой сцене (насколько о ней можно судить по сохранившимся срезкам кадров, сведенных воедино в экспериментальном фотофильме) не только показано снятие икон в церкви. Сам по себе такой эпизод (хотя хронологически его скорее следовало бы приурочить к 20-м или к началу 30-х годов, а не ко времени действия фильма) мог бы остаться показательным историческим документом (весьма важным и для сопоставления с типологически сходными иконоборческими явлениями). Здесь, как и в других случаях, исторический прототип и эксперимент Эйзенштейна оказываются близки по установке. Эта сцена вместе с тем представляет собой как бы музей в движении: изображения здесь соотнесены друг с другом (не только путем монтажа, как в «Октябре», но и внутри кадра), их показывают в то время, когда они перестают играть свою обычную (привычную) роль. Снятие икон оказывается средством их остранения и эстетизации.
Чрезвычайно характерное не только для кинематографической практики Эйзенштейна, но и для ого монтажных разборов творчества Пиранези и Эль Греко соположение разных картин здесь сочетается с проявлением того бунтарства но отношению к существующему изобразительному опыту, которое у Эйзенштейна отчасти шло именно от того, что сам он проницательно назовет «гипетрофией образности» (которую он противопоставляет гипетрофии изобразительности, т. 2: 147 и 400–402). Взрыв изобразительности у него, как и в родственных ему течениях искусства (сам он называет в этой связи кубизм и игру Мэй Лань-фана) осуществляется именно благодаря перевесу образности. Этот сугубо символический подход к искусству как к знаковой системе Эйзенштейн блестяще проанализировал в статьях о дальневосточном театре, опыт которого несомненно существенно повлиял на его собственный музыкальный кинематографический театр «Александра Невского» и «Ивана Грозного».
Эйзенштейн, как и наш крупнейший синолог – акад. В.М. Алексеев, в китайском театре видел традицию, которая при взаимодействии с современным европейским, в частности русским театром, может сообщить ему черты условности, у него недостающей. По словам Эйзенштейна, «единство конкретно-изобразительного и образно обобщенного в китайском искусстве нарушено в сторону многозначимости, обобщения в ущерб конкретно-предметному. И это нарушение как бы полярно противостоит тому нарушению этого единства в сторону гипертрофии изобразительной, на котором во многом еще стоит наше искусство...» (т. 5: 322). Точно так же Алексеев надеялся, «что китайский театр поможет театру европейскому выйти из его ограниченности и отойти от фотографического реализма и протокольного исполнения. Возможно, что он дает нам урок упрощения декораций и бутафории, усугубит стремление к декоративной схеме и условности... Я не сомневаюсь, что будущее покажет оригинальнейшие комбинации из элементов двух больших театральных искусств, существующих сейчас как антиподы (в постановках Мейерхольда, на мой взгляд, нотки китайского театра уже проскальзывают в идее «эпизодов»)» (Алексеев 1966 : 111).
Древнекитайская классическая культурная традиция насквозь символична. Противопоставление природы и культуры, которое К. Леви-Стросс кладет в основу своих структурных описаний архаических традиций, в старом Китае было развито в высочайшей степени. По словам акад. В.М. Алексеева, старинный «Китай – страна интенсивной культуры, которая не оставила ни одного явления жизни в первоначальной форме» (Алексеев 1966 : 111).
В.М. Алексеев с этой сугубой символичностью классической китайской культуры связывал и суть китайского театра. Точно так же и Эйзенштейн (не только внимательно изучавший игру Мэй Лань-фана, но и проштудировавший многочисленные синологические труды, в том числе монографию Гране о древнекитайской мысли, где ярче всего показан символический характер всей старой китайской культуры), подчеркивал, что в китайском театре «каждая ситуация, каждый предмет неизменно абстрагирован по своей природе и часто символичен...» (т. 5: 315).
В своей характеристике китайского театра Эйзенштейн тонко подметил те его черты, которые сближают его с иероглификой (т. 5: 316–320). Иероглифические обозначения аксессуаров в традиционном китайском театре далеко выходят за рамки тех, что приведены в пример в статье Эйзенштейна о Мэй Лань-фане. Эйзенштейна с его обостренным интересом к метонимии не могло бы не увлечь и то, как часто эти обозначения строились метонимически: рыба на куске холста, который на сцене держат слуги, обозначает реку, колесо на таком же холсте – телегу.
Одним из самых больших достижений Эйзенштейна в том анализе китайского театра, который в современных терминах можно смело назвать семиотическим, заключалось в изучении многозначности сценических символов, когда «один и тот же предмет в зависимости от разного с ним обращения может иметь сколь угодно разных значений» (т. 5: 316). В качестве примера Эйзенштейн приводил стол (чо-цу), который на китайской сцене «пожалуй, более, чем какой-либо иной предмет, может изображать самые различные вещи» (т. 5: 317).
Другим аналогичным примером функциональной многозначности предмета на китайской сцене Эйзенштейну служит стул (т. 5: 317), что, по-видимому, повлияло и на использование стульев как аксессуаров на занятиях Эйзенштейна во ВГИКе (зафиксированных фотографиями). Еще более детально многообразие функций столов и стульев на китайской сцене разобрал в своем исследовании о китайском театре акад. В.М. Алексеев, который в этой связи замечал: «Я не стану сравнивать эту условную манеру китайской сцены с современным конструктивизмом, ибо в ней нет нарочитости, и она лишь следствие своеобразной истории китайского театра (...но мне эта манера говорит более красноречиво). Трудно вписать все многообразие приемов китайской сцены, превосходящих многие измышления наших театральных деятелей. (Стул и стол, конечно, простейшие элементы сцены). Все, что у нас стремится к точной имитации: декорации, бутафория, костюмы, грим – все это в китайском театре лишь условное обозначение вещи» (Алексеев 1966 : 93, 96).
Эйзенштейн эту многозначность символов на китайской сцене сравнит с аналогичной многозначностью иероглифов китайской письменности и слов китайского языка, грамматическая функция которых (для классического древнего языка, где отсутствовала морфология) определяется только контекстом.
По существу на примере стола и стула в китайском театре раскрывается знаковая природа сценического атрибута, который не совпадает прямо со своим денотатом (как в реалистическом и особенно в натуралистическом европейском театре), а связан с ним условно. Оттого сравнение многозначности предмета на сцене с многозначностью иероглифа или слова не только оправдано, но более того, необходимо для адекватного описания.
Точно так же можно было бы проанализировать многообразные функции предметов в древнем японском театре, где веер мог означать пишущую кисть, меч, сосуд с вином или чашу для вина, волшебный жезл, льющийся дождь, падающие листья, проносящийся ураган, текущую реку, восходящее солнце и некоторые абстрактные состояния: умиротворение, гнев, торжество, ярость (Глускина 1965 : 37,49).
Эйзенштейн понимал, что эти черты древнего дальневосточного театра не являются уникальными. В них доведены до предела некоторые свойства театра и искусства вообще.
Условный характер знаков Эйзенштейн демонстрирует, сравнивая знаки магии, ритуала и искусства.
Временное осуществление «полного торжества чувственного мышления» происходит «прежде всего в операциях магических и ритуальных. То есть в тех случаях, когда желают добиться убедительности таких воздействий, которым стал бы сопротивляться здравый смысл. Частично такая предпосылка должна иметь место и в искусстве! С чего бы иначе стали мы рыдать перед плоской холстиной экрана, на которой прыгают тени когда-то существовавших – в хронике, или притворявшихся – в художественном фильме – людей. С одной стороны, здесь работает, конечно, вырабатываемая внутренняя «договоренность» с самим собою воспринимать известные пределы условности за реальность. Небезызвестный случай с Наташей Ростовой в театре («Война и мир» Толстого) – говорит о том, что без наличия этой «договоренности» театр, например, воздействия не производит» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»). Еще более наглядным доказательством условности театрального «языка» (системы знаков) служит взаимное непонимание представителей разных театральных традиций, например, европейской и занимавших Эйзенштейна восточно-азиатских (китайской и японской).
Особенности семиотического рассмотрения театра Эйзенштейном, сказавшиеся всего отчетливее в его статьях о китайском и японском театре и о постановке «Валькирии» Вагнера, заключаются в последовательном рассмотрении знаков театра как условных символов. Но в рамках семиотического понимания театра как системы знаков возможно (и очень широко представлено в европейской театральной традиции двух последних веков) рассмотрение этих знаков не как символов, а как иконических знаков. Эта последняя точка зрения развивается не только теоретиками натуралистического и реалистического театра, но и в недавнем манифесте Пазолини о «театре Слова» («il teatro di Parola»).
Согласно Пазолини, «с семиологической точки зрения (буквально semiologicamente ‘семиотически’) театр есть система знаков; знаки театра, не символические, а иконические, живые, являются теми же знаками действительности. Театр представляет тело посредством тела, предмет посредством предмета, действие посредством действия. Естественно, что у системы знаков театра есть свои особые коды, на эстетическом уровне. Но на уровне чисто семиотическом (a livello puramente semiologico) она не отличается (как кино) от системы знаков действительности» (Пазолини 1968 : 19). Замечание о кино объясняется мыслью Пазолини о том, что знаки кино являются записью знаков действительности.
Занимаясь семиотическим подходом к кино, Пазолини пришел к выводу о необходимости создания «общей семиотики» («Semiologia generale» (Пазолини 1967 : 15, 16), которая бы занималась описанием семиотических аспектов человеческой жизни и действительности. Фильмы мы понимаем благодаря тем невыраженным и бессознательным кодам, благодаря которым мы понимаем и саму действительность. В жизни и в кино персонаж говорит с помощью живых синтагм («sintagmi viventi»), которые могут относиться: 1) к языку физического присутствия; 2) к языку поведения (в свою очередь подразделяемого на язык общего поведения, зависящий от условий времени и места, и язык специфического поведения, представляющий собой серию церемоний, архетип которых Пазолини видит в поведении животных, специфичном в определенных ситуациях: павлин, распускающий хвост (и т.п.); 3) к языку письменному и устному. Различные церемониалы языка поведения граничат с различными сознательными церемониалами: от архаической магии до норм поведения хорошо воспитанного члена современного буржуазного общества. Особое место занимают языки, выразительным средством которых является человеческое тело: религиозные изображения, пантомима, танец, театральные спектакли, кино, объединяемые Пазолини в этот тип «живых языков». Семиотика языка кино, как и семиотика языка действительности, с этой точки зрения входят в общую семиотику.
Заслугой Пазолини (в этом отношении повлиявшего и на Метца, под его влиянием существенно изменившего свои взгляды на знаковый характер языка кино) является то, что он впервые указал на роль в кино знаков, относящихся к другим (некинематографическим) кодам (системам знаков), используемым в данном обществе. В отличие от обычного языка, знаки которого – слова обозначают вещи условно (благодаря чему одна вещь может иметь разные названия в разных языках), киноязык характеризуется непосредственной связью изображения с предметом. Из огромного (в принципе бесконечного) числа предметов, которые могут быть изображены в кино, в соответствии с каждой темой выбирается ограниченный «словарь» элементарных единиц кино, которые Пазолини называет «кинемами» (по образцу таких лингвистических терминов, как «фонема» – элементарная звуковая единица). При этом действуют историко-этнические ограничения, суживающие круг снимаемых в том или ином фильме предметов – кинем: «среди объектов-кинем западного мира» мы не найдем, например, бурнус (Пазолини 1966).
Долгие культурные традиции (например, древнекитайская), веками вырабатывающие символы, приводят к созданию языка (или знаковой системы) в подлинном смысле (где, в частности, может быть определено и количество информации, передаваемой каждым элементом). Эйзенштейн, высоко оценивший подобные традиции, к кино относился как к языку, который еще лишь надлежит создать, и постоянно подчеркивал его принципиально «ранний» характер.
В тех случаях (достаточно частых), где Эйзенштейн в своих фильмах использует в качестве «кинем» не предметы обихода – части среды обитания своих героев, а произведения других искусств, он стремится лишить эти уже заранее данные знаки их статического характера. Это превращение культурного знака (или текста) в «символ в становлении» достигается либо соположением его с другими (как в сцене разгрома церкви или во фразе «Боги»), либо путем соотнесения их с денотатами, включаемыми в ту же монтажную фразу или в тот же кадр.
Через сопоставление явлений (не только монтажное, но и внутрикадровое) Эйзенштейн пробовал решить задачи не только построения новых образов-символов, как бы становящихся из изображения образами на глазах у зрителя, но и задачи оживления образов окаменевших. В «¡Que viva Mexico!» ацтекские изваяния богов из застывших символов древней культуры превращены в живой кинематографический образ благодаря тому, что в трех кадрах с каждым из таких изваяний поставлены рядом индейские лица, профилем с ними совпадающие. Эйзенштейновские рисунки времени работы над тем же фильмом дают пример воскрешения древнего архетипического значения другого знака, который в цитированной выше дневниковой записи Эйзенштейн приводил в качестве примера окаменевшего символа. В серии рисунков «Распятие быка», сделанных в Тетлапаяке 10–11 мая 1931 г., Эйзенштейн переиначивает католический символ распятия, соотнося его с боем быков (ср. МР, 69, 72–78). То, что в этих рисунках было заложено гораздо больше глубоких архетипических идей, чем это может показаться на первый взгляд, доказывается сравнением их с позднейшими эйзенштейновскими записями о жертве и звере (в том числе и о бое быков) и с символом мирового дерева у разных народов. На основании этих рисунков можно подтвердить такую возможную интерпретацию некоторых кадров мексиканского фильма (в том числе финала эпизода боя быков), где тоже можно видеть опыт реконструкции архетипического (дохристианского) значения символа распятья.
В таких случаях в согласии с идеей «Основной проблемы» можно видеть возвращение образа к его истокам. Мифологический мотив превращения героя (и героини) в камень, использованный в финале «Вечерних посетителей» Марселя Карне, восходит к более древнему представлению о том, что мифологическое существо, его двойник или его имя некоторым образом связаны с камнем (Хокарт 1970 : 33–38). Двойственность скульптуры и воплощаемого в ней – изначальна по отношению к знаку. Когда в пределах одного кадра скульптура и то, что она изображает, соположены, – это возвращает к исходной точке развития.
Сопоставление профиля живого человека-индейца с древней статуей, совпадающей с ним по чертам лица, в пределах одного кадра в мексиканском фильме решало задачу выведения древнего символа из неподвижности, напоминало о реальном лице, к которому отнесен этот знак. Сатирически-пародийно отчасти сходную задачу решал Эйзенштейн в «Октябре», когда в одном кадре совмещалась «ударница» из женского батальона и скульптура «Весна» Родена.
Наиболее наглядным, хотя до сих пор еще никем не раскрытым во всем своем значении, примером мог бы служить эпизод в «Генеральной линии», где свиньи плывут к бойне, их тут же одну за другой разделывают и обжаривают и над обжариваемыми свиными тушами танцует фарфоровая свинка – словно символ условного искусства. Эпизод этот (по свидетельству В.Б. Шкловского, воспринятый тогда как талантливая заумь) едва ли не принадлежит к числу наиболее значительных в фильме и прямо выражающих его тему. Но он может быть понят лишь в контексте высказываний Эйзенштейна об образе, костенеющем и превращающемся в условный символ. Преддверием этого эпизода и упомянутых выше мест мексиканского фильма, где в одном кадре совмещены статуи и их живые прототипы, были те эпизоды в «Октябре», в которых реальные исторические персонажи пародийно чередуются (в монтажных метафорах) со статуэткой Наполеона.
Во всех этих случаях Эйзенштейн средствами интеллектуального кино изучает проблему, очень занимавшую его в теории искусства: соотношение изображения реального лица (или вещи-денотата) и образа, или символа. В наиболее отчетливой и обнаженной форме эта проблема, являющаяся составной частью более общего вопроса соотношения искусства (и отдельного знака или текста на его языке) с обозначаемыми предметами-денотатами, изучалась Эйзенштейном на примере соотношения типажа (реального человека, введенного в спектакль и фильм) и маски.
На первый взгляд, путь Эйзенштейна в театре и кино может показаться парадоксальным. Начав с мыслей о театре марионеток и с условного театра масок, Эйзенштейн затем переходит к широкому использованию типажа, реальной (производственной) обстановки, к кажущемуся стиранию граней между искусством и его материалом. Но этот парадокс объясняется той глубокой внутренней связью маски и типажа, которую раскрыл сам Эйзенштейн.
«Типаж в кино занимает то же принципиальное место – место предела выразительности, что и маска на театре.
Чем заостреннее типаж, чем больше он приближается к законченному «знаку» изображаемого человека, тем менее он должен играть» (т. 4: 348). Здесь особенно отчетливо видна связь интереса к маске с интересом к знаку в искусстве.
Ранний театральный опыт самого Эйзенштейна сделал для него близкими принципы театра масок.
В «Методе» Эйзенштейн вспоминал о пантомиме «Подвязка Коломбины», над сценарием и костюмами для которой он работал вместе с С. Юткевичем для театра Форегера; по его словам, кое-что из этой пантомимы было им позднее использовано в «Мудреце». Пантомима Донаньи трижды возобновлялась на сцене театра 10–20-х годов. Первый раз «Шарф Коломбины» был поставлен в декорациях Сапунова – этот спектакль Эйзенштейн знал только по описаниям и рассказам, но восторгался им. Второй раз «Покрывало Пьеретты» было поставлено Таировым, от которого Эйзенштейн (в этом близкий к своему учителю Мейерхольду) отталкивался (ср. Таиров 1970 : 568, Рудницкий 1969 : 130, 149). В версии Эйзенштейна пантомима Донаньи была «урбанизована»: «Арлекин фигурировал в клетчатой кепке, автомобильных очках под звонким именем сыщика Нэд Роккэра» (М), т.е. вместо маски commedia dell'arte была подставлена «маска» (типаж) героя современного жанра, стандартностью соперничающего с commedia dell'arte – детектива (оставшегося в центре внимания Эйзенштейна-теоретика в течение всей его жизни).
В эйзенштейновской пантомиме Коломбину во время танца душил мертвый Пьерро, наэлектризованный Мстительным Арлекином. Если в одной из первых своих театральных работ – костюмам к пантомиме «Подвязка Коломбины» – Эйзенштейн изобразил Арлекина в виде сыщика, то грим сыщика и преступника занимал его и в набросках к последним теоретическим работам (GP, заметка «Мне сегодня 46 лет. Косметика», датированная 23. I 1944 г.). Здесь, в частности, он разбирал развитие от изобразительного грима к условной маске.
Начав с типажа, который, по его мысли, продолжал линию театра масок и который мог бы рассматриваться как аналог коллажу в живописи, Эйзенштейн после мексиканского фильма переходит к фильмам о актерами. Свой путь он пытается осмыслить, противопоставляя актера типажу:
«Актер и типаж находятся в таком же поступательном единстве и качественном противопоставлении, как образ и понятие. Это сравнение идет гораздо глубже простой внешней аналогии!
Типаж – иногда не больше как плохой актер с подходящей внешностью. А актер – плохой типаж, но блестяще «доигрывающий нужным образом нужный образ» (т. 4, 349). Эту же мысль Эйзенштейн излагает и в своих литературоведческих набросках, посвященных выяснению функций литературных героев.
Рассмотрение персонажа как образного способа раскрытия темы дает особенно интересный результат по отношению к таким героям Бальзака, как Серафита-Серафито и Вотрен-Надуй-Смерть, каторжная кличка которого «в гротескной форме выражает ту же тему преодоления конечного во имя бесконечного, что решена «мистически» в «Серафите». Бессмертный ангел там – гениальный аферист «Надуй-Смерть» (Trompe la Mort) – здесь!» (М). С этой точки зрения Эйзенштейн подходит и к роли «ипостасей» в повседневном человеческом поведении: «Если не хватает своей «прописи» и своего прообраза, ходят за чужими. Наполеон учился императорскому жесту, глядя на Тальма, Керенский – глядя на каменные статуэтки Бонапарта» (т. 4: 288). Здесь, иллюстрируя свои мысли об «ипостасях» в поведении, Эйзенштейн приводит как иллюстрацию одну из пластических монтажных метафор образа-символа из «Октября» (см. рис. 7).
Весь этот круг мыслей Эйзенштейна – о масках театра Но, гриме и косметике, роли маски и роли «прообраза» в жизни человека как бы нашел себе художественное воплощение в романе Кобо Абэ «Чужое лицо» и в особенности в фильме Тесигахары на ту же тему. Сравнение романа (где герой, потерявший лицо при аварии, сам делает себе маску) с фильмом, где герой и врач, делающий лицо, – разные люди и в финале герой – носитель маски убивает врача – может быть особенно поучительным для подтверждения эйзенштейновской мысли о роли маски для кино (ссылка на маски театра Но есть и в самом тексте романа; эта маска мелькает и в фильме). У Тесигахары (еще отчетливее, чем в романе Кобо Абэ) маска сливается с ипостасью, определяет собою поведение.
Подобно тому, как роль маски постоянно возрастает в творчестве самого Эйзенштейна, который от маски в театре переходит к типажу, а от типажа снова возвращается к маске в кино, статическая традиционная маска в кондитерской лавке из раннего фильма Тесигахары «Ловушка» как бы оживает в карнавальной сцене «Женщины песков» и превращается в основную тему «Чужого лица». Эйзенштейн мог бы увидеть в этом триптихе крупного современного мастера подтверждение своего предположения о том, что подлинное кино кроется под масками театра Но и еще найдет путь в японском киноискусстве.
Развитие самого Эйзенштейна не приводило его ближе к тем позициям, которые особенно созвучны новейшему западному искусству, а, напротив, отдаляло от них. Начав со съемок типажа и отказываясь от актеров, Эйзенштейн далее приходит к чисто театральным фильмам именно тогда, когда (в первых опытах Висконти) кино на Западе начинает возвращаться к съемке непрофессионалов.
Прием использования непрофессиональных исполнителей повторялся много раз в последнее время (после Висконти) – Кассаватисом в «Shadows» («Тени»), Розье в «Прощай, Филлипины» и другими режиссерами американского и западноевропейского авангарда. Особый и исключительно интересный для теории кино случай представляет фильм Вайды «Все на продажу», где профессиональные киноактеры играют сами себя. Это оказывается возможным, по-видимому, потому, что в кино известный публике автор становится подобием маски. Публика часто реагирует не на роль актера, а на самого актера, который поэтому (в отличие от традиционного театра) не стремится к максимальному перевоплощению, а, напротив, воссоздает свой собственный образ. Это в особенности верно по отношению к массовой продукции, в которой участвовали такие актеры, как Габен, Бурвиль, Фюнес, Сорди, многие звезды Голливуда. Именно поэтому в фильме Вайды, где все актеры играли сами себя, было немыслимо появление другого актера в роли Цыбульского. И в фильме, посвященном Цыбульскому, он сам обозначен (в духе мыслей Эйзенштейна о значащем пробеле) нулевым знаком – знаком отсутствия.
На первый взгляд, может показаться, что принципиальное использование типажа, непрофессиональных актеров в таких эйзенштейновских фильмах, как «Старое и новое», непосредственно предвосхищает опыты кино самых последних лет, например, продолжателей Дзиги Вертова, в частности Годара, который в своем «Веселом знании» традицию Дзиги Вертова противопоставляет Голливуду. Но для Эйзенштейна типаж был частью его посткубистической стилистики, обостренно реагировавшей на все связи между предметом и его обозначением в искусстве. Возрождающийся интерес к введению факта как такового в искусство и литературу делает особенно существенным замечание Эйзенштейна, по которому сторонники кинодокументализма, пропагандируя факт, «упускали из виду, что в тот период факт являлся одновременно образом» (т. 2: 97–98). Об этом же он не раз писал и в дневнике. Этим смещением границ «вымысла» и действительности в 20-е годы он объясняет и собственный путь в то время, когда он «органически перескользнул за грани «собственного театра» – в кинематограф. Туда, где элементы действительности всем арсеналом реальных кораблей и зданий, фабричных труб и мостов, работающих машин и игрово «не обработанного» типажа врывались в призрачную ткань вымысла...» (т. 3: 473).
Факт, не ставший образом, Эйзенштейну не казалось возможным вводить в искусство (в этом и состоит глубокая мотивировка изменения его стилистики после мексиканского фильма).
Говоря о проблеме живописного пространства и ее архитектурных решениях, Эйзенштейн упоминал, как «коробят вкус» реальные «проломы стен», включающие реальный пейзаж в виде «как бы картины», например, в Ливадийском дворце в Крыму (АА, «Рильке II»). Такой «дворцовый» (или придворный) реализм ему претил. Различие между ранними фильмами Эйзенштейна и современными опытами кинематографического фиксирования реальности состоит в том, что саму действительность Эйзенштейн в то время понимал как образ (в этом можно видеть и истоки поэтики его последующих фильмов). Для объяснения этого главного расхождения между Эйзенштейном и многими крупными кинорежиссерами и киноведами современности пришлось бы – в согласии с эстетикой Эйзенштейна – обратиться к изменениям самой действительности, породившей эти противоположные концепции. Но это должно составить предмет особого исследования, которое выяснило бы связь киноязыка с реальностью, этим языком описываемой.
2.
В то время Эйзенштейн (несмотря на сходство в решении им и Дрейером отдельных пластических проблем) шел по пути, прямо противоположному дрейеровскому. Дрейер воссоздавал на основании протокола историческую реальность. Эйзенштейн же уже тогда тяготел к преображению реальности, к замене ее преданием, мифом. Чаплин, объясняя в своих мемуарах свое восхищение эйзенштейновским «Грозным», пишет о том, что в нем его пленяет поэзия, пусть свободная по отношению к историческим фактам. К пониманию поэзии и правды, где они взаимно равны, а не рождаются из столкновения, кино придет позднее – в поколении, следующем за Эйзенштейном и Чаплином. Тогда именно станет очевидным вклад Дрейера, в свое время недооцененного. Поколение, испытавшее, какой ценой приходится расплачиваться за неточность представлений о реальности, сменилось поколением, выше всего ценящим эту точность. Грани между документальным и художественным кино сдвинулись.
Но и в современном кино при всей его обращенности к протоколу, факту, киноправде, постоянно возникает тяга к выходу за пределы изображения как такового. Неожиданно Эйзенштейн здесь перекликается не с сегодняшним, а с завтрашним днем науки о кино (и быть может – с теми опытами, которые предвещают будущее кино). Возможны два подхода к знакам кино. Оба они последовательно представлены в творчестве и в теоретических статьях Эйзенштейна.
Становящаяся все более важной для словесного искусства многих поэтов – современников Эйзенштейна и для их взглядов на язык проблема соотношений общего языка, служащего для повседневного общения между всеми членами общества, и языка поэтического 2 в другой форме встала и по отношению к языку кино, составлявшему главный предмет исследований Эйзенштейна. Здесь речь идет о том, как соотносятся друг с другом повседневная действительность, которая сама по себе, будучи снята камерой, становится средством языка кино, и ее образное преображение (в частности, с помощью монтажа в фильме). Это соотношение теоретически исследовалось Эйзенштейном в его статьях и трактатах, где он шел от изложения принципов монтажа отдельных приемов в ранних статьях к осмыслению внутреннего значения как монтажа, так и монтируемых частей в трактатах более поздних. Парадоксальным (но исторически легко объясняемым) фактом является то, что в фильмах развитие его языка шло в сторону, во многом обратную теоретическим исканиям. После достигнутого им в «Потемкине» и в отдельных частях мексиканского фильма максимально полного приближения к кино, которое свободно владеет самой действительностью как языком, выражающим замысел режиссера, Эйзенштейн склонялся в последних фильмах к совершенно иной стилистике. Недаром князь и царь с их окружением стали главным предметом изображения в его последнем фильме вместо матросов и уличной толпы – героев «Потемкина», и мексиканских крестьян – пеонов и простой женщины-солдадеры в мексиканском фильме. Рассматриваемое в нескольких статьях Эйзенштейна движение его от фильма, изображавшего толпу, коллектив, массу, к фильму, изображавшему судьбу отдельного «сверхчеловека», противостоящего толпе, сопровождалось весьма существенными преобразованиями поэтики фильма: если в «Потемкине» при всех его монтажных метафорах повествование развертывалось импровизационно и во многом отвечало духу современного кино так, как его понимают после Росселлини, то в «Грозном» доведено до предельного выражения понимание киноязыка как особого рода синтетической звукозрительной иероглифики (во II серии – в сцене пира опричников – звуковой и цветовой иероглифики). После «Стачки» Эйзенштейн создавал немые фильмы, наиболее близкие к импровизационному личному эпосу итальянского неореализма, открывающего современную эпоху истории звукового кино.
Проблема «обмирщения» (говоря словами Мандельштама) языка в киноискусстве (т.е. того языка, которым пользуются герои и диктор в фильме) была в итальянском кино решена именно неореализмом. Произведения этой школы, фиксирующие живую уличную разговорную речь, являются важнейшими языковыми документами эпохи, оказывающими воздействие на эволюцию общего языка (Девото 1953: 156). У Эйзенштейна непринужденная бытовая речь (матросская в «Потемкине») была парадоксальным образом представлена в титрах в немых фильмах, но не в звуковых, где музыка Прокофьева сочеталась с речью эйзенштейновского «высокого штиля», в котором правильно видят черты, роднящие эйзенштейновские сценарии со свободным стихом.
Некоторые в стилистическом отношении наиболее причудливо-эклектичные черты сценария «М.М.М.», обоснованные в предисловии к нему Эйзенштейна, нашли развитие в сценарии «Ивана Грозного», и в тексте самого фильма, где высокий штиль речей (иногда остраняемый явно осовремененными оборотами, выступающими тем более отчетливо) соответствовал всему образному строю иероглифики фильма. Теоретические предпосылки такого иероглифического кино были разработаны Эйзенштейном еще тогда, когда фильмы его строились в основном на других основаниях (если не считать ранних экспериментов «Дневника Глумова» и «Стачки»). Более того, в собственном раннем киноэпосе Эйзенштейна-теоретика больше всего занимали такие ростки будущего иероглифического письма, как «вскочившие львы» в «Броненосце Потемкине», не определяющие стилистики фильма, но чрезвычайно интересовавшие Эйзенштейна в его теоретических статьях и дневниковых записях конца двадцатых годов.
Свой самый первый опыт в кино – «Дневник Глумова», сохранившийся лишь частично, Эйзенштейн позднее описывает как поток зрительных метафор и метаморфоз (перевоплощений), раскрывающих эти метафоры (т. 2: 454–455). Здесь на материале искусства кино обнаруживается та связь метафоры с метаморфозой – перевоплощением, которую сам Эйзенштейн позднее будет изучать, анализируя произведения античной литературы (т. 3: 294).
Исследование переносных значений в обычном языке было нужно Эйзенштейну для решения сходных задач при построении (а потом и анализе) языка кино. По его мнению (подвергающемуся в настоящее время полемическому обсуждению в работах многих киноведов и кинорежиссеров), и для кино главная функция – «не только и не столько показывать и представлять, сколько значить, означать, обозначать» (т. 5: 166). Поэтому больше всего Эйзенштейна занимает то, как в языке решаются «сверх-изобразительные», «переносные» (метафорические) задачи» (т. 5: 170). Метафоры в языке кино, введенные уже в первых фильмах Эйзенштейна, он сам рассматривал как приближение с помощью монтажа к словесному образу, иногда уже стершемуся. «Кровавая бойня» в «Стачке» (особенно явно поданная в монтажных листах к фильму) самим Эйзенштейном рассматривалась как подобный «аттракцион» (в смысле ранних его теоретических работ) со «сгущенно кровавым ассоциативным эффектом» (т. 1: 118, ср. т. 5: 178 и др.).
Некоторые из метафорических построений своих ранних фильмов Эйзенштейн сам разбирал достаточно подробно. В частности, современный спор направления, в конечном счете восходящего к экспериментам Дзиги Вертова, с метафорическим кино, уже был предвосхищен в эйзенштейновском разборе реализации словесного образа «кровавой бойни» в «Стачке»: «В чем практически разность наших подходов, резче всего обозначается на немногочисленном совпадающем в «Стачке» и «Глазе» материале... в частности, на бойне, застенографированной в «Глазе» и кроваво впечатляющей в «Стачке» (Эта-то предельная резкость впечатления – «без белых перчаток» – и создает ей пятьдесят процентов противников)» (т. 1: 114). Здесь с отчетливостью, характерной для экспериментальной эстетики кино, сопоставлены два изобразительно тождественных куска двух фильмов – с одинаковым (или сходным) означающим и разными означаемыми.
Подобно тому, как в «Стачке», по словам самого Эйзенштейна, была сделана попытка дать кинематографическое соответствие словесной метафоре «Кровавой бойни», в английском тексте сценария «Американской трагедии» (ч. 2, 7–8) явственно прослеживаются следы нанизывания зрительных образов, соответствующих английскому слову hand ‘рука’: за крупным планом руки (hand) Клайда, разбивающего копилку из папье-маше, следуют кадры, изображающие руки (hands) разных людей, которые правят бритвы, бреют, стригут волосы, чистят ботинки, и крупный план стрелки (hand) городских часов, показывающей 7.35. Здесь видна та привязанность к конкретному языку, которая никак не обусловлена спецификой киноязыка и кинематографических образов: ведь в русском эквиваленте сценария с таким же успехом следовало бы перед изображением стрелки часов дать изображения других стрел и стрелок. Повышенную метафоричность фильмов этого времени Эйзенштейн позднее сопоставит с образностью ранней стадии развития языков.
Конструируемые им в ту пору монтажные метафоры естественно сближались с символами дальневосточных культур, занимавших его тогда именно своей образностью.
Метафоричность Эйзенштейну представляется чертой начального периода. В подтверждение этой мысли можно было бы напомнить о преобладании метафорического строя в ранних стихах больших поэтов.
Один из крупнейших лингвистов, занимавшихся эстетическими проблемами с точки зрения семиотики – Роман Якобсон сформулировал то различие метафорического (поэтического) и метонимического (прозаического) стилей, которое он же попытался применить к проблемам теории кино (Якобсон 1973). Для второго стиля – метонимического – характерно «уплотнение повествования образами, привлеченными по смежности, т.е. путь от собственного термина к метонимии и синекдохе. Это «уплотнение» осуществляется наперекор интриге, либо вовсе отменяет интригу. Возьмем грубый пример: два литературных самоубийства – Бедной Лизы и Анны Карениной. Рисуя самоубийство Анны, Толстой пишет, главным образом, о ее сумочке. Этот несущественный признак Карамзину показался бы бессмысленным, хотя, по сравнению с авантюрным романом XVIII в., рассказ Карамзина – тоже цепь несущественных признаков. Если в авантюрном романе XVIII в. герой встречал прохожего, то именно того, который нужен ему или по крайней мере, – интриге. А у Гоголя или Толстого, или Достоевского герой обязательно встретит сперва прохожего ненужного, лишнего с точки зрения фабулы, и будет иметь с ним разговор, из которого для фабулы ничего не последует» (Якобсон 1962: 34–35)
Гриффит, которого Якобсон (вслед за Б. Балашом) считает создателем метонимического направления в кино, может служить блестящим образцом именно в этом отношении: по словам Эйзенштейна, «тот же метод Диккенса мы узнаем и в неподражаемых гриффитовских эпизодических персонажах, казалось, прямо из жизни забежавших на экран. Я уже не помню, кто с кем говорит в американских эпизодах на улице в «Нетерпимости». Но я никогда не забуду маски прохожего с носом, вытянутым вперед между очками, и обвислой бородой, с руками за спиной и маниакальной походкой. Своим проходом он прерывает самый патетический момент в разговоре страдающих юноши и девушки. О них я почти ничего не помню, но прохожий, на мгновение мелькнувший в кадре, стоит передо мной как живой, а видел я картину лет двадцать назад!» (т. 5: 133). Эти прохожие, по словам Эйзенштейна, забредавшие в фильмы Гриффита прямо с улицы (т.е. не бывшие профессиональными актерами), как и «крупный план» сумочки Анны в примере из романа Толстого (при последней экранизации которого в нашем кино этот крупный план не был принят во внимание режиссером) показывают, сколь реальны связи «метонимического» направления в кино и в реалистической прозе.
Постепенное увеличение крупных планов можно увидеть в метонимической ранней прозе Пастернака, показывающего крупный план руки Дефендова, потом концы пальцев его руки в сцене, начинающейся общим планом: «У Дефендовых садились ужинать» и продолжающейся отдельными кадрами:
1) «Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло».
2) «Лампа горела мутно и покапчивала; ее то перекручивали, то чересчур отпускали».
3) «Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась меленько и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям».
Такая последовательная картина, данная от общего плана через средние к крупным не является, разумеется, особенностью метонимической прозы одного только Пастернака, у которого эти черты нашли, однако, особенно отчетливое развитие. Не менее отчетливо ту же структуру можно проследить в прозе Пушкина. В частности, переход от общего плана улицы через средние планы карет к крупным планам обуви гостей определяет строение следующего отрывка из «Пиковой дамы»: «...Очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак». Синекдоха крупных планов последнего предложения прямо переходит к метонимическим шубам и плащам следующей фразы: «Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара».
Применительно к киноязыку, естественно тяготеющему к метонимическим крупным планам, показу типажей (а не героев) и другим характерным чертам метонимического направления, тенденция (в особенности в последние десятилетия) к сознательному преодолению метафоричности (или символичности) сказывается у многих крупных режиссеров и в соответствующих высказываниях теоретиков кино (А. Базен, 3. Кракауэр) и режиссеров (А. Тарковский). Иногда это обоснование метонимического направления, утверждающего роль детали, как таковой, а не символа, ведется в полемике с теоретическими утверждениями Эйзенштейна. Действительно, хотя его режиссерская практика по сути делает его (в ранних фильмах) предтечей многих новейших опытов, теоретически он и в это время оставался сторонником образного кинематографа. Деталь привлекала его не как таковая, а как знак некоторой ситуации.
Полемизируя при этом с более ранними работами Эйзенштейна времени его увлечения метафорическим кино, о кино говорят как о языке без знаков. Под знаками при этом имеются в виду только условные метафорические знаки-символы. Между тем, для теории кино (как и для многих других систем знаков, включая обычный язык) очень важны знаки-указатели и в особенности знаки-изображения, обозначающие предмет более непосредственно (в частности, метонимически). С недооценкой этих знаков, неправомерно сужающей возможности семиотики кино, полемизирует Уоллен – автор новой книги, посвященной этой проблеме. Он замечает, что и знаки-символы по существу не исчезли из новейшего кино, хотя их переоценка, некогда связанная с влиянием идей Эйзенштейна, сейчас сменилась «сильной предубежденностью против символов» (Уоллен 1969: 142–155), у таких авторов, пишущих о семиотике кино, как Ролан Барт. Книга самого Уоллена знаменует собой отход от этих предубеждений; характерно, что почти половина книги посвящена Эйзенштейну.
Нарочито образный язык метофор ранних своих фильмов сам Эйзенштейн объяснял молодостью кино. Но следует заметить, что такие его ранние фильмы, как «Потемкин», характеризуются широким использованием метонимических (реалистических согласно принятому выше пониманию метонимии) приемов не в меньшей мере, чем использованием монтажных метафор.
Сам Эйзенштейн обратил внимание на роль крупного плана как метонимического приема.
Понимание Эйзенштейном крупного плана как стилистического приема, аналогичного метонимическому изображению части вместо целого (pars pro toto), согласуется и с тем уточненным пониманием метонимии (в частности pars pro toto), которое было предложено в самое последнее время на основании лингвистических выводов. Один из крупнейших специалистов по структурной лингвистике – польский ученый Ю.Р. Курилович, опираясь на лингвистическое понимание метонимии как изменения синтаксической позиции, показал, что pars pro toto соответствует перемене места ударения на одном из элементов данной структуры (ударение переносится на часть внутри целого) (Курилович 1966). Эта идея вполне соответствует эйзенштейновскому пониманию крупного плана в сопоставлении с порядком слов в обычном языке (в частности, в статье о Гриффите).
| Рис.10. Монтажная фраза «Взревевшие львы» (из фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин») 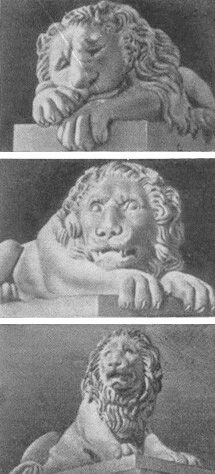 |
Для сопоставления с языком кино особенно существенно предложенное в той же работе Куриловича понимание метафоры как смены семантически различных знаков в одинаковых синтаксических контекстах. Керенский и павлин в «Октябре» или сидящий и вставший львы в «Потемкине» (рис. 10) воспринимаются как метафора именно потому, что они чередуются в одинаковых контекстах. В этом смысле предложенное Куриловичем определение метафоры больше соответствует киноязыку, чем поэтическому, где сами эти контексты не даны и обычно трансформируются в один текст.
Согласно новейшим работам в области лингвистического понимания метафоры, для нее характерно выдвижение на первый план лишь одного из «под»значений слова, контрастирующих со всеми остальными (Уленбек 1967: 2065); это же имел в виду Эйзенштейн, когда он писал о необходимости абстрагировать глубину от метров и саженей, чтобы говорить о глубоком чувстве.
Разница между синекдохой (pars pro toto – «часть вместо целого» в узком смысле слова) и метонимией (pars pro parte «часть вместо части», по Ш. Балли (Балли 1955) не является принципиальной в отличие от их противопоставления метафоре («totum pro toto» «целое вместо целого», по Ш. Балли). Все эти три «тропа» (в смысле традиционной поэтики) по отношению к обычному языку могут считаться «Семантическими аномалиями» (Тодоров 1967: 109). Но при этом «аномальный» сдвиг значения в метонимии и синекдохе происходит в пределах одной и той же области явлений внешнего мира, когда, например, человека называют по его одежде (например, в реплике И. Анненского: «Эй, лисья шуба...» и т.п.), тогда как метафора соединяет обычно две разных предместных области (Трост 1958: 18–19). Поэтому метонимия и синекдоха в повествовании (как литературном, так и кинематографическом) не разрушают его связности, а метафора уводит к параллельным рядам явлений, прямо не связанных с излагаемыми. В этом смысле использование метафор по отношению к повествовательной функции текста аналогично роли отступлений (ср. соединение обоих приемов в таких текстах, как «Евгений Онегин»).
С мыслью Эйзенштейна о раннем характере метафорического стиля согласуется вывод исторической поэтики, по которому «в поэтических стилях, отличающихся равновесием стиха и слова и появляющихся в периоды завершения, заметно отсутствие метафор – Вместо них развиваются многообразные боковые оттенки слов при помощи перифраз и метонимии» (Эйхенбаум 1969: 133). Эйзенштейн изучал особенности метонимического стиля главным образом в связи с интересовавшей его проблемой «части вместо целого» (pars pro toto), которую он прямо связывал с теорией крупного плана в кино (книга «История крупного плана», частью которой является цитированная статья о Гриффите).
Как подчеркивалось многими теоретиками кино и семиотики, начиная с Р. Якобсона, метонимический прием показа, части вместо целого – это основной способ, используемый в кино для превращения предметов в знаки.
В детективе, загадке, некоторых случаях каламбурной игры слов Эйзенштейн установил один и тот же способ использования метонимического принципа «часть (pars) вместо целого (toto)»: «прием подстановки умышленно ложно наводящего pars, т.е. двусмысленного, допускающего возникновение разных представлений о возможных toto. С помощью этих дополнительных «вспомогательных» приемов воображение нарочито толкается именно в сторону неверной догадки. Несоответствие действительности и предположения дает ту остроту эффекта, которую дает неожиданная развязка или неожиданный остроумный «оборот» фразы» (G. Р. «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»).
Говоря о том, что характерные детали напоминают о принципе pars pro toto: часть вызывает представление целого (pars pro toto), Эйзенштейн подчеркивал: «Как непосредственно броская впечатляющая деталь должна быть умственно отсеяна, если она не характерная, и выбрана, если она... типична. Как видим, обе части процесса должны работать неотрывно: с одной стороны чувственно обостренный механизм способности через pars воспринимать toto, с другой стороны холодный анализ и отбор – в определении тот ли, исчерпывающий ли желаемый образ toto дает нам применение того или иного pars, т.е. той или иной сознательно избираемой детали из всего многообразия впечатлявших нас!» (GP «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»).
Метонимия у самого Эйзенштейна становилась средством построения целых частей фильма. Один из эпизодов предполагавшегося фильма «Капитал» (см. Эйзенштейн 1973) Эйзенштейн назвал научно пародийно «Анализ сантиметра шелкового чулка» (ДЭ, т. IV, стр. 46). Эту главу, которая должна была быть предпоследней в фильме, сам Эйзенштейн определял как «фарсовую комическую» (там же, стр. 100). Глава строилась на противопоставлении: «дырявый чулок женщины и шелковый в газетном объявлении. Начинающий дрыгать, размножаться в 50 пар ног Revue. Revue. Шелк. Искусство. Борьба за сантиметр шелкового чулка» (там же, ср. прием «размножения» в спектаклях Мейерхольда и «ревю» Эйзенштейна); на этом примере Эйзенштейн хотел осуществить разоблачение церкви, искусства и морали.
В этих (и других подобных) замыслах Эйзенштейн (в согласии с собственной концепцией ситуации как тропа) развивает в целой части фильма тот прием, которым раньше, в частности, в «Генеральной линии», были сделаны отдельные кадры.
Эйзенштейн сам анализировал «сверхкрупные первые планы деталей» в «Генеральной линии», игравшие у него роль гипербол типа фольклорных или гоголевских (т. 1: 284, отрывок из «Метода» «Снимать нельзя. Пишу», где описаны и впечатления 1926 года, легшие в основу этих кадров).
В сценарии «Американской трагедии» такие реалистические «метонимические» детали, как упомянутые выше прохожие у Гриффита, приобретают особое значение, привязываясь к сюжету, который становится детективным (и именно поэтому сообщает особый смысл каждой детали). На станции, отправляясь на роковое свидание с Робертой, Клайд вздрагивает: ему кажется, что старик в поношенной одежде с птичьей клеткой, завернутой в бумаге, не отрываясь, смотрит на него подозрительным взглядом.
Возможность зафиксировать с помощью фотографии детали, существенные для раскрытия преступления, естественным образом связывает использование детали в детективном произведении и фиксирование деталей в фотографии и кино. Это было обыграно Эйзенштейном в сценарии «Американской трагедии» в мотиве использования на суде фотографии, найденной в камере, которая была выловлена со дна. Позднее такой прием становится более или менее обычным в детективных фильмах, в том числе у крупных режиссеров («Лифт на эшафот» Малля).
Тот же мотив свидетельства преступления, зафиксированного (случайной) фотографией положен в основу сюжета недавнего фильма Антониони «Фотоувеличение» («Blow-up»), где – в соответствии со стилистикой Антониони – соответствующая часть фотографии неясна, при увеличении кажется почти что фрагментом абстрактной картины.
Выявленная Эйзенштейном благодаря широким типологическим сопоставлениям с другими видами искусства роль крупного плана как тропа (в смысле образного приема) в кино, функция ключевой детали в детективном романе и фильме и роль детали у писателей-реалистов в литературе XX в. (где не редко, как в «Симуре. Введении» Сэлинджера и «Глазами клоуна» Бёлля, сам писатель говорит о значении для него детали) могут рассматриваться как явления одного порядка. «Стилем века» оказалось не монтажно-метафорическое мышление ранних посткубистических фильмов авангарда, характерным примером которых может служить «Стачка», а именно метонимический реализм, ориентирующийся на деталь, поданную крупным планом. По отношению к этому метонимическому стилю поэтическая образность (как в статье Эйзенштейна о Гриффите) рассматривается как начальный этап.
Эйзенштейн при его интересе, с одной стороны, к образному значению (в частности, тропа: метонимии, метафоры), с другой стороны, – к синтаксической («монтажной» в терминах его ранних работ) структуре значений, не мог не попытаться истолковать некоторые изображаемые в искусстве ситуации как метонимии или метафоры.
Разбор таких случаев Эйзенштейн начинает с простейших (таких, как народная сказка о Шибарше, или Крошка Цахес у Гофмана, который служит «замещением» для другого человека, чьи достоинства ему приписываются метонимически). Основной чертой интересующего его вида произведений, по Эйзенштейну, является то, что «событие, ситуация протекает не только согласно логике собственного развития, но еще и по структурным закономерностям, свойственным поэтическим тропам» (М, отрывок «Герой видит эту затею насквозь»).
Не ограничивая свой анализ структур ситуации такими относительно ясными случаями, как детектив, где схема структуры проста, Эйзенштейн пробует интерпретировать с точки зрения своей концепции ситуации как тропа и наиболее сложные сюжетные структуры.
Как метафорическую и метонимическую Эйзенштейн рассматривает в «Методе» ситуацию сценария «Американской трагедии», где «за вину, совершенную в мыслях, виновный несет кару как за совершенное на деле». По Эйзенштейну, ситуация строится так же, как троп, но «метонимическая» сторона ситуации – «перенос по смежности» здесь происходит не в пример Карамазовым еще к тому же не с человека на человека (с Ивана на Смердякова по линии замысла, и со Смердякова на Митю по линии реализации замысла), а с человека не на злую волю другого человека, на «волю слепого случая» (М, глава «Герой видит эту затею насквозь»). Поэтому на «случай», функционально замещающий собой человека, переносится действенная функция человека (т.е. возникает «закадровое» ощущение рока). Напротив «в «Карамазовых» нет ощущения карающего рока и по-видимому в силу именно этого отсутствия карающего рока действующие лица все без исключения – вынуждены сами себя карать» (там же). У Достоевского «Рок меркнет там, где есть Искупитель, добровольно принявший на себя, добровольно перенесший на себя вину и грех мира... Не на роке становится акцент, а на ситуации перенесения – на фигуре перенесения – на метафоре как средстве выражения строится система выразительных средств этого произведения» (там же).
Оригинальность всей излагаемой концепции Эйзенштейна состоит в том, что традиционные проблемы теории тропа и античной трагедии (рок) связываются воедино благодаря рассмотрению всей ситуации как тропа. Раскрывая таким образом специфическую для Достоевского структуру, дающую «великолепнейшее подтверждение наших предположений о возможности говорить о ситуационной метафоре, метафоре фабулы, метафоре предметов изображения», Эйзенштейн далее исследует ее психологически (см. об этом ниже).
Сопоставление черновых заметок Эйзенштейна о метонимии и ситуации как тропе и отдельных напечатанных его суждений о «Братьях Карамазовых» (т. 1, 91) позволяет думать, что в метонимии – ногте большого пальца Мити Карамазова, раздевшегося при обыске в Мокром, он видел ключ к образной концепции всего романа (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2, ед. хр. 255).
Поставленную еще Кьеркегором (в «Или-или») проблему отличия современной трагедии от античной (по-иному затронутую и во многих статьях о Достоевском И. Анненского и Вячеслава Иванова), Эйзенштейн решает по-новому, так как проблему рока и его отсутствия ставит в связь со структурой ситуации.
По другой формулировке Эйзенштейна, особенно важной для сопоставления с романами Достоевского таких вещей Фолкнера с метонимическим криминальным сюжетом (с переносом вины на невиновного), как «Sanctuary» («Святилище») «у Достоевского нет рока, есть только судебная ошибка» (GP).
Детально разбираемая Эйзенштейном в «Режиссуре» роль матери убитого мужа как воплощения рока в «Терезе Ракен», в «Методе» рассматривается им с точки зрения такого же включения рока в метафорическую структуру ситуации. Основной конфликт в «Терезе Ракен», по Эйзенштейну, происходит «между двумя разными чтениями переносного осмысления одного и того же физического (материального) факта: эмоциональному ощущению сверхчувственного “присутствия рока” не из чего создаться. Вместо него используется такая же “двусмысленная” фигура (человек, а между прочим еще и Немезида – мать убитого)» (М.) Согласно Эйзенштейну, этим и объясняется функциональное сходство роли этой фигуры с маской в античной трагедии (в этой связи он упоминает и о масках древнего японского театра Но, ср. выше).
Приводя различные примеры сюжетных метонимий, Эйзенштейн дает их классификацию (перенос действия на действия, подмена истинного повода к действию фиктивным поводом и т.п.).
Этот круг мыслей Эйзенштейна представляется особенно важным потому, что он позволяет осуществить синтез исследования метонимического стиля в прозе и в кино как на уровне повествовательных макроструктур, так и на уровне микроструктур метонимических образов. О нахождении такого единого принципа, действенного как для «общекомпозиционной формы романа», так и для «структуры словесно образной ткани» (т. 4: 624) говорил Эйзенштейн, сочувственно цитируя (в связи с проблемой аналогии между «Терезой Ракен» и маской По) предложенное Мандельштамом сближение Флобера с японским «молекулярным» искусством, где, как и у Флобера, возможно отражение любого предмета.
По приведенному выше последовательно метонимическому отрывку из «Пиковой дамы» видна еще одна особенность метонимического реалистического письма, объясняющая тяготение к нему кинематографа. В этом отрывке описание осуществляется с помощью предметов – дом, подъезд, кареты, нога, ботфорт, ботинок, шубы, плащи. Как заметил Пастернак по поводу пушкинского стиля, он характеризуется нагромождением существительных. Каждое такое существительное обозначает предмет. По существу здесь отчетливо видна модель того стиля, о котором задумывается Эйзенштейн, когда он делает «Октябрь». После окончания работы над этим фильмом Эйзенштейн записывает в своем дневнике: «кинематография ненасытно жадна на вещи» (ДЭ, т. Va, § 109, стр. 110). «Октябрь» был буйством кинематографического письма предметами.
Как бы предвосхищая то позднейшее осмысление приема игры вещами, которое затем найдет развитие в «Мариенбаде» (многими сопоставляемом с «Октябрем»), Шкловский определяет доминанту эйзенштейновского фильма: «Смысловой материал вещи – томление. Томится Зимний дворец, томятся грязные ударницы среди красивых вещей» (Шкловский 1965: 103). В одной из последующих статей эту же черту фильма Шкловский назовет вещизмом. В фильме «В прошлом году в Мариенбаде» игра статуями, картинами, архитектурными деталями, вещами строится на застывшей статике этого фильма, потерявшего движение. В нем, говоря словами Ахматовой,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.
У Эйзенштейна при сходной установке на вещь как таковую, наоборот, темой фильма является смятение, внесенное в этот мир застывших вещей. Позднее Шкловский вспомнит: «Служители Зимнего дворца говорили, что при первом взятии Зимний пострадал меньше, чем при съемке» (Шкловский 1965: 141). В «Октябре», своим вещизмом сходном с названным фильмом Алена Рене (по мнению некоторых, испытавшим влияние «Октября» и перекликающимся с ним во всяком случае приемами показа вещей, их обыгрывания, барочного нагромождения), установка на предмет как таковой делает особенно ясной «войну с вещами» (определение Шкловского, говорившего по этому поводу о «восстании посуды»). В дневнике апреля 1927 г. Эйзенштейн записывает: «Зимний в разрезе – необычайно богатый кинематографический материал. Целый Мюр и Мерилиз. Низы. Подвалы. Отопление. Комнаты прислуги. Электрическая станция. Винные погреба. Парадные приемные помещения. Личные комнаты, затем чердаки и крыши. Но какие! крыши! Какие чердаки! Одна спальня чего стоит: 300 окон и 200 фарфоровых пасхальных яиц. Рябит в глазах. Спальня, которую бы современник психически не перенес. Она невыносима. «Октябрь» при наличии времени целиком можно было бы построить на одном Зимнем» (Эйзенштейн 1968: 13). Фильм был перенасыщен гиперболическими количествами вещей, множеством бутылок на складе, крестов в ящике, музейных экспонатов. В эпизоде с ворованными вещами, высыпающимися при обыске, воровство становится лишь предлогом для того, чтобы вещей было много.
Следует особенно подчеркнуть, что, хотя внимание Эйзенштейна устремлено в его фильмах этого времени на вещь, вещь эта (или деталь, снятая крупным планом) не становится непременно символом (как в некоторых опытах интеллектуального кино, включенных в тот же «Октябрь»). В это время Эйзенштейн еще часто пользуется вещами как «кинематографическим материалом», не всегда переплавляемыми в символы-иероглифы (как вино, льющееся из разбитых бутылей в винных погребах Зимнего). Но все чаще метонимический прием изображения вещи перерастал в метафорическое иносказательное ее толкование.
Как говорил тот же Шкловский по поводу следующего фильма Эйзенштейна – «Генеральной линии» («Старое и новое»), «вещи не просто сняты, они не фотографии и не символы, они знаки, вызывающие у зрителя свои смысловые ряды» (Шкловский 1965: 111). Именно в этом заключалось отличие от установки «киноков», которые «были за кадр “как таковой”, считая, что кадр существует вне своей смысловой значимости» (там же: 71, Вертов 1966: 71, 109). Однако по отношению к такому своему зрелому произведению, как «Человек с киноаппаратом», Дзига Вертов вносил некоторые существенные уточнения в то, что можно назвать теорией «кино факта» (ср. понятие литературы факта). Здесь Дзига Вертов выступает непосредственным предшественником той «киноправды», которая у Жана Руша и других режиссеров этого направления прямо связывается с традицией Вертова (Иванов 1975в, 1976).
Эта точка зрения глубоко связана с эволюцией взглядов на теорию кино (у А. Базена, З. Кракауэра) и с теорией и экспериментом крупнейших режиссеров, не принадлежавших к «киноправде» (у нас – А. Тарковский, М. Хуциев), но сближающихся с ней лишь в отдельных экспериментах. В своей принципиальной установке на «кинофакт», на киноизображение все эти режиссеры и теоретики кино противостоят той связанной прежде всего с Эйзенштейном точке зрения, по которой «кадр более означает предмет, чем его изображает. Это знак» (Эйзенштейн 1965: 49).
Для Эйзенштейна, в особенности в последних его фильмах, «свет, ракурс, образ кадра – все подчиняется тому, чтобы не только изобразить предмет, но вскрыть его в том смысловом и эмоциональном аспекте, который воплощается в данный момент через данный предмет, поставленный перед объективом... Можно взять почти что любой кадр и, разобрав его, доказать, что скрещения и перекрещения его графического облика, взаимная игра тональных пятен, фактуры и очертания предметов толкуют свой образный сказ, подымающийся над просто изобразительной задачей» (т. 1: 91).
В некоторых эпизодах «Ивана Грозного» то, что «предмет или явление помимо своего непосредственного бытия имеет еще некое значение» (т. 1: 1,90) дано непосредственно двойной значимостью изображаемого, как в эпизоде с шахматами (т. 1: 92). Любопытно, что в этом эпизоде Эйзенштейн возвращает первоначальный знаковый характер шахматам – игре, некогда моделировавшей (дуальную) структуру коллектива, а затем утратившей свою семантику и сохранившей только синтаксический аспект. Но такое превращение в знак претерпевают и другие предметы в фильме, о чем недавно полемически заостренно писал А.А. Тарковский (Тарковский 1967: 71; Иванов 1973в, 1975в, 1976).
Формулируя ту точку зрения, которая представляется ему собственно кинематографической, А.А. Тарковский неожиданно приближается если не к практике Эйзенштейна – кинорежиссера, то к теоретическим воззрениям Эйзенштейна – автора «Режиссуры». Пользуясь той же бесспорной идеей существования в реальности некоторого арсенала возможностей, из которого выбирает художник (как поэт, согласно математической лингвистике и поэтике, выбирает из некоторого арсенала возможностей, предоставляемых языком), Эйзенштейн в «Режиссуре» пояснял свою идею творчества на примере творческого метода Родена: «Роден из массы ракурсов и поз набирает, как наборщик – из массы типографских знаков, те элементы естественной натуральности, которые своими пластическими нормами способны выразить его мысль» (т. 4: 297–298).
Но если для Тарковского, в этом отношении созвучного многим другим крупнейшим современным кинорежиссерам и теоретикам кино, центр тяжести лежит на том, что режиссер отбирает из совокупности заснятых фактов, расположенных во времени, то для Эйзенштейна основное состоит в роли режиссера, пользующегося заснятыми явлениями как знаками, соединяемыми при монтаже. С этими различиями связано и то отрицание кино, как синтеза искусств, которое – в отличие от тяги Эйзенштейна к синэстетике – характерно и для «киноправды», начиная с Вертова (Вертов 1966: 45), и для кино, понимающего свою задачу как изображение фактов во времени (Тарковский 1967: 71)..
Столкновение двух разных точек зрения на характер кино, быть может, наиболее отчетливое выражение находит в споре не о кино, а о сути японской «молекулярной» поэзии, столь часто цитировавшейся Эйзенштейном. В своем теоретическом рассуждении А.А. Тарковский противопоставляет эйзенштейновской монтажной интерпретации японских хокку свое понимание этих трехстиший как предельно точных жизненных зарисовок. Здесь очень отчетливо сказывается реалистическая установка на метонимию, выделяющая прежде всего деталь (подобно поблескивающему горлышку бутылки, о котором писал Чехов) в отличие от характерной для Эйзенштейна монтажной метафоричности. Тарковский в подобной интерпретации японской поэзии ближе всего к своему современнику Сэлинджеру, писавшему (в книге «Seymour. An introduction» – «Симур. Введение»), что для классического дальневосточного – китайского или японского поэта основное – это деталь, например, укус москита на руке (в качестве немногочисленных подобных достижений в западной литературе Сэлинджер упоминает одну из записей в «Дневниках» Кафки). То внимание к детали, которое столь свойственно современной Литературе, сказывается и по отношению к оценкам японского словесного искусства.
Едва ли не первым из писателей Европы значение японской поэзии оценил Хлебников, в 1913 г. назвавший среди «любопытных задач» изучение японской поэзии, о которой он в письме А.Е. Крученых писал: «Японское стихосложение. Оно не имеет созвучий, но певуче. Имеет 4 строчки. Заключает, как зерно, мысль и как крылья или пух, окружающий зерна, видение мира. Я уверен, что скрытая вражда к созвучиям и требование мысли, столь присущие многим, есть погода перед дождем, которым прольются на нашу землю японские законы прекрасной речи... Здесь предметы видны издали, точно дальний, гибнущий корабль во время бури с дальнего каменного утеса» (Хлебников 1933: 298).
В черновиках Хлебникова сохранилась «13 танка» – прозаический текст, в котором ориентация на японскую поэзию видна не только в заглавии, но и в подборе образов (Хлебников 1930: 324). Сравнение с героем упомянутой повести Сэлинджера тем более оправдано, что Симур, по поводу которого Сэлинджер излагает свое понимание классической дальневосточной поэзии, пишет стихи не только в манере японской поэзии, но и по-японски.
Метонимичность японской поэзии полностью могла быть оценена лишь тогда, когда европейская и американская поэзия прошла через буйную метафоричность символистской и постсимволистской (в частности, «имажистской») поэзии и перешла к неметафорическому верлибру, имеющему особенно большое сходство с современным кинематографом. Это сходство лучше всего можно показать на примере Пазолини, чьи свободные стихи по самой структуре напоминают его же фильмы, теоретически осмысляемые в статьях Пазолини. Когда Пазолини в одном из стихотворений упоминает фильм Годара, это служит как бы лишь для прояснения отчетливо кинематографической структуры этого стихотворения.
Духу намеченной Эйзештейном типологии разных искусств, внутри которой кино выступает в качестве шкалы отсчета, отвечало бы такое исследование, которое позволило бы объединить метонимические черты современной прозы, верлибра и киноправды, противопоставляющие их метафорическому стилю 20-х годов. Согласно разграничению оси смежности (синтагматической) и оси существующих одновременно «фигур» и знаков (парадигматической), метонимический стиль характеризуется установкой па первую в отличие от парадигматической установки метафорического стиля. Синтагматическая ось существенна прежде всего для связного повествования; чем больше разрывов (например, монтажных) в нем, тем вероятнее появление метафор.
Современное кино, ориентированное в пределе на исчерпывание эпизода внутри одного кадра, т.е. на минимальное использование монтажа, естественно, тяготеет к метонимии (и к синекдохе) в гораздо большей степени, чем к метафоре (недаром Барт и Метц, отражая вкусы своей эпохи, часто пишут о близости кино именно к метонимии). Это особенно отчетливо сказывается в тех случаях, когда режиссер использует монтажную метафору, но как бы маскирует ее, вводя для нее сюжетную мотивировку. В фильме Шаброля «Малышки» вводится метафора, отождествляющая героя фильма (садиста, в финале фильма убивающего героиню) с тигром. Сюжетной мотивировкой метафоры служит посещение зоопарка, где героиня с подругами разглядывает зверей, а ее разглядывает герой фильма. Точно так же в «Голом острове» сравнение человека с козой, которая ест листья, вводится без нарочитости: человек и коза рядом.
Такие скрытые метафоры в кино имели место и в эпоху расцвета монтажного кинематографа. В «Стачке» выдавливание сока служит метафорой расправы с рабочими (предполагающей отождествление сока и крови), но эта метафора мотивируется обстановкой в кабинете, где происходит разговор. В «¡Que viva Mexico!» девушка умывается у воды, птица чистит перья. В соответствии с метонимической поэтикой этой части фильма они сняты как части одной речной панорамы. В одной из недавних статей по теории кино высказывалось предположение, что монтажную фразу «Боги» в «Октябре» можно было бы мотивировать, если бы она снималась в музее (Дергнат 1968:16, ср. Иванов 1975в). Здесь отчетливо видно различие между метафорической установкой, где существенна принадлежность каждого монтажного куска к особому ряду, и установкой метонимической, стремящейся соединить части эпизода по смежности (как при непрерывном движении камеры). В метафорической монтажной фразе «Боги» в основном и показаны экспонаты музея этнографии, но это не только не использовано для построения, а, наоборот, скрыто от зрителя в отличие от сходного эпизода в «Завещании доктора Мабузе» Ланга, где смонтированы изображения картин, висящих на стенах кабинета врача.
Эйзенштейновские замыслы интеллектуального кино предполагали немотивированное сюжетом введение монтажных метафор (как вводится сравнение с павлином и арфой в «Октябре» или как вводится сравнение бегущей толпы рабочих со стадом у Чаплина). По, как вскоре увидел сам Эйзенштейн, в таком случае для того, чтобы избежать впечатления искусственности, потребовалась бы их дополнительная психологическая мотивировка, предполагающая использование внутреннего монолога. Здесь Эйзенштейн 30-х годов снова оказывается нашим современником.
3.
Недаром структура, структурный – слова, постоянно встречающиеся в дневниках Эйзенштейна, когда, например, в 1928 г. он говорит о своем «первом черновом структурном наброске» к фильму «Капитал» (ДЭ, т. IV, стр. 91, § 2), о своем «структурном приеме» (там же, стр. 95) и т.д. «Структурализм» Эйзенштейна, стремление понять деталь через ее функцию в целом, был лучше виден уже в предложенном им понимании всякого частного движения как «результата движения тела в целом» (ДЭ, т. IV, стр. 51). «Структурное» понимание движений как движений целой системы, совпадающее с идеями Н.А. Бернштейна, Эйзенштейн считал соответствующим интуитивным представлениям любого человека: «“Моя” биомеханика органически известна – т.е. ощутима подсознательно – каждому. Вот почему мы любуемся органически правильно двигающимися (зверям [и]...)» (ДЭ, т. IV, стр. 51).
На этом Эйзенштейн строил и свое понимание восприятия столь его занимавших (при его интересе к эксцентрике и цирку) эксцентрических движений. Он видел в них «органически уловимый алогизм» (там же, стр. 52).
В своих сценических исследованиях Эйзенштейн всего отчетливее формулирует понятие структуры, совпадающее с современным: «В музыке надо всегда искать структуру, отвечающую структуре действия» (т. 4. 98). Структуру Эйзенштейн понимает как взаимосвязь элементов (т. 4: 109). Те же принципы структурного понимания он имеет в виду и тогда, когда указывает: «Главное – в контекстной обусловленности целостного восприятия отдельного такого элемента, который может в ином контексте и в иных условиях читаться совсем иначе» (т. 4; 126).
Это глубокое понимание структуры объясняет и его мысли о характере образного содержания в «неизобразительных» построениях (т. 4; 652). В частности, по отношению к занимавшей его спиральной линии (рис. 4) Эйзенштейн указывал, что она как бы графически прочеркивает основную закономерность – переход отдельных поступков, отдельных перемещений и всего хода действия в целом в свою противоположность (т. 4; 653).
Рассматривая орнамент как «первообраз в цепи произведений искусства», Эйзенштейн хотел «усмотреть в нем три основных закономерности, которые останутся принципиально “вечными” сквозь все виды и разновидности произведений искусства, в какие бы времена они не создавались. Это – принцип непосредственной изобразительности, принцип композиционного опосредствования видимого, принцип повторности» (М, отрывок «Снимать нельзя. Пишу»). В орнаменте отсутствует на самой ранней стадии изобразительность, заменяемая, как уже говорилось выше, самим предметом. «Элемент “искусства” присутствует только во втором и третьем элементе: в началах сочетания реальных предметов по какой-то формуле... и в повторности этой формулы (без вариаций в простейших случаях и в различных комбинациях в случаях более сложных)» (там же). Именно выяснение композиционной формулы, по которой сочетаются элементы внутри произведения, составляло характерную черту всех предлагавшихся Эйзенштейном разборов произведений разных видов искусства.
Проблемы композиции, полифонии, контрапункта занимали Эйзенштейна не только по отношению к кино, но и применительно к другим видам искусства, когда он разбирал романы Достоевского (полифоническое строение которых было в те же годы вскрыто в классическом исследовании М.М. Бахтина), мизансцены Мейерхольда, старинные китайские пейзажи. Но синтаксический прием интересовал обычно Эйзенштейна не сам по себе, а как способ передачи определенного значения и как средство «заражения» эмоциональным зарядом. Это можно показать на примере многозвеньевых повторов. Их Эйзенштейн изучает в разных областях искусства (т. 3; 220–229).
В качестве наиболее известного образца он упоминал «балладу» о попе и его собаке (стоит заметить, что в новейших языковедческих работах, появившихся за последнее десятилетие, разработаны точные способы описания подобных циклических повторов в языке). Говоря о таких повторах в современной литературе, Эйзенштейн указывал, что они служат излюбленным приемом для Гертруды Стайн (т. 3; 225). Ее фраза «Роза это роза это роза», построенная таким образом и ставшая классической, у нас более известна сейчас по пародии Хемингуэя (в «Празднике, который носишь с собой»). Она пародируется и в фильме Феллини: «Un согро è un corpo è un corpo è un corpo ...» sei Gertruda Stein? «Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa...» Per me il segreto del mondo è invece «Un corpo è un corpo è un corpo è un corpo...» – «Тело это тело это тело это тело...» Ты знаешь у Гертруды Стайн? «Роза это роза это роза это роза...» Для меня, наоборот, тайна мира – «Тело это тело это тело это тело...» (Феллини 1965: 115).
Свою любимую мысль о принципе многоступенчатости, действующем «от самолета, выбрасываемого из самолета, через ракету, выталкиваемую ракетой, выталкиваемой ракетой, выталкиваемой ракетой и т.д. – к частице материи...», Эйзенштейн облекает в «формулировку в манере “зауми” Гертруды Стайн» (т. 3: 191); здесь этот синтаксический прием использован для выражения общего принципа, объясняющего этот прием. Это характерно и для других синтаксических занятий Эйзенштейна, родственных (как в приведенном примере) одновременно и современному научному эксперименту, и научному осмыслению синтаксиса.
Характерно, что именно по отношению к экстатической структуре фильма Феллини «8 1/2», предшествовавшего «Джульетте духов», было недавно (по-видимому, совершенно независимо от Эйзенштейна) повторено сравнение (в наши дни более естественное) с многоступенчатой ракетой. В фильме соединяются друг с другом разные версии отношения героя-режиссера к своему замыслу – этому же самому фильму. Описывая структуру фильма, Метц говорит, что разные версии (отказ от замысла с мнимым самоубийством в конце, выстраивание всего круга героев, вхождение самого режиссера в этот круг) поднимают фильм вверх наподобие многоступенчатой ракеты (Метц 1968: 227) (в скобках можно заметить, что ракета, которая должна послужить для спасения человечества во время термоядерной войны, составляет суть неосуществленного замысла героя фильма, и определяет грандиозность декораций, построенных для съемок фильма и символизирующих самый этот замысел).
Проблема синтаксиса (как это видно уже из приведенных выше замечаний об орнаменте) для Эйзенштейна была переплетена с проблемой ритма. Выделяя мысль Гране о том, что в древнекитайской прозе ритм имеет те же функции, которые в других традициях имеет синтаксис, Эйзенштейн замечает: «R.[ythm] as presynt[axl! (d'ailleurs partout!) Le syntaxe naissante du rhythme, cf. Nietzsche et la tragedie!» (‘Ритм как предсинтаксис! (впрочем, везде!) Синтаксис, вырастающий из ритма, ср. Ницше и трагедию!’) (PC: 79). С ритмическими цепочками формул, выделяемыми в старинных китайских текстах, Эйзенштейн сравнивал «начертания речи у maya (Mexico), как я их понимаю» (PC: 57); истолкование иероглифических текстов майя как последовательностей сакральных формул в настоящее время становится общепризнанным.
По поводу стиля древнекитайского историка Сыма Цяня, который Гране определил как «мозаику пословиц», Эйзенштейн замечает, что здесь происходит «повтор техники иероглифа в стиле литературы» (PC: 70). Проводимое Гране сравнение соположения неизменяемых слов в древнекитайском языке и ритмического соположения историй (анекдотов), никак друг с другом не связываемых явным образом в древнекитайских сочинениях, Эйзенштейну напоминает «монтаж как повтор феномена клетки!» (там же: 74). Эйзенштейн выделил в книге Гране о китайской мысли (глава, посвященная стилю) те места, где говорилось о роли пословиц, фольклорных стандартов для китайской поэзии и для таких авторов, как историк Сыма Цянь, повествование которого строится из фольклорных общих мест (PC: 69).
Такие фольклорные произведения, как загадки, структурой которых много занимался Эйзенштейн в своей монографии «Метод», для него представляли особый интерес именно потому, что в них в пределах минимального текста можно обнаружить основные закономерности построения художественного произведения. По этой же причине загадки были в центре внимания лингвистов, фольклористов и математиков, стремившихся применить методы структурного описания к анализу художественных текстов – начиная с Поливанова.
Тот же подход можно проследить и в том наиболее ясном случае, где отмеченная в приведенных выше словах Эйзенштейна связь ритма и синтаксиса обнаруживается явственнее всего, – в ритмическом синтаксисе.
В недавно вновь опубликованной статье 1922 года «Поэтесса-певица» Андрей Белый указывал на роль ритмического синтаксиса. Говоря о незадолго до того вышедшей книге Б.М. Эйхенбаума, Белый писал, что она «характерна для времени: она останавливается на мелодическом синтаксисе <, > подчиняющем прозаический синтаксис» (Андрей Белый 1968: 175).
| Рис.11. Геометрические схемы к рисункам Хокусаи  |
Проблема переносов, возникающая при анализе той традиции ритмического эксперимента, которая начата была Андреем Белым, детально изучалась в ряде статей Эйзенштейна на материале классической поэзии. Эйзенштейн, неоднократно разбиравший отрывки из «Полтавы», указывал на первостепенное значение анализа переносов в этой поэме, в других вещах Пушкина и вообще в европейской поэзии.
«Ритм, строящийся на смене длинных фраз и фраз, обрубленных до одного слова, заключает в «монтажном построении» еще и динамическую характеристику образа. Ритм как бы закрепляет темперамент изображаемого человека, дает динамическую характеристику действий этого человека» (т. 2: 179–180).
Учитывая сравнение геометрической схемы рисунка или мизансцены с музыкальным или стихотворным метром, повторяемое Эйзенштейном в нескольких местах «Режиссуры» (т. 4: 115–116; 408 и др.), понимание Белым взаимоотношения обязательного метра и ритма можно прямо соотнести с тем, как Эйзенштейн мыслил взаимозависимость между намечаемой схемой (геометрической, а в данном случае метрической) и конкретной (в данном случае словесной) ее реализацией. Достижением основанного Белым статистического стиховедения было то, что оно точно описывало самые отступления от метра – «исходную ритмическую формулу», «ритмический контур», о котором говорил Эйзенштейн (т. 3: 366–367), ссылаясь на опыт стиховедения. В стиховедческих концепциях Андрея Белого метрическая схема и ее словесное ритмическое наполнение противопоставляются так, как Эйзенштейн различал геометрическую схему рисунка и его предметную реализацию, вуалирующую эту схему. У Хокусаи, как и в старой европейской живописи, Эйзенштейн показывает отсутствие нарочитости в подаче этих геометрических отношений. Он отмечал, что в схемах (рис. 11), сделанных художником «позже самого рисунка» (т. 4: 116), «геометрия применяется как пост-доказательство ритмической стройности и закономерной построенности “вдохновенного” выразительного проявления» (т. 4: 118). Разбирая роль геометрических схем в графическом искусстве на примере Хокусаи, Эйзенштейн как бы иллюстрировал свою мысль о том, что рациональному постижению техники искусства больше всего можно научиться у японцев, ср. рис. 12.
| Рис.12. Выразительное движение и композиция японского портрета  |
Процесс построения мизансцен на своих собственных занятиях Эйзенштейн сравнивает с построением геометрических линий на схемах Хокусаи, которые «являются геометрически анализирующей разбивкой» (т. 4: 116). Хокусаи, научный подход которого к изучению природы особенно очевиден в его бесчисленных зарисовках («изучениях») насекомых и растений, выполненных с точностью естествоиспытателя, сопровождал иные из своих рисунков геометрическими схемами, заинтересовавшими Эйзенштейна. «Геометризм» Хокусаи Эйзенштейн понимает как «предел, к которому стремится выразительно решенная форма» (т. 4: 118). Но, подобно тому, как Белого в его стихотворных разборах интересовали прежде всего ритмические отступления от метрической схемы ямба, Эйзенштейн в рисунках Хокусаи видит образцы «прекрасной вуалировки структуры при помощи бытово-конкретных отступлений от абстрактной схемы (пуп, съезжающий на низ живота у Хотси, бок фонаря, прогибающийся под тяжестью)» (т. 4: 119). Этот подход к соотношению геометрической схемы и предметного наполнения в известной мере противоположен кубистическому. При разборе произведений Оннегера Эйзенштейн сравнивает обнаружение геометрической схемы со скандировкой стиха или отбиванием музыкального такта. Роль такой схемы, которой Эйзенштейн придавал и определенное содержательное значение, для изобразительных искусств (в том числе графики), по Эйзенштейну, была аналогична роли метра в стихе.
В связи с изложением этих своих идей Эйзенштейн подробно останавливается на проблеме enjambement, как она ставится в стиховедении. G сожалением нужно заметить, что стиховедам эти мысли Эйзенштейна пока остались неизвестны. Между тем они позволяют не только установить метрические и ритмические структурные схемы, но и подойти к тому, как эти схемы соотнесены с синтаксической («монтажной») структурой. Разумеется, не все в разборах Эйзенштейна вполне и до конца разработано. В некоторых случаях («планы» 1, 2 и 3) само деление на планы, не мотивируемое чисто синтаксически, а вытекающее только из монтажного изобразительного членения, может оказаться лишь одной из возможных интерпретаций. Это чувствовал и сам Эйзенштейн, потому что для обоснования предлагаемого им разбиения на планы он считал нужным привести дополнительные историко-литературные доводы (т. 2; 181). Однако, вероятно, это еще нельзя считать существенной помехой, так как, например, известные колебания в расстановке ударений (на словах, которые могут быть и безударными) не оказываются существенной помехой для развития математически точного стиховедения.
Более важно то, что, поскольку в цитированной статье (и некоторых других) Эйзенштейна занимало главным образом соотношение изображения и звука (музыки) в кино, проблему переноса, т.е. соотношения между синтаксическими и ритмическими структурами он излагал преимущественно как аналогию звукоизобразительному «контрапункту» (этим объясняется и своеобразный способ выделения планов, которые характеризуются именно изобразительно, а не синтаксически).
В этом отношении цитированное высказывание Эйзенштейна не согласуется с его же широким взглядом на возможности интеллектуального кино и его проектами таких фильмов как «Американская трагедия», где далеко не каждый кадр должен был иметь только изобразительную функцию. При выделении кусков не только по изобразительному принципу, т.е. при более широком подходе к проблеме переноса, основным средством для определения границ кусков, не совпадающих с метрическими строками, становится синтаксис, отраженный в пунктуации. Именно так подходит к выделению границ таких кусков Эйзенштейн в той же статье, когда он говорит о структуре переносов и вообще членений, не совпадающих с метрическими единицами стиха, в «Горе от ума». Эйзенштейн подчеркивает роль первоначальной (устраняемой в позднейших изданиях и чтении) пунктуации «Горя от ума», дробящей (подобно графическому оформлению стихов Маяковского), например, на отдельные «крупные планы», сменяющиеся «монтажно» (т. 2; 186) такие строки, как
Когда избавит нас творец
От шляпок их, чепцов! и шпилек!! и булавок!!!
И книжных и бисквитных лавок!!!
«Очень характерны здесь двойные и тройные восклицательные знаки. Они как бы говорят о возрастающем укрупнении планов» (т. 2: 186). Здесь Эйзенштейн как бы предчувствует новейшие сценические воплощения Грибоедова, где, как в спектакле Товстоногова, монологи Чацкого (Юрского) разбиты пространственно. С мыслями Эйзенштейна перекликаются выводы позднейших исследований, где выяснено, что «обнаруживающаяся здесь стройность композиции поистине удивительна. Подобные приемы, которые рассеяны на всем протяжении текста “Горя от ума”, это подлинные приемы композиции, в том же самом смысле, в каком мы говорим о композиции в музыке, со свойственными ей тончайшими методами разработки отдельных тем, составляющими ближайшую аналогию тому виртуозному расположению языкового материала в стихотворных формах, какое мы наблюдаем у лучших поэтов» (Винокур 1959 : 287). Предложенная Эйзенштейном интерпретация переносов и знаков препинания в «Горе от ума» отвечает тем выводам, которые сделал позднее крупнейший из стиховедов, пользовавшихся точными методами анализа, Томашевский в своем специальном исследовании, где интонация изучена в связи с анализом знаков препинания у Грибоедова (Томашевский 1959 : 167).
Роль знаков препинания (служащих графическими сигналами границ интонационных синтаксических единств) для анализа переносов Эйзенштейн отмечал и в работе «О строении вещей», разбирая два отрывка из двух поэм Пушкина (т. 3: 54–55, ср. т. 2; 434–450). «Единственный стих, разрезаемый внутри знаком “полного препинания” – точкой» (т. 3; 55) Эйзенштейн отмечает (в месте, которое он определяет как точку золотого сечения) в отрывке из второй песни «Руслана и Людмилы».
Эйзенштейн по существу предвосхищает вывод новейшего стиховедения о наличии пауз разного рода внутри стихотворения (или стихотворного отрезка).
Та же проблема определения «силы паузы» применительно к пушкинскому стиху (в частности, стиху поэм и «Онегина») решалась в точных стиховедческих исследованиях Б.В. Томашевского, за выводами которого в данном случае следовал и Колмогоров. В согласии с цитированными мыслями Эйзенштейна Томашевский оценивал как наиболее сильную паузу ту, что соответствует точке (Томашевский 1959: 302–303). Исследованиями Томашевского и Колмогорова показано, что распределение пауз в поэмах Пушкина подчиняется вполне определенным статистическим закономерностям, на фоне которых следует оценивать и факты, изученные Эйзенштейном. В частности, для «Полтавы» в строфах со структурой аВаВ (т.е. с начальной мужской и конечной женской рифмой) Томашевским выведены следующие оценки силы паузы:
| после 1 стиха | после 2 стиха | после 3 стиха | после 4 стиха | |||
| 41 | 58 | 38 | 68 |
Из этого следует, что в разбираемом Эйзенштейном четверостишии этой структуры (начинающемся «Верхом, в глуши...») запятая после 1-го стиха и точка после 2-го стиха отвечают статистическим закономерностям в отличие от точки после 3-го стиха и в особенности после 4-го стиха («Опасность близкая и злоба Даруют силу королю»). Напротив, заключающее разобранный Эйзенштейном отрывок четверостишие со структурой АВ АВ (начинающемся «забыл. Поникнув головою») во всех междустрочных паузах отвечает статистическим оценкам силы пауз, выведенным Томашевским для четверостиший «Полтавы» с такой структурой:
| после 1 стиха | после 2 стиха | после 3 стиха | после 4 стиха | |||
| 35 | 48 | 25 | 83 |
Из этого видно, что анализ отдельных кусков (который Эйзенштейн проделал в отношении отрывков из поэм Пушкина и собственных фильмов) должен был бы основываться на предварительном исследовании статистических закономерностей целого. В противном случае трудно (а отчасти и невозможно) отделить индивидуальный прием, специфичный только для данного стихотворного отрезка, от проявления общих статистических тенденций.
Предложенная Эйзенштейном техника исследования ритмико-синтаксических отношений в стихе может быть соединена с методами точного стиховедения, основанного Белым. Но из этих же разборов видно, что без тех статистических данных, которые создают необходимый фон для анализа одного конкретного отрывка, такой анализ может оказаться в большой степени субъективным. Этого не избежал Эйзенштейн не только в разобранных выше примерах стиховедческого анализа, но и в постанализах собственных фильмов, где он следовал в основном тем же методам исследования соотношений между элементами в пределах одной небольшой последовательности. Сам Эйзенштейн понимал необходимость введения более точных методов анализа, чем объясняется, в частности, и его увлечение принципом золотого сечения (к которому вначале он относился критически, что видно из его выступлений времени поездки в США).
Сам Эйзенштейн начал увлекаться математикой еще в юности, о чем он вспоминает в своих неопубликованных набросках 1929 г. «О сущности искусства». Говоря в них о «чисто математическом методе», он делает для себя заметку: «в начале чувствуешь верно, потом теряешь: геометрия 1913 г.» (ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 1, ед. хр. 1035). В овладении высшей математикой существенное значение для него имели лекции профессора Сохоцкого, которые он позднее (в том же 1929 г.) приведет как пример заражения аудитории научным знанием, чего сам он хотел достигнуть в интеллектуальном кино (см. т. 2: 41–42).
В 1928 г., когда Эйзенштейн возвращается к своим занятиям аналитической геометрией для того, чтобы разработать математический язык записи мизансцен, он поясняет в своем дневнике, что всякая наука начинается «со сравнения (наука о кино со сравнения с высшей математикой)» (ДЭ, т. IV, стр. 36). Тогда же Эйзенштейн хочет потребовать преподавания на первом курсе кинематографического института начертательной геометрии и философии математики (метода математики), в частности, для развития пространственного мышления (ДЭ, т. V в, стр. 79, §§ 51–52). О том, в какой степени Эйзенштейн, в юности прошедший основательную математическую подготовку, остро понимал необходимость точной однозначной записи для научного анализа искусства, свидетельствуют обширные рукописные материалы, относящиеся к разработке им системы записи мизансцен. Как говорил Эйзенштейн в курсе лекций по режиссуре в 1934 г.: «Мизансцена имеет как бы две несоизмеримые проекции: путь по кривой пространства и путь по кривой времени, – лишь в своем сочетании дающие ощущение сценического действия и представление об эмоциональном «зигзаге» процесса игры.
Рис.4. Схема математической записи театрального движения

Отчетливое осознание данного процесса, именно как состоящего из этих двух движений по разным измерениям, заставило меня в 1921 г. для записи мизансцен сразу же прибегнуть к методу четырехмерного графика» (т. 4: 409). На графиках, образцы которых приведены в том же курсе (т. 4: 409–412), отмечались движения актера по сцене. Отдельно прочерчивалась временная кривая (abcde на рис. 13, представляющем простейший пример такой записи), отличная от изображения движения в пространстве (ABCDE на рис. 13), благодаря чему остановки в движении актера (паузы, например bb1 на рис. 13) видны так же, как и его пробег по сцене, для которого Эйзенштейн предлагал и графическое изображение скорости.
Как заметил Эйзенштейн, такая запись дает возможность оценить степень динамичности мизансцен, получающую количественное выражение.
В 1928–1929 гг. Эйзенштейн возвращается к совершенствованию этой системы записи, разработанной еще в 1921 г. Теории mis-en-scène (мизансцены), для разработки которой он привлекает аналитическую геометрию, Эйзенштейн посвящает многие страницы дневников 1928 г. (ДЭ, т. IV, стр. 87–88) и 1929 г. Одновременно с завершением работы над «Генеральной линией» Эйзенштейн запоем работает над своей системой записи; его дневники полны увлеченных заметок о его занятиях аналитической геометрией, перемежающихся с разработанными им графиками.
Излагая позднее, в курсе лекций 1934 г. свою первоначальную систему записи, Эйзенштейн указывал на важность такого способа фиксации мизансцен, в частности, для подготовительной работы перед спектаклем (и для возобновления прежнего спектакля) и для истории театра (т. 4; 422–423). Он отмечал, что «существеннейшим преимуществом ее является непрерывность записи всего динамического процесса» (т. 4; 422). Стоит отметить, что для записи непрерывного процесса он пробовал применить соответствующие математические средства, что принципиально отличало его опыты от более распространенных в последнее время опытов приложения дискретной математики к тем видам искусства (в частности, словесного), единицы которого являются дискретными.
Страницы дневников Эйзенштейна, по которым можно восстановить этапы его работы над этой записью, показывают, какое значение он придавал поиску адекватного способа изображения. Еще раньше он работал над системой точной записи мимики и жеста, который он определял как «стянутый на тело пространственный чертеж» (ДЭ, т. V b, стр. 53–55, § 21). Если не по конкретным результатам работы (которая в 1929 г., видимо, не была доведена им до конца из-за отъезда в длительную командировку за границу), то по ее духу здесь Эйзенштейн созвучен науке нашего времени. Характерно, что он этот способ записи мизансцены излагал в своем курсе лекций. Точная запись прежде всего должна облегчить взаимопонимание.
Анализ золотого сечения как принципа построения произведения (не только пространственных, но и временных искусств, ср. Церетели 1973а, 1974) не составлял отличительной черты трудов Эйзенштейна, хотя он его и проводил в своих работах 40-х годов с последовательностью большей, чем у многих других ученых. Но специфической особенностью работ Эйзенштейна было то, что и золотое сечение, и логарифмическая спираль – линия типа латинского S, основополагающее значение которой как композиционной схемы было открыто еще Хогартом в XVIII веке и доказано Л.Ф. Жегиным в недавно изданном труде (Жегин 1970), им изучались как структурные схемы, соотносящиеся с общими законами природы (см. т. 3: 50–51; т. 4; 662 и след.). Интерпретация золотого сечения и логарифмической спирали (рис. 4) как отображения законов развития живого обсуждается в ряде эстетических и математических работ недавнего времени (Кокстер 1966: 236–252, Вейль 1968: 96–99).
Для Эйзенштейна эта проблема была частью общего вопроса, его занимавшего: структуру он рассматривал как отображение некоторого общего (в конечном счете общемирового, космического) принципа, что может быть поставлено в связь с концепцией космоса как организующего начала. Вместе с тем использование любой композиционной схемы (золотого сечения, диагонали, которую он исследовал и на примере мизансцен спектакля «Дама с камелиями» Мейерхольда, и на материале структуры кадров в эпизоде «Одесская лестница» в «Броненосце Потемкине») должно быть оправдано тематически: чистого геометризма Эйзенштейн не терпел.
Структура понимается Эйзенштейном как такая закономерность, в которой сказывается и тема произведения (соотносимая со структурой непосредственно), и законы построения, связанные с закономерностями внутренней речи и с общемировыми закономерностями. Поэтому не будет преувеличением, если мы скажем, что структура, по Эйзенштейну, несет наибольшую семантическую нагрузку в произведении: произведение может быть не изобразительным (как орнамент или цирковой номер), но оно не может быть лишенным значения в этом смысле.
Если следовать предложенным К. Леви-Строссом в его известной работе о «Морфологии волшебной сказки» В.Я. Проппа различиям между структурализмом как исследованием некоторой структуры, включающей не только синтаксический аспект знаков, но и семантический, и формализмом, занятым только описанием на формальном языке синтаксических аспектов искусства (или мифа) (Леви-Стросс 1960, Пропп 1969: 143), то Эйзенштейн был, несомненно, предшественником структурализма, уже «преодолевшим» формализм, точнее дескриптивный морфологизм установок раннего ОПОЯЗа. Отчасти продолжая исследования ОПОЯЗа, он во многом с ними и расходился (особенно в зрелый период). Более всего Эйзенштейна сближало с ОПОЯЗом (и с писателями, близкими к ОПОЯЗу, как Маяковский) внимание к принципам построения произведения, которое прямо связано с художественным экспериментом того времени. Свидетельством сочетания практических занятий искусством с теорией языка искусства у членов ОПОЯЗа может быть, в частности, их недостаточно еще оцененная и особенно важная для темы данной книги, работа в кино, где всего нагляднее был творческий эксперимент. В.Б. Шкловский и Ю.Н. Тынянов были не только сценаристами, внесшими существенный вклад в развитие нашего кино, но и теоретиками кино, как и Б.М. Эйхенбаум.
В.Б. Шкловский написал в 20-е годы несколько статей о молодом Эйзенштейне, остающихся до сих пор в некоторых отношениях непревзойденными. В теоретических статьях Шкловского тех лет заметно влияние взглядов Эйзенштейна на знаковый характер единиц киноязыка. Соответствующая формулировка в статье Шкловского «Основные законы кинокадра» (1927 г.) почти дословно совпадает с высказываниями Эйзенштейна в предшествующих (а также и более поздних) работах.
Стоит отметить, что здесь концепция Шкловского дальше всего отходит от взглядов, которые в те годы он развивал в литературоведческих исследованиях. И это не случайно: Эйзенштейн, в данном случае повлиявший на Шкловского, постоянно более всего интересовался значением, Шкловского в его литературоведческих работах тогда не занимавшим. Отказ от анализа значения при подчеркнутом внимании к правилам сочетания единиц внутри текста объединяет работы Шкловского тех лет с такими течениями структурного языкознания, как дескриптивная лингвистика (Вержбицка 1965). Напротив, выдвижение на первый план семантики, значения, было с самого начала характерно для Тынянова, который недаром свою первую большую монографию озаглавил «Семантика стихотворного языка». В этом отношении Тынянов, как и Эйзенштейн, особенно близкий Тынянову, созвучны не прежним направлениям структурного языкознания, а современной лингвистике и семиотике. Тынянов и Шкловский в те годы были особенно близки Эйзенштейну и в другом отношении: иные виды искусства они рассматривали как бы «с точки зрения кинематографа».
Одной из отправных мыслей исследования В.Я. Проппа по морфологии волшебной сказки, на тридцать лет опередившего структурный анализ фольклора и оказавшего за последнее десятилетие большое влияние на мировую науку (в том числе и на изучение «синтагматики» кино), было рассмотрение особенностей «рассказа, как такового» (Пропп 1969: 20) в отличие от традиционного чисто генетического подхода. Формулируя эту задачу, Пропп во введении к своей работе ссылается на разбор сказки в «Теории прозы» Шкловского (там же: 19). Но характерно, что Шкловский в своем анализе сказки руководствовался, в частности, сравнением с построением фильма (Шкловский 1925: 39). Самая установка на синтаксический анализ последовательности единиц, общая для Проппа и Шкловского, была близка к монтажному мышлению кинематографистов и теоретиков кино того времени.
Немногие из них уже тогда сумели соединить достижения синтаксического (монтажного) исследования с семантическим, как это удалось Эйзенштейну и Тынянову, которые вышли за пределы рассмотрения только некоторых сторон языка искусства (таких, как звуковое строение стиха или сюжетное построение в прозе), где легче всего было осуществить формальный анализ средств выражения. Но Эйзенштейну (писавшему об этом, в частности, в своих программах занятий по режиссуре, т. 2; 147) очевидна была односторонность первоначального подхода формальной школы (в частности, теории остранения В.Б. Шкловского). В дальнейшем эта односторонность формальной школы, где в центре внимания оказывался самодовлеющий прием, была преодолена структурной поэтикой, рассматривающей словесное искусство и отдельное его произведение как целостную структуру, в которую обязательно входит и значение. На последней точке зрения стоял и Эйзенштейн, который вместе с Ю.Н. Тыняновым и учеными Пражского лингвистического кружка по праву считается одним из предшественников структурной поэтики.
Эйзенштейну – теоретику зрелого периода, особенно близок был Тынянов. Он привлекал его и как прозаик, и как тонкий исследователь. На работы Тынянова-литературоведа Эйзенштейн не раз ссылался, говоря о теории пародии и стихотворном языке. Описание смерти Петра в мастерском рассказе Тынянова «Восковая персона», где пафос достигается «“уравнением” дел величайших и дел ничтожнейших» (т. 3; 120), Эйзенштейн приводит наряду с примерами использования такого же приема у классиков. Художественной интуиции Тынянова-исследователя Эйзенштейн был обязан основной идеей своего замысла цветового фильма о Пушкине. Слова самого Тынянова «Совсем не так велика пропасть между методами науки и искусства», выражали дух своего времени, позволявшего осуществить плодотворный синтез теории и эксперимента.
Может показаться, что ОПОЯЗ был просто научным объединением, обсуждавшим академические проблемы. Но это не соответствовало бы истине – так же, как неверно было бы рассматривать ранние статьи о киноязыке Эйзенштейна и других наших кинорежиссеров тех лет вне тех кинематографических экспериментов, которые одновременно ставились ими же. Эти статьи, как и работы опоязовцев, в большой степени были программными (а часто и полемическими) манифестами. Их нельзя понять, не зная искусства, создававшегося тогда же.
С этой же чертой сопряжено и отсутствие сколько-нибудь систематически изложенной единой теории, которую не могли заменить полемические парадоксы, иногда блестящие (ср. Эйхенбаум 1927, Медведев 1928: 91–92, Тодоров 1965: 65). Б.Л. Пастернак, рано порвавший с ЛЕФом и критически относившийся к ОПОЯЗу, в письме П.Н. Медведеву упрекал ОПОЯЗ в том, что его члены не построили той новой эстетики, которая стала возможной благодаря отдельным замечательным их открытиям (Пастернак 1971). Единой теории искусства не было и у раннего Эйзенштейна, но он рано начал стремиться к ее построению. Завершающие книги Эйзенштейна – «Метод» и «Grundproblem» – должны были решить именно эту задачу. Но и эти книги он сам рассматривал как продолжение своих кинематографических экспериментов 30-х годов, когда он пробовал осуществить идеи интеллектуального кино и внутреннего монолога в кино.
В статьях, трактатах и особенно курсах лекций 30-х годов Эйзенштейн сформулировал и изложил в целой серии разборов принципы развертывания темы во всей структуре произведения и в каждой отдельной детали, соотнесенной с другими деталями. Его мысль о кадре как ячейке монтажа связывалась с более общей идеей отражения в микрокосме каждой детали и структурной черты произведения его макроструктуры, выводимой из темы. Подчиненность всех подробностей одной структурной форме Эйзенштейн демонстрировал на многих примерах, утверждая, что такая пронизанность единым принципом лежит в основе всех крупнейших произведений. Особенно далеко в этом отношении он шел в своих педагогических занятиях, где старался выяснить тематическую предопределенность каждого из обсуждавшихся им со студентами решений.
Эта сверхдетерминированность Эйзенштейну была нужна главным образом как педагогический прием. Но сам Эйзенштейн был очень далек от упрощенной мысли, по которой художественное произведение реально строится путем жестко детерминированного последовательного применения определенного набора стандартных операций, развертывающих уже заданное содержание (хотя такое упрощенное описание и может быть полезно для решения некоторых задач преподавания, сочинения пародий, описания стандартной и массовой литературы).
Попытка переформулировать часть структурных описаний мизансцен у Эйзенштейна в духе порождающей поэтики вызывает возражения потому, что для Эйзенштейна существенной была мысль о значимости идеи – темы для всех уровней, начиная от планировки и кончая подробностями освещения, мельчайших микрожестов и т.п. Эйзенштейн выводил все характеристики мизансцены (мизанкадра) из темы. Поэтому, например, выбор ракурса съемок сверху для «Преступления и наказания» он понимал как вполне точно отвечающий атмосфере романа Достоевского. Такое прямое выведение пространственной или временной точки зрения из идеологической (оценочной) вызывает сомнения с точки зрения порождающей поэтики. Эта последняя строится как последовательное развертывание идеи-темы от высшего уровня через промежуточные, где идея-тема как таковая уже не присутствует, что соответствует порождающим схемам построения предложения. Концепция Эйзенштейна ближе к другому взгляду, по которому па всех уровнях построения текста (вплоть до звукового) сохраняются связи со значением. Точка зрения Эйзенштейна учитывается и в опытах порождающей поэтики, но только в качестве специального приема выразительности – выражения одной функции разными способами.
Некоторые из приемов (повтор, отказ, заимствованный Эйзенштейном из теории Мейерхольда) действительно достаточно часто привлекались Эйзенштейном для описания композиционной схемы. Но внимание Эйзенштейна было сосредоточено не на этих приемах как таковых, а на тематических и иных мотивировках введения этих приемов. Порядок развертывания темы, принятый в педагогических курсах Эйзенштейна, им самим не считался столь существенным: для него важнее было наличие взаимосвязей между уровнями, а не жесткий порядок перекодирования с одного уровня на другой.
Путь выстраивания вещи от темы через ее содержание и сюжет к планировке по Эйзенштейну нормативен, но не обязателен; по его собственным словам, очень часто от темы он переходил сразу к планировке, а затем уже к сюжету, а после этого к содержанию; иногда же от сюжета к содержанию, потом к планировке и теме. Возможен был и путь от планировки к сюжету, потом к содержанию и теме (т. 4: 709, примечание). Попытка создания «порождающей» (точнее было бы сказать: синтезирующей) поэтики не учитывает важнейшую особенность творчества (опущенную и в некоторых наименее удачных из постанализов Эйзенштейна). Творчество многозначно. Сам художник может (а иногда и должен) не знать всей многогранности своих намерений, потому что через него может говорить его (иногда бессознательный) личный и социальный опыт.
Самому художнику (как Эйзенштейну) даже искренне может казаться, что он писал 5-актную трагедию тогда, когда он почти без профессиональных актеров импровизировал сцену, по-новому увидев одесскую лестницу. В этом состоит одно из важнейших отличий любого искусства от обиходного и в особенности научного языка, где обычно (за вычетом художественной и вообще образной речи) имеет место однозначность задания (при наличии омонимии на выходе). В поэтической речи и любом другом виде искусства многозначность принципиально есть и на входе (т.е. в самом задании, которое должно быть воплощено). Иначе, например, та цветовая символика, которой столько занимался Эйзенштейн, ничем бы не отличалась от уличной сигнализации, где за каждым цветом закреплено всегда одно и только одно значение. В знаковой системе уличного движения изменение твердого закрепленного за красным или зеленым цветом значения («движение запрещено», «движение разрешено») привело бы к катастрофам. Для искусства катастрофой было бы, напротив, закрепление за каждым цветом одного значения.
Литературные произведения (в частности, драмы) Эйзенштейн делит на такие, где можно выделить основной стержень, которым может быть сюжетное построение (интрига), и другие, в которых такой стержень невыделим. В сюжетных произведениях с построенной интригой Эйзенштейн видел часто «чрезмерный акцент на конструктивном при пренебрежении к тому частному, во что облекается этот скелет, когда он должен фигурировать живым организмом» (М, «Grundproblem II»).
Эйзенштейн развивает подробно это важное для него (в силу его подчеркнутого внимания к биологическим аналогиям) сравнение произведения с организмом, близкое к кибернетическому подходу к сложно организованным системам, частным случаем которых является и художественное произведение, и организм. Произведения второго рода (с мало выраженным сюжетным построением) держатся не на стержне, нанизывающем на себя определенные элементы, а всей своей тканью, арабесками или ходом деталей. Биологическую аналогию этому Эйзенштейн видит в тех животных, у которых скелет может выноситься изнутри наружу (в виде брони и лат), как у подводных анемонов. Примером вещей, из которых нельзя извлечь самостоятельного «хребта», Эйзенштейн считал многие произведения Гоголя, ссылаясь на подобный вывод Андрея Белого (в книге «Мастерство Гоголя»). О таких произведениях, где нет явно выраженных «сюжетных узлов» или «интриги» (как Эйзенштейн переводит английский термин plot), Эйзенштейн говорит, что они «держатся на сцеплении элементов формы, согласно своим особым законам связи, не нуждающимся непременно в интриге или слитном сюжете» (М, «Grundproblem II»). Ярчайшим примером драм, построенных таким образом и в этом смысле являющихся «антиподом» обычных сюжетных пьес, Эйзенштейн считал вещи своего любимого драматурга Бена Джонсона. Эйзенштейн много раз, – и в дневниках 1929 г., и в статье памяти Аксенова (т. 5; 405), и в цитируемой части «Метода» («Grundproblem II») – писал о том, как много для него значил Бен Джонсон в молодости (в те же годы его переводил Пастернак).
По словам Эйзенштейна, пьеса Бена Джонсона «Вольпоне» «так захватила меня», что именно здесь в первый (и единственный) раз случилось со мною вовсе необычное: я засел за перевод – да еще белыми стихами! – этого совершенно пленительного сочинения» (М., «Grundproblem II»). Вспоминая о влиянии, оказанном на него Беном Джонсоном (а позднее Вебстером), Эйзенштейн говорит, что он «долгие вечера захлебывался от восторга над “Каждым человеком в своем духе” или “Выведенным из своего духа” и в первую очередь, впрочем, как и до сих пор, над той имен но “Варфоломеевой ярмаркой”, в которой прежде всего движение самой ярмарки, а не изложение событий, на ярмарке происходящих» (там же). Здесь в характеристике своей любимой пьесы «Варфоломеевской ярмарки» Эйзенштейн перефразирует слова о ней из статьи Т.С. Элиота, которую он подробно цитирует в собственном русском переводе в «Grundproblem II»: «В “Варфоломеевской ярмарке”, собственно говоря, вообще нет сюжета, чудом этого произведения (the marvel of the play) является сногсшибательная быстрота хаотического действия на ярмарке – ярмарка – сама, а не что-нибудь происходящее на ярмарке. В “Вольпоне”, или “Алхимике”, или “Эписин” сюжета дано только настолько, чтобы привести действие в движение. Это именно скорее “действие” (“action”), нежели сюжетное построение (“plot”). He “plot” сдерживает части пьесы между собою; что их сдерживает вместе – это единство вдохновения, которое излучается и в plot и в персонажах в равной степени...» (в последней фразе Эйзенштейн оставил без перевода слово «plot», заметив при этом, что подыскать русский эквивалент для этого термина трудно).
По словам Эйзенштейна, «сходящиеся в некий единый фокус “нити” и есть то основное, о чем говорит этот термин и в чтении своем применительно к драматургии» (М, «Grundproblem II»). Говоря (там же) о «влиянии Бена Джонсона на формирование моей кино-манеры и кино-стилистики периода немого кино», Эйзенштейн поясняет: «Влияние Бена на мою работу исчерп[ывающе] [о]характеризовано тем, что пишет о нем Элиот». Т.С. Элиота Эйзенштейн называет «одним из наиболее тонких критиков Елисаветинского театра», Эйзенштейн полностью присоединяется к характеристике отличия Бена Джонсона от Шекспира, данной Элиотом: «Если у Шекспира эффект получается от того, каким образом характеры воздействуют друг на друга, то у Джонсона он достигается тем, как отдельные характеры увязываются друг с другом. Художественный эффект «Вольпоны» достигается не тем, как действуют друг на друга Вольпона, Моска, Корвино, Корбаччио, Вольтере, но тем, как они комбинируются в одно целое. И эти персонажи далеко не олицетворения страстей; взятые в отдельности они не имеют даже этой реальности, они не более как составные части некоего целого (constituents)». Эйзенштейн особенно выделяет замечание Т.С. Элиота о том, что в лучших вещах Бена Джонсона «нет ничего похожего на интригу комедии эпохи Реставрации», добавляя от себя: «NB. Шеридан, Конгрив и т.д.» (М, «Grundproblem II»).
Приведя длинные выписки из цитированной книги Т.С. Элиота в своем переводе, Эйзенштейн пробует дать объяснение тому эффекту пьес Бена Джонсона, который охарактеризован Т.С. Элиотом: «Тайна “ужасающей” (terrifying) “непосредственности” (directness) этого “единственного в своем роде” (single) эффекта пьес Джонсона, о которых пишет Т.С. Элиот, “несмотря на то, что он обходится без интриги”, сама в себе несет разгадку. Именно благодаря этому отсутствию интриги вещи Джонсона так потрясающе воздейственны. Потрясающе именно потому, что они помимо всего прочего оказывают еще своеобразное “иррациональное” – особенно чувственное воздействие именно этой своей стороной» (М, «Grundproblem II»).
К той же категории произведений, которые держатся не сюжетом, а всей своей тканью, Эйзенштейн относил наряду с пьесами Бена Джонсона также и романы Золя (по собственному признанию Эйзенштейна, повлиявшего на него наравне с Беном Джонсоном). Эйзенштейн проводит даже и прямые параллели между двумя писателями, указывая на сходство ситуаций, интриги и костяка «Наследников Рабурдэна» Золя и «Вольпоне» Бена Джонсона (едва ли, однако, в данном случае можно думать о литературном влиянии).
По словам Эйзенштейна, «каждый роман Золя строго замкнут в рамках одной определенной неповторяющейся среды (железная дорога, городской рынок, гигантский парк, копи, дом из бедных квартир и кабак, модный магазин)... человек Золя неотъемлем от среды» (GP). У Золя Эйзенштейн находит черты «живописности» (в смысле Вельфлина), что он демонстрирует сравнением Мане и Золя: «Котелок и стойка с бутылками у одного, а у другого пар прачечной и грязное белье, монументальный красный ковер по мраморной лестнице, или кусочек лимона и два волоса на подернутой жиром поверхности остывшей мраморной ванны, запах сыров или пестрые струйки вытекающей из-под двери краски – все это дописывает, доигрывает, дорисовывает самих персонажей, которые вращаются в этой среде» (GP).
Эйзенштейн сам много раз писал о том, как много значила конкретная изображаемая «среда» в его ранних фильмах – судно в «Броненосце», Зимний дворец в «Октябре». Здесь более всего можно увидеть реальную связь с его истолкованием каждого из романов Золя по отношению к определенной среде – магазину, рынку и т.п., и пьесы Джонсона по отношению к ярмарке, которая сама стала заменой интриги. Эту черту Эйзенштейн разделял со многими авторами 20-х годов, для искусства которых в целом характерна ослабленная сюжетность (призывы Л. Лунца и шедших за ним о необходимости учиться острому сюжету тогда еще не имели многочисленных последователей). Едва ли не яснее всего это выразил Пастернак, в те годы работавший вместе с Эйзенштейном, в «Спекторском».
Разделение произведений с острым сюжетом и с ослабленным сюжетом нужно Эйзенштейну не для целей классификации. Его интересует нахождение общего в обоих типах, чем подтверждается тезис о том, что «и сюжет является таким же элементом формы, как и все остальное» (М., «Grundproblem II»). Само по себе это утверждение лишь продолжает линию исследований сюжета в работах представителей формальной школы, в частности, В.Б. Шкловского. Но Эйзенштейна и здесь отличает преимущественно историческая (диахроническая) точка зрения. Его занимает то, что «сюжет да еще в наиболее “острой” его форме, в форме интриги есть действительно стадия общей закономерности строения (и движения!) формы вообще» (М, «Grundproblem II»).
Эту закономерность Эйзенштейн прослеживает и в филогенезе (истории литературы в целом), и в онтогенезе – в биографиях отдельных писателей, обнаруживающих сдвиги от вещей остросюжетных к вещам вне движения сюжета, держащимся, например, на «форме сказа и композиции» или на самой «ткани». Например, у Бальзака в трех романах («Потерянные иллюзии», «Отец Го-рио», «Блеск и нищета куртизанок»), повествующих о судьбе одних и тех же персонажей, обнаруживается различие между упором на ткань повествования (во втором романе), «черепашьим шагом интриги» (в первом) и искусством интриги (в третьем.)
Существенной чертой приведенных мыслей Эйзенштейна о сюжете, отличающих их от ранних и гораздо более односторонних исследований на ту же тему формальной школы (в частности, В.Б. Шкловского), является то, что сюжет в них рассматривается лишь как часть ситуационного синтаксиса. При отсутствии интриги как таковой ситуация, данная средой, сама по себе образует костяк вещи. Цитированные выше разборы структуры малосюжетных произведений типа драм Бена Джонсона у Эйзенштейна сопровождаются ссылками на его собственный опыт создания внесюжетных фильмов (в чем он видел влияние на себя Бена Джонсона и Золя). По отношению к своему собственному творчеству в кино Эйзенштейн сам четко проанализировал свой путь от произведений, построенных на изображении среды и массы (корабля и города в «Броненосце Потемкине», дворца и революционной массы в «Октябре») к таким сюжетным вещам, где в центре интриги стоит сильная личность, обычно вознесенная над массой и ей противопоставленная. «Любопытно, что три других фильма, над разработкой которых я работал за границей, оказались фильмами о ...“сверхчеловеках”, об единицах, “перерастающих” социальный коллектив, отрывающихся от него и на этом трагически гибнущих» (т. 4; 321, 322).
Сходные проблемы еще в 1928 г. обсуждал Мандельштам в своей статье «Конец романа», на которую ссылается в своей недавней работе Джанни Тоти, пытаясь осмыслить (вслед за Л. Гольдманом и Пазолини) судьбу сюжетного романа и кино. Эти идеи получили особый вес после выхода в 1963 г. исследований Гольдмана по социологии романа, где отчасти сходные выводы делаются для объяснения различия между классическим реалистическим романом XIX в. и современным романом. Те же выводы были положены в основу исследований Пазолини (и статьи Джанни Тоти) о современном кино и причинах его отказа от сюжета. Разделение кинопоэзии и документальной или повествовательной кинопрозы Пазолини объясняет социологически так же, как в недавней работе Гольдмана «Социология романа» объяснено возникновение «нового романа» (Гольдман 1963). Излагая и цитируя эту статью Мандельштама, Джанни Тоти пишет, что в современном романе «центр тяжести переносится на социальные побуждения, подлинным героем становится само общество...» (Тоти 1966 : 117).
Эти проблемы соотношения «вероятностного», или статистического, подхода к истории (предвестником которого отчасти можно считать Льва Толстого в некоторых из его теоретических глав в «Войне и мире», лишь отраженно и весьма косвенно сказавшихся на композиции самой книги и на трактовке Наполеона в романе), и подхода, выдвигающего на первый план биографию отдельной личности, для западного кино (и романа) стали особенно существенными в последние годы. Эйзенштейн же решал эти проблемы, и как теоретик, и как кинорежиссер, в своих работах 20-х и 30-х годов.
Обозревая пройденный за 20 лет путь, в 1945 г. Эйзенштейн в очень отчетливой и ясной форме оценил различия начального и конечного этапов своего пути:
у автора, одинаково ответственного ... за подобные, казалось бы, несовместимые по темам опусы, как “Броненосец Потемкин” и “Иван Грозный”.
Что может быть более разительно – несхожего, чем тема и разработка двух сочинений, по времени отстоящих друг от друга на двадцать лет?
Коллектив и масса – там. Единодержавный индивид – здесь. Подобие хора, сливающее [ся] в коллективный облик и образ – там. Резко очерченный характер – здесь. Отчаянная борьба с царизмом – там. Первичное установление царской власти – здесь» (Эйзенштейн 1969: 17–18).
На перепутье между фильмами первой группы, где героем была масса, и фильмами последнего времени, где в центре построения лежит судьба одного человека, определяющая сюжет, находится замысел фильма по сценарию Мальро «Условия человеческого существования». В набросках к этому фильму Эйзенштейн попробовал достичь слияния судьбы массы и героя (Катова) в финальной сцене. Характерно, что Гольдман именно на примере романов, Мальро пришел к формулировке приведенной выше закономерности.
4.
В своей замечательной статье о Гриффите Эйзенштейн говорил о себе, что он, как и вся его интеллектуальная эпоха, «не могли не прочесть в кадре прежде всего его свойства идеологической энграммы – знака; ...мы раздвигали рамки параллельного монтажа в новое качество, в новую область; из сферы действия в сферу смысла.
Период подобных достаточно наивных сопоставлений прошел довольно быстро...
Однако осталось главное – осталось понимание монтажа не только как средства производить эффекты, но прежде всего как средства говорить, средства излагать мысли, излагать их путем особого вида кинематографического языка, путем особой формы кинематографической речи» (т. 5: 172).
Особый интерес этих мыслей заключается в том, что здесь в точности сформулирована та проблема «кино как языка без знаков», к которой Эйзенштейн приходит после постановки проблемы «кадра как знака», а многие современные исследователи приходят вновь (иногда в полемике с ранним Эйзенштейном). Существенным для Эйзенштейна (как и для современных исследователей кино, применяющих семиотические методы, в частности, для Пазолини и Метца) было понимание кино как языка (или «речи», как иногда говорил Эйзенштейн в поздних своих статьях).
И на начальном этапе исследования киноязыка как состоящего прежде всего из знаков-кадров, и на последующем этапе изучения его в более широком аспекте Эйзенштейн рассматривал киноязык как средство изложения мыслей: на первом плане для него была всегда функция этого средства, подчиненная теме фильма. Поэтому совершенно правомерным представляется сопоставление пути эволюции взглядов Эйзенштейна на киноязык с развитием функциональной точки зрения на язык, полно разработанной уже в Пражской лингвистической школе в 30-х годах нашего века и повлиявшей на позднейшие исследования других систем знаков и текстов, в том числе и используемых в искусстве.
«Переход к понятию нормальной киноречи» (т. 5: 172), о котором в связи с описанием эволюции своих взглядов говорит Эйзенштейн, соответствует наиболее кардинальному сдвигу в современных работах о языке кино и других знаковых системах. Этот сдвиг характеризуется перемещением центра внимания от отдельного знака (в частности, кадра как знака, что согласуется с ранними концепциями Эйзенштейна) к исследованию целого связного текста (например, кадра-эпизода) как единого высказывания. Отчетливее всего эту мысль недавно выразил лингвист Э. Бенвенист в работе, наметившей программу работы «второго поколения» исследователей знаковых систем. «Первое» их поколение, чьи взгляды восходят к исследованиям разных видов знаков в трудах американского логика Ч. Перса и языка как системы знаков у швейцарского лингвиста Соссюра, занималось прежде всего изучением знаков, в каждом из которых сочетается материальная означающая сторона (зрительное изображение в немом кино, комбинированное звукозрительное – в звуковом) и означаемая сторона – значение знака. «Второе» же поколение обращается к исследованию всего сообщения как единого целого; этим объясняется, в частности, и внимание к проблеме структуры текста в трудах Тартуской школы. Целый текст может состоять из отдельных знаков, как фраза естественного языка или как монтажная фраза (например, «Боги» в «Октябре», рис. 5) в немом кино, где каждый составляющий кадр несет свое четкое значение. Но сообщение (или текст в широком смысле слова) может и не члениться естественным образом на отдельные знаки.
Монтажное немое кино 20-х годов сравнительно легко описывалось, в частности, в работах С.М. Эйзенштейна и других теоретиков того времени, как аналог словесного языка потому, что каждая монтажная фраза членилась на отдельные единицы-кадры, которые можно было соотнести со знаком словесного языка; поэтому, например, Эйзенштейн в своих кинематографических экспериментах того времени, воплощавших эту теорию киноязыка, мог ставить перед собой задачу передать словесный образ посредством монтажной фразы («кровавая бойня» в «Стачке» и т.д.). Для многих фильмов современного звукового кино более характерно стремление в пределе к кадру-эпизоду, т.е. к исчерпыванию целого эпизода в границах одного кадра; отсюда и роль таких приемов, как трэвеллинг – непрерывное движение камеры при сохранении одинакового угла между оптической осью аппарата и снимаемым рядом вещей (например, горизонтальное скольжение камеры вдоль улицы, по которой сколь угодно долго может идти герой, сопровождаемый скользящей камерой). Искусственным было бы описание макроструктуры таких фильмов в терминах единиц, меньших, чем целый кадр-эпизод.
Оказывается, что и по отношению к словесным текстам реальной единицей описания должно быть целое высказывание, иногда достаточно большое по величине. Утверждая эту мысль, полемически заостренную против выдвижения знака в качестве основной и единственной единицы описания в школе Соссюра, Бенвенист говорит об исследовании структуры высказывания в лингвистике и «метасемантическом» изучении структуры текста в других сфеpax семиотики как о двух главных задачах семиотики «второго поколения» (Бенвенист 1965: 134–135, 1974). Именно эти две задачи не только были сформулированы на основании сходных общесемиотических идей, но и конкретно решались в трудах М.М. Бахтина, изданных за 40 лет до статей Бенвениста, – тогда же, когда над сходными проблемами работал С.М. Эйзенштейн.
Как и Бенвенист в упомянутых своих статьях, Бахтин указал на ограниченность такого соссюровского понимания «высказывания», которое выводило его за пределы системного изучения (Волошинов 1929 : 96–98). Опережая недавние дискуссии о картезианской лингвистике в ее отношении к Гумбольдту и Соссюру, Бахтин утверждал, что корни рационалистической концепции языка как системы знаков «уходят в картезианскую почву» (Волошинов 1929: 70, прим. 11). «Для всего рационализма характерна идея условности, произвольности языка и не менее характерно сопоставление системы языка с системой математических знаков. Не отношение знака... к порождающему его индивиду, а отношение знака к знаку внутри замкнутой системы, однажды принятой и допущенной, интересует математически направленный ум рационалистов. Другими словами, их интересует только внутренняя логика самой системы знаков, взятой как в алгебре, совершенно независимо от наполняющих знаки идеологических значений» (Волошинов 1929: 70).
Этот чисто синтаксический (в широком логико-математическом и семиотическом смысле) подход к языку и другим знакам, характерный для многих направлений науки (таких, как часть представителей ОПОЯЗа в начальный период его деятельности) и искусства 20-х годов, М.М. Бахтин критиковал, исходя из более общего семантического и прагматического (социологического или коммуникативного) рассмотрения высказываний, близкого и к подходу Эйзенштейна, проделавшего сходный путь, отталкиваясь от во многом ему созвучных идей ОПОЯЗа. В отличие от ОПОЯЗа Эйзенштейн рассматривал все исследовавшиеся им приемы искусства как способы изложения определенной темы (методом, сходным с морфологическим): этой задаче подчинены все остальные его труды; особенно детально на примере строения мизансцены это показано в «Режиссуре».
Как и Эйзенштейн, основываясь на том, что у каждого высказывания есть «тема» или «тематическое единство» (Волошинов 1929 : 119), Бахтин предложил понимание значения как «технического аппарата осуществления темы» (Волошинов 1929 : 120). В этом можно было бы видеть сходство с тем направлением новейшей лингвистической семантики, которое строит модель перехода «от смысла к тексту», рассматривая значения отдельных слов как средства для такого перехода. Характерно, что именно концепция воплощения темы с помощью набора определенных «операторов», развернутая в «Режиссуре» Эйзенштейна, была интерпретирована как аналогичная лингвистической модели перехода от смысла к тексту (Жолковский 1970).
Не подлежит сомнению, что при наличии определенных сходств между пониманием произведения как воплощения темы у Эйзенштейна и Бахтина и моделями лингвистической семантики существуют и достаточно серьезные расхождения. Во-первых, в искусстве отношение между означаемым и означающим (темой и ее воплощением) отличается от той условной связи, которая для большинства знаков языка установлена Соссюром. Как многократно отмечал Эйзенштейн, значимой оказывается самая структура означающей стороны, непосредственно соотносимая в ряде случаев не только с концептами (понятиями), но и с денотатами (предметами), обозначаемыми в произведении искусства. Во-вторых, здесь еще более отчетливо обнаруживается первичность целостного текста-высказывания по отношению к составляющим его элементам, существенная и для естественного языка, на что указывали и Бахтин, и Бенвенист.
Согласно Бахтину, «между лингвистическими формами элементов высказывания и формами его целого нет непрерывного перехода и вообще нет никакой связи. Из синтаксиса мы только путем скачка попадаем в вопросы композиции» (Волошинов 1929: 94). Так же и Бенвенист, описывая задачи изучения речевой деятельности, создающей сообщения, говорит, что «сообщение несводимо к последовательности элементов, каждое из которых может быть распознано по отдельности; смысл не образуется посредством сложения знаков, наоборот, смысл (подразумеваемое), рассматриваемый как целостное единство, воплощается и разделяется на отдельные ‘знаки’, являющиеся словами» (Бенвенист 1969: 133). «Мир знака замкнут. От знака к фразе нет перехода» (там же: 134).
Если М.М. Бахтин оспаривает установку рационализма на сравнение языка с системой математических знаков, то в начале упомянутых выше статей Бенвенист говорит о трудностях, возникающих при приложении к естественному языку и другим семиотическим системам того логико-математического понимания знака, которым пользовался Ч. Перс (отличавшийся от Соссюра тем, что знаки для него далеко не все были условными). Как ранее Бахтин, Бенвенист подчеркивает разницу между распознаванием повторяющегося знака – «сигнала», в терминах Бахтина, и пониманием высказывания: «семиотическое (знак) должно быть узнано, семантическое (высказывание) должно быть понято». (Бенвенист 1969: 134). По Бенвенисту, оба эти аспекта – знаковый (семиотический в узком смысле) и текстовый («семантический» – «относящийся к высказыванию» в его терминологии) – есть только у естественного языка. Только семиотический аспект есть у таких систем, как этикет; только семантический у таких, как изобразительное искусство; живописное полотно все целиком представляет собой текст, который не членится на отдельные знаки, в нем можно выделить (как в любом тексте) отдельные элементы-«фигуры», но они не являются самостоятельными знаками (здесь и далее под «фигурой» в соответствии с лингвистической терминологией понимается такая единица, которая выделяется на основе формальных соотношений, но сама не имеет значения).
Представляется, что не только естественный язык, но и кино, занимает промежуточное положение, объединяя оба эти полюса. Но в отличие от естественного языка эти два полюса представлены не в каждой фразе (высказывании), а в разных типах кинематографических текстов. С одной стороны, в кино (типа монтажного немого и интеллектуального, имеющего целый ряд продолжений именно в наше время) достаточно часто обнаруживаются последовательности кадров, членимых на знаки. С другой стороны, все большую роль приобретают непрерывные кадры-эпизоды, где вычленяемые «фигуры» не являются знаками так же, как и внутри отдельного кадра дальнейшее дробление на знаки часто невозможно, хотя в соответствии с мыслями Эйзенштейна о кадре как ячейке монтажа кадр часто можно разделить на «фигуры».
По отношению к кадру и его составляющим, как и по отношению к высказываниям и словам естественного языка, существенным является то разграничение понимания высказывания и узнавания языка, которое применительно к языку проведено в приведенной мысли Бенвениста. В написанной более 40 лет назад книге Бахтин, формулировки которого дословно совпадают с цитированной мыслью Бенвениста, исходил из того, что «процесс понимания ни в коем случае нельзя путать с процессом узнания. Они глубоко различны. Понимается только знак, узнается же сигнал. Сигнал – внутренне неподвижная, единичная вещь, которая на самом деле ничего не отражает и не преломляет, а просто является техническим средством указания на тот или иной предмет (определенный и неподвижный) или на то или иное действие (тоже определенное и неподвижное!)» (Волошинов 1929 : 82). Это разграничение используется им для критики того рефлексологического объяснения языка, которое выдвигалось в 20-х годах и оказало известное влияние на С. М. Эйзенштейна, позднее от него отошедшего.
По Бахтину, «конститутивным моментом для языковой формы как для знака является вовсе не ее сигнальная себетождественность, а ее специфическая изменчивость, и для понимания языковой формы конститутивным моментом является не узнание “того же самого”, а понимание в собственном смысле слова, т.о. ориентация в данном контексте и в данной ситуации, ориентация в становлении, а не “ориентация” в каком-то неподвижном пребывании» (Волошинов 1929 : 83). Эти идеи были основаны на последовательном разграничении точки зрения слушающего (на которую, согласно Бахтину, по традиции ориентировалась лингвистика) и точки зрения говорящего, роль которой была подчеркнута Бахтиным, в этом предвосхитившим одну из основных мыслей лингвистической концепции Хомского (как и многих других современных лингвистов, выдвигающих на первый план языковую интуицию говорящего, формальное описание которой составляет основную цель порождающей грамматики). Те же принципы, по Бахтину, объясняют функционирование и других текстов, отличных от словесных; всякий «идеологический знак должен погрузиться в стихию внутренних субъективных знаков, зазвучать субъективными тонами, чтобы остаться живым знаком, а не попасть в почетное положение непонятной музейной реликвии» (Волошинов 1929: 51).
Различение, близкое к цитированному разграничению сигнала и знака в высказывании, в те же годы проводил С.М. Эйзенштейн, противопоставлявший застывший знак – условный символ живому образу – «символу в становлении», изучавшемуся им в связи со «становлением образа» (ДЭ, т. V стр. 63, § 32). Для него это различие было изменчивым: «с течением времени, в специфических условиях образ способен застывать в неподвижность символа, а символ – проникаться динамикой и возвращаться в образность» (т. 4: 669).
Точно так же Мандельштам традиционным застывшим «культурно-поэтическим» образам («символам», по Эйзенштейну) противопоставляет «образ-оружие, рождающийся из столкновения слагающих его частей». Поэтому, согласно Мандельштаму, кино начала 30-х годов «оборачивается злейшей пародией на орудийность поэтической речи, потому что кадры движутся в нем без борьбы и только сменяют друг друга» (Мандельштам 1967: 6). Сходными идеями продиктована концепция межкадрового и внутрикадрового конфликта, исключительно важная для всей концепции монтажа у Эйзенштейна. Кадр внутри монтажного целого для Эйзенштейна всегда соотнесен с предшествующим ему и за ним следующим. Образ в становлении рождается именно благодаря конфликту между кадрами.
Стирание образов, становящихся условными обозначениями в естественном языке, Эйзенштейн разбирает на таком примере, как «Малый Гранд-отель» (ДЭ, т. IV, стр. 106, § 18), «где “Гранд” кастрирован» (там же, стр. 119, § 44): значение «большой» в этом слове уже не воспринимается, остается только значение «малый». Подобные «семантические аномалии» (типа «этот маленький слоненок – большой» в недавнее время встали в центре внимания лингвистов, занимающихся семантикой языка.
Разницу между окаменевшим символом и «символом в становлении» Эйзенштейн в пору работы над интеллектуальным кино пояснял сопоставлением ходячих символов: «Трешка – символ и Распятие – символ. Первое – “живой”. Второе – мертвый. Почему – первый живой? Неужели из-за “копируемости” его. Из-за его постоянно меняющейся ценности? Не биржевое падение, а изменение его значимости в связи с окружающим... Соотношение номинальной ценности с товарной – делают его динамичным, неокаменелым...» (ДЭ, т. V, стр. 39, № 35). Эти заметки Эйзенштейна были сделаны в пору его работы над замыслом фильма о «Капитале». Они показывают, что, внимательно изучая политэкономию, Эйзенштейн по мог пройти мимо тех глубоких аналогий между выводами этой науки и данными наук о языке и других системах знаков, которые в последние годы снова стали в центре внимания ученых (Росси – Ланди 1975), опирающихся, как и Эйзенштейн в конце 20-х годов, на выводы, сделанные в «Капитале».
Сформулированные Эйзенштейном параллели позднее он попробует осмыслить эволюционно, когда в курсе режиссуры попытается установить соответствия между условностью знаков театра и экономическими соотношениями той эпохи, в которую «кредитный билет заменил собой связку натуральных оленьих рогов или шкур» (т. 4: 435). Эти мысли Эйзенштейна существенны не столько для конкретной истории театральных приемов, сколько для более глубокого сопоставления театра с другими семиотическими системами, в том числе и экономическими.
По недавно обнаруженной формулировке Соссюра, «система единиц, которая является системой знаков, является одновременно системой ценностей» (Соссюр 1967: 254, 255). То, что Эйзенштейну было близко понимание знаковых соотношений как ценностных, и в частности, анализ изменения значений как переоценки (Волошинов 1929: 127, ср. Иванов 1973а), видно не только из цитированных его записей, но и из разборов им иерархических соотношений, например, определяющих характер перспективы.
5.
| Рис.14. Глубинная композиция (кадр из фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» А.Рене)  |
По существу «сквозным» для всех фильмов Эйзенштейна принципом построения кадра оказалась глубинная его композиция (см. рис. 14), подробно изученная самим Эйзенштейном (называвшим ее обычно «первопланной»). Для Эйзенштейна сутью глубинной композиции было «динамическое – драматическое! – взаимодействие переднего плана и глубины» (т. 3; 439), которое может предстать либо как их единство, либо как их резкое противопоставление. Сравнивая этот любимый им способ пластической выразительности в своих фильмах с дальнейшим его использованием (в частности, у Уайлера и Орсона Уэллеса – в «Гражданине Кейне»), Эйзенштейн вспоминал, что опыты в этом духе в «Стачке» оказались не очень удачными из-за отсутствия соответствующего объектива. Эйзенштейн, вероятно, имел здесь в виду не столько сходные задачи, решавшиеся в фильме с помощью двойной экспозиции (как в упомянутой сцене с гармошкой), сколько кадры, тематически близкие к позднейшему использованию глубинной композиции в его фильмах.
В «Стачке» таким кадром был, например, крупный план (в профиль) головы директора завода у окна, где видна толпа. Этот кадр тематически (хотя еще и не по техническому решению) можно считать прообразом сцены в конце 1-й серии «Ивана Грозного», когда гигантский профиль Ивана наклоняется над фоном, где виден крестный ход народа, пришедшего в Александровскую слободу. В подобных случаях у Эйзенштейна глубинная композиция становилась средством выражения одной из главных тем его искусства – соотношения личности (обычно вознесенной над людьми или им противопоставленной) и массы. Хотя сам он появление этой темы в своих фильмах датировал 30-ми годами, упомянутый кадр «Стачки» показывает, что в негативном решении воплощение той же темы подготавливалось уже в первых его фильмах.
Технически глубинную композицию кадра Эйзенштейн и Тиссэ смогли осуществить благодаря широкоугольному объективу с фокусным расстоянием 28 мм, о достоинствах которого Эйзенштейн не раз говорил в этой связи, в частности, на занятиях со студентами, предлагая использовать этот объектив для съемки эпизода из «Преступления и наказания», когда Раскольников приходит к старухе. В «Генеральной линии» (или «Старое и новое»), законченной до того, как Эйзенштейн увидел «Страсти Жанны д'Арк» Дрейера с их подчеркнутой стилистикой крупного плана и первого плана, уже были использованы возможности «объектива 28», в частности, в сцене «бычьей свадьбы», создававшей впечатление о быке как о «полумифологической громаде...» (т. 3, 80). В последнем случае объектив 28 решал ту же задачу, которая другими средствами решалась и в кадрах сна Марфы, где «мифологическая громада» быка встает над стадом (рис. 15). Такую же задачу пластического воплощения противопоставления внутри кадра решил объектив 28 и в других разбираемых Эйзенштейном эпизодах – например, при противопоставлении крупов коней и Марфы (т. 3, 80).

Представляется особенно существенным то, что роль глубинной композиции кадра у Эйзенштейна возрастает по мере того, как он подходит к звуковому фильму. По существу в незавершенном мексиканском фильме, насколько его можно реконструировать, были заложены черты того кинематографического стиля, где монтаж в узком смысле уже не был самодовлеющим приемом и глубинная композиция (и движение камеры, как в планах тропической реки в первой новелле) выступала в качестве средства, ему равнозначного. Эйзенштейн сам в трактатах 40-х годов обратил внимание на это, но в духе прежних своих суждений о монтаже (почти дословно повторяя свои статьи двадцатилетней давности) утверждал, что внутрикадровый конфликт в кадрах с глубинной композицией естественно взрывает их, превращая в два кадра, соединенных монтажно (т. 3: 443). Нетрудно, однако, увидеть, что у самого Эйзенштейна развитие шло в обратном порядке: от преимущественно монтажных (в узком смысле короткого монтажа) решений «Октября» к глубинной композиции кадра в мексиканском фильме, где в финале достигнуто то сочетание глубинной композиции и монтажа, которое многими современными киноведами считается наиболее плодотворным (Мартен 1959: 187).
Здесь Эйзенштейн-теоретик с его любовью к старой своей монтажной терминологии может помешать увидеть ранние прозрения Эйзенштейна-кинорежиссера, по существу в мексиканском фильме приблизившегося к той стилистике, которую позднее использует Орсон Уэллес и будет анализировать Андре Вазен, увидевший в глубинной композиции замену прежнему монтажу. Но в это время Эйзенштейн термин «монтаж» уже использует в значительно более широком (не узко техническом) смысле.
У Эйзенштейна (в частности, в «¡Que viva Mexico!») глубинная композиция была способом разрушения привычной перспективы, объясняемым ценностными иерархическими соотношениями, благодаря которым в пределах одного кадра одинакового размера становились профиль индеянки и пирамида из Чичен Итцы. Дальнейшее развитие эти эксперименты должны были получить в «Бежином лугу», где Эйзенштейн предполагал снять по принципу «транспаранта» Степку на фоне экрана, где было уже крупное изображение отца. Отец оказался бы большим по размеру, чем сын (предполагалось, что их будут снимать разными объективами и в разной величине), хотя в кадре сын должен быть ближе к зрителю, чем отец. Такая иерархическая композиция, где размер предмета определяется не расстоянием между ним и зрителем, а психологическими факторами, близка к принципам композиции икон, народных лубочных картин и картин некоторых художников (например, Пиросманишвили), продолжающих эту традицию. Несоблюдение обычной перспективы очень характерно для многих рисунков Эйзенштейна, например «High Life», «Эстрадная певица» (РЭ, стр. 110–111).
В 30-е годы Эйзенштейн много занимался проблемой перспективы, приходя в статье «За кадром» (1929 г.) к выводу, что «представление предмета в действительно (безотносительно) ему свойственных пропорциях есть, конечно, лишь дань ортодоксальной формальной логике, подчиненности нерушимому порядку вещей. И в живопись, и скульптуру периодически оно неизменно возвращается в периоды установления абсолютизма, сменяя экспрессивность архаической диспропорции в регулярную “табель о рангах” казенно устанавливаемой гармонии. Позитивистский реализм отнюдь не правильная форма перцепции. Просто – функция определенной формы социального уклада, после государственного единовластия насаждающего государственное единомыслие. Идеологическое униформирование, вырастающее образно в шеренгах униформ гвардейских лейбполков...» (т. 2; 288). Органичность диспропорционального изображения явлений в той же статье и в курсах лекций Эйзенштейн показывал на примере глубинной композиции детского рисунка на тему «топить печку» (см. т. 2; 288 и т. 4; 554).
В недавно напечатанной работе 20-х годов об обратной перспективе, близкой к излагаемым мыслям Эйзенштейна, как общим эстетическим направлением, так и отдельными конкретными наблюдениями (например, интерпретацией обратной перспективы в связи с духовными задачами художника, близкой к эйзенштейновскому пониманию аксонометрической перспективы у китайских художников, см. т. 3; 279; мыслью о роли театральных декораций в формировании перспективы, чем много занимался Эйзенштейн, т. 3; 466–467), Флоренский также подчеркивал, что все детские рисунки характеризуются нарушением обычной перспективы (Флоренский 1967; 391, ср. Жегин 1970, Франкастель 1948, 1951, 1952). В автобиографической заметке «История крупного плана», совпадающей по названию с большим трактатом Эйзенштейна, Эйзенштейн свое пристрастие к крупному плану выводит из детских впечатлений, позднее поддержанных сходными эффектами японского искусства, развитыми Дега и Тулуз-Лотреком, которых он называл «живописными предтечами» глубинной композиции (т. 1; 502–504; т. 4; 443).
Осмысление живописных достижений Дега и Тулуз-Лотрека через глубинную композицию в кино позволило Эйзенштейну увидеть те их черты, которые четко сформулированы в семиотических работах последних лет. Выдающийся искусствовед М. Шапиро в докладе на симпозиуме по семиотике в Варшаве в 1966 году отмечал, что у Дега и Тулуз-Лотрека рамка становится конституирующим фактором в построении образа благодаря тому, что она обрезает предметы, находящиеся впереди, так, что они кажутся расположенными близко к наблюдателю. Эта глубинная композиция, согласно Шапиро, является поздним достижением, завершающим постепенное возникновение рамки в изобразительном искусстве (Шапиро 1972). В данном случае история искусства говорит в пользу того, чтобы рассматривать этот кинематографический прием – глубинную композицию кадра (в кино завоевавшую широкое признание лишь в последние три десятилетия его истории) как завершение длинной эволюционной цепочки (в духе мысли Эйзенштейна о кино как высшем этапе развития живописи). Шапиро обращает внимание на то, что у Дега и Тулуз-Лотрека рамка кажется пересекающей видимое поле, которое простирается по обе стороны от нее (уже за пределами холста).
Эти проблемы, искусствоведами поставленные лишь в самые последние годы, Эйзенштейн изучал в своих трактатах и записях, которые он вел до самой смерти. В наиболее отчетливой форме анализ ряда картин Дега (композиций с моющимися женщинами) дан Эйзенштейном в цикле заметок под общим названием «Degas» (GP), сделанных 7–12 января 1948 года (за месяц до смерти Эйзенштейна) – почти одновременно с серией рисунков, в которых отчетливо видно по-новому преломленное воспоминание о японской традиции крупного плана в живописи. В связанных с этим циклом записях по-немецки, сделанных в те же дни, Эйзенштейн (возвращаясь к мыслям о контррельефе) выстраивает последовательность различных видов «замкнутого единства» («geschlossene Einheit»): скульптуры, охватывающего пространства («des einschließenden Raumes») в контррельефе и архитектуре, «первого абстрагирования в замкнутом линейном обведении кругом» («erste Abstragierung in geschlossene lineare Umzirkelung»).
При этом – в духе цитированного доклада Шапиро – он выделяет роль «всего, имеющего рамку («alles Rahmenhafte»); четырехугольную рамку он понимает как развитие круга, описывающего изображение, сравнивая эту эволюцию с аналогичным развитием, обусловленным техникой начертания, в китайском письме. Китайскую и японскую картину без рамки – фигуру на чистом фоне («Figur in freien Felde») – Эйзенштейн изучает с точки зрения внутренней построенности, взаимосвязанности («innere Zusammenhalten») целого, которое держится несмотря на отсутствие рамки. Правильно построенное пластическое явление («der regelrecht komponierte plastische Ereigni ß», по Эйзенштейну, всегда включает внутреннюю взаимосвязь, существенную как для пластически необрамленных («Un-ein-gerahmten») элементов, так и при наличии рамки.
Переходя на столь характерную для самых существенных мест его записей для себя смесь разных языков, точно соответствующую стилю Стендаля, столь его занимавшего, Эйзенштейн записывает, что до предела (nec plus ultra) рамочный прием в переплетении со внутренней слаженностью выступает в «образе типа обреза» (предшествующем кинематографическому] кадру), например, у Дега, где охватывающая рамка порождает 3/4 знания» (in «Ausschnitt Bild Typus» [vor cadre cinematogr]. – p. ex Degas, wo der umklammernde Rahmen 3/4 Wissens erzeugt» – GP).
Цикл записей «Degas-Gogol», начинается утверждением двойственности композиции кадра в кино, в котором осуществляется одновременно заполнение четырехугольной рамки и обрез из происходящего перед камерой («Einfüllung des Rahmen und Ausschnitt aus dem Geschehniß vor der Kamera»).
Эта двойственность для Эйзенштейна аналогична разграничению линий Рильке и Родена. Эйзенштейн противопоставляет два пути в искусстве: «линию Родена», направленную на выявление объема (внешней – выпуклой – конвексной стороны), и «линию Рильке» (имелось в виду высказывание Рильке, где сформулирован подход к искусству, направленный на выявление пространственности: внутренней – вогнутой – конкавной стороны) (АА, Рильке II). Для картин Дега особенно существенна «охватывающая рамка», продолжает Эйзенштейн по-русски. У Дега она становится «принципом приема», который Эйзенштейн разбирает на примере самой любимой своей картины из цикла, изображающего моющихся женщин, где Эйзенштейн обнаруживает «многократность Umgrenzung» (ограничения рамкой) или «многорамность: при этом тройная (четверная) многорамность во всех трех случаях разного качества. От предметного обрамления (тазом), через смешанное (рама + деталь внутри картины: крышка умывальника или скамейки с кувшинами) к чисто отвлеченному («формальному»), т.е. обрезу – обрамлению рамкой картинки» (G P, «Degas», 7 I 1948).
Эйзенштейн отмечает, что в этой картине Дега «изыск очертаний еще в том, что полный круг (таза) дописывается линией спины... Второе обрамление строго говоря строится наверху тоже не рамкой, а линией стыка пола и куска стены..., т.е. дает графическое очертание из стыка двух пространственно разобщенных плоскостных построений: линии края умывальника – скамейки и линии стыка пола со стеной!» (там же). Тройное обрамление в этой картине Дега, где рамки последовательно создаются, во-первых, тазом, в котором моется женщина, и частью ее спины, во-вторых; краем умывальника – скамейки и линией стыка пола и стены, в-третьих, самой рамкой картины, Эйзенштейн сравнивает с «системой сбитых концентрических кругов» в «Балерине» («Арабеске») Дега, где «смещение концентрических кругов решает проблему «втягивания» неизображенного зрительного зала в картину». По Эйзенштейну, в этой картине Дега «есть взаимодействие втягивающей стрелки и системы нормальных концентрических кругов» как лассо, втягивающего «закадрового» зрителя. Подобное «закадровое» вовлечение для Дега «особенно характерно в виду его внимания к показу части вместо целого».
В картине Дега, где купальщица выходит из ванны, Эйзенштейн устанавливает сходное наличие серии концентрических «оболочек», охватывающих купальщицу последовательно «А – носком туфли, В – ванной с водой, С – мягкой простыней, Д – креслом, Е – “кадром” (вырезом рамки), F – комнатой (и пространством картины» (GP, «Дега»). Эйзенштейн подчеркивает кажущееся противоречие в предложенном им анализе этой картины: «вырез картины есть не последняя точка: ... пространство комнаты попадает на одно звено дальше обреза рамки!» Объясняя подобные композиции Дега схемой спирали, Эйзенштейн утверждает, что здесь «идеально соблюдена постепенность размеров разворачивающейся спирали... А “вырез” и есть “вырез”, ибо он масштабно меньше, чем общий захват пространства помещения, которое шире его, “обнимает” его, как последующие изгиб[ы] спирали обнимают предыдущие!»
В последних записях из той же серии Эйзенштейн указывает, что к циклу «Baigneuses» («Купальщиц») «примыкают по духу и стилю... те вещи Дега, которые считаются картинками к «Мэзон Теллье» Мопассана. 22 из них помещены в издании Воллара в качестве иллюстраций к разговорам куртизанок Лукиана» (GP, «Дега», 10 I. 1948). Эйзенштейн отмечает «абсолютную безвоздушность всех вещей» этого последнего цикла, роднящего его с «Купальщицами», где он также подчеркивает «резко выраженную безвоздушностъ их, отсутствие чистых поверхностей стен, что, напр[имер] в балетных вещах как раз имеет место. Масса воздуха. Громадные участки свободного пола. Большие прямоугольники гладких стен!» (там же, 7 I. 1948).
В серии иллюстраций к Мопассану (или Лукиану) Эйзенштейн находит, что «наиболее интересное... в еще большей сгущенности атмосферы замкнутого удушья в этих глухих интерьерах... здесь среда... особенно пол “растворяется”» (там же, 10 I.1948). От структурного анализа пространственной глубинной композиции и обрамляющего «выреза» у Дега Эйзенштейн переходит, таким образом, к исследованию функции этой композиции (для которой он предлагает и психологическое объяснение).
Точно такие же выводы могут быть сделаны по отношению к некоторым случаям применения кинематографической глубинной композиции, так часто используемой именно в интерьерах с настроением «удушья», как в «Прошлым летом в Мариенбаде» и в «Правилах игры» Ренуара. У Орсена Уэллеса использование глубинной композиции для передачи безвыходности еще в фильмах 40-х годов связывалось со специфическим использованием таких способов ограничения пространства, как потолки; эта черта композиции кадра, обычно рассекаемого горизонтально, сохраняется и в таких поздних фильмах Уэллеса, как «Фальстаф» (где рассечение кадра и помещения на две части служит для противопоставления действующих лиц, как в эпизоде, где друзья следят сверху за любовной сценой Фальстафа). Здесь уместно напомнить и о горизонтальном рассечении кадра у Эйзенштейна, начиная с таких его ранних фильмов, как «Стачка» (в эпизоде расправы в рабочем квартале).
Связь глубинной композиции кадра со структурой декораций в своих собственных фильмах Эйзенштейн раскрывал на примере «Ивана Грозного». Эйзенштейн противопоставляет свои принципы построения декораций (в частности, в «Грозном») обычным декорациям, где «пятно фона» отодвигается назад первыми планами, размещенными «кулисно», т.е. в согласии с традиционной театральной перспективой (т. 3; 185).
Для своего курса композиции кадра Эйзенштейн внимательно подбирал примеры из разных эпох истории изобразительного искусства. Судя по сохранившимся записям разных лет, Эйзенштейн исследовал постепенное становление живописной композиции, из которой вырастает глубинная композиция в кино. Намеки на нее он находит не только у Эль Греко, детально им изученного с этой точки зрения в особой работе, но и у Тинторетто, натуралистичность перспективы которого Флоренский с этой именно точки зрения резко противопоставлял изображению двух разных пространств в одной картине у Эль Греко.
Эйзенштейн, интерпретируя некоторые композиции Тинторетто как построения «в манере Дега» (a la Degas), писал, как будто возражая Флоренскому (чья статья ему оставалась неизвестной): «К Тинторетто можно отнестись “мягче” и в “Перенесении тела св. Марка” считать за единый вынесенный крупный план a la Degas всю группу несущих. Если сощуриться, то роль этого массива именно такова. Ей придан объем, значение и соответствующий вынос, на который еще не хватает решительности запрокинутой почти “грековской” фигурке с занавесом слева. Если это читать так, что здесь выброс первого плана даже еще решительнее, чем в Св. Маврикии Эль Греко (где центральную [фигуру] группы – не главного действия – а предварительного (домученического) надо читать именно в таком понимании)» (запись к «GP»).
Эйзенштейн называет не главной группой вынесенных вперед героев главного разговора, где Маврикий отказывается выполнить приказ (в центре и справа на картине Эль Греко). Последовательно прослеживая развитие этой композиции, Эйзенштейн замечает, что Моро младший (XVIII в.) знает уже ее, но без вынесения на первый план детали (части, «pars»). В качестве примера он приводит картину Моро «В ложе», где «в глубине капитель в виде головы барана и намек на другие ложи. Баран дает ощущение зала и отсветы сцены на нем – ощущение подмостков. В других случаях колесо кареты частью в кадре etc. Но в основном – это в глубинных кадрах – т.е. не более, как значительно более тонкое и классное выполнение того же, что у Дюрера или Джорджоне появляется впервые. Правда, второй план (pars) здесь уже работает из-за toto (передний план), не показывая его» (GP, 27 XI. 1942).
Как видно из приведенных примеров, Эйзенштейн в этих записях по истории живописной композиции постоянно пользуется кинематографической терминологией, но уже свободной от монтажных преувеличений конца 20-х годов (которые долго сохраняются у него там, где он говорит о кино, а не о живописи). Поэтому для современной науки о кино эти его мысли о кинематографической истории живописи могут представить особый интерес не только для сопоставления с современными взглядами на глубинную композицию кадра, но и для ретроспективной оценки его собственных кинематографических открытий (особенно сделанных в мексиканском фильме).
Весь этот круг мыслей Эйзенштейна о «спиральной» или «концентрической» глубинной композиции, где последовательно используется несколько «обрезов», обычно излагается лишь на основе ставшего уже хрестоматийным разбора серовского портрета Ермоловой (т. 2; 376–386). Этот разбор самим Эйзенштейном строился в монтажной терминологии, повторяемой и в новейших пересказах его разбора, но не она здесь была существенной. В цитированных заметках о Дега, сделанных перед самой смертью, Эйзенштейн находил в портрете Ермоловой «тот же самый прием в виде концентрических прямоугольников» (GP, «Degas», 7 I.1948), который у Дега дан в концентрических кругах, втягивающих зрителя. Задачи обоих художников различны, но самую формулу Эйзенштейн считал одинаковой. Опережение выводов современного искусствоведения в отношении Дега и Тулуз-Лотрека (и всей проблемы рамки в изобразительном искусстве) оказалось возможным именно потому, что Эйзенштейн сам решил сходные задачи в своих фильмах начала 30-х годов, в этом намного опередив других кинорежиссеров. Представляется, что понять эти его находки в кино легче, сопоставив их с его же открытиями в истории изобразительного искусства.
В первом из фильмов Эйзенштейна «Стачке» – по его собственным словам, его «очень увлекала двойная экспозиция». Причем двойная экспозиция предметов, резко различных по масштабности, «в чем сам он находил отклики пространственной многопланности кубизма» (т. 2; 455). В «Стачке» двойную экспозицию «абстрагированной» гармошки (рис. 9), доведенной «до набора сходящихся и расходящихся светлых полос» (т. 2; 456), сквозь которые проступал пейзаж с идущей группой рабочих, можно прямо сопоставить с теми картинами Пикассо, Брака, Хуана Гриса, где композиция включает музыкальные инструменты, разложенные на плоскости.
Но особый интерес представляют не просто черты сходства с кубизмом, имевшие место и в других экспериментальных фильмах 20-х годов (в том числе в «Механическом балете» Леже). Интересно особое развитие, которое получает пространственная многоплановость в этом эпизоде «Стачки» благодаря введению специфического для кинематографа временного измерения. Сцена подчинялась музыкальному ритму, более того – его воспроизводила средствами немого кино (т. 2; 196 и 456). В этом сложном пространственно-временном построении Эйзенштейн, рассматривающий свои фильмы как пробы будущей теории искусства, позднее увидит не только предвестие передачи звука в кино, но и попытку передачи образа (сути явления), отличного от изображения как такового.
Проблема структуры кадра была одной из тех основных художественных задач, которые Эйзенштейн напряженно решал в ряде своих картин. О фильме «Glasshouse» («Стеклянный дом») Эйзенштейн в дневнике весны 1928 г. запишет: «Glasshouse, где выворачивается представление (обычное) о кадре» (ДЭ, т. IV, стр. 114, § 36). О снимавшемся им в последующие годы мексиканском фильме Эйзенштейн позднее скажет: «Стиль композиции кадра был одной из основных проблем формы нашего мексиканского фильма» (т. 4; 637). Но по существу эта проблема ставилась Эйзенштейном начиная с самых первых опытов в кино, включая «Дневник Глумова», где пространственная сложность непосредственно продолжает структуру сцены эйзенштейновского «Мудреца», но средствами, в театре недостижимыми.
Примером задачи, неразрешимой для театра, Флоренский считал инсценировку «Искушения святого Антония» Флобера, где вся суть состоит, по Флоренскому, в «постепенном преобразовании пространства, из замкнутого, весьма емкого, насыщенного и цельного – в ширящееся, пустеющее, безразличное, – в постепенном разъедании бытия пустотой, хаосом и смертью. Короче говоря, это есть художественно наглядный образ нового времени. Чтобы показать на сцене такое превращение, надо было бы постепенно уменьшать величину актера, играющего Антония, а равно размеры всей обстановки... Покуда Антоний будет виден как соизмеримый с окружающим пространством, он будет оставаться мерою его, и его направлений, и его масштабов; а следовательно, и получится евклидово-кантово-астрономическое пространство, т.е. постановка пьесы не удается» (АИ, § 24). Именно по этому (невозможному, согласно Флоренскому, в театре) пути пошел 40 лет спустя Феллини в своей гротескной современной вариации на эту тему – в эпизоде «Искушения доктора Антонио» из фильма «Боккаччо 70». Пластическое решение темы достигается не абсолютным, а относительным уменьшением размеров ханжи-доктора Антонио в сопоставлении с соблазнившим его гигантским изображением женщины на плакате (в особенности в сценах бреда, где ожившая гигантская фигура женщины преследует на улицах Антонио, становящегося в сопоставлении с ней лилипутом). Этот образ как нельзя более убедительно доказывает, что приемы, казавшиеся невозможными или искусственными в театре 20-х годов, в кино (уже в то время, начиная с немецкого экспрессионизма, и в последующие годы) становятся вполне действенными способами организации пространства.
По существу те же пластические задачи хотел решать Эйзенштейн и в 3-й серии «Ивана Грозного», где, судя по рисункам, кинематографически выполнялась та задача представления призраков, которую на театре признавал технически (а потому и психологически) невозможной П. А. Флоренский в цитированной главе своего трактата. Существенными для замысла Эйзенштейна были при этом пропорции призраков и человека (Курбского), который их видит, так же как эта задача пластически оказывается главной в приведенном примере «Искушения святого Антония». Для своего адекватного кинематографического представления некоторые из рисунков Эйзенштейна к 3-й серии «Ивана Грозного» потребовали бы реализации его старых мыслей о вертикальном экране. В тех же рисунках, где Эйзенштейн пробовал соразмерить свой замысел с реальной формой экрана, ему удалось достичь деформации, особенно ярко воплощающей идею сцены.
Близкие психологические и пластические задачи Эйзенштейн решил еще в кадрах сна Марфы в «Старом и новом», где гигантский образ быка встает в небе над стадом (см. рис. 15). Структурно наибольшее сходство можно обнаружить между этим кадром и такими живописными композициями, как женщины, парящие в небе (например, над Витебском) на многих картинах Шагала. Если Эйзенштейн-кинорежиссер сближается с Шагалом в этом раннем произведении, то Эйзенштейн-теоретик обратится к нему много позднее, делая запись: «К “летающим фигурам” не забыть... Шагала» (ЦГАЛИ, ф. 1923, 1 оп., ед. хр. 1299, л. 29 и 351).
Эйзенштейн работал в это время над теорией круговой и «ротационной» композиции, в качестве примера которой приводил «Страшный суд» Микеланджело, где «сочетание» фигур изобразительно представлено парящими в воздухе» (GP, очерк «Наконец приобщился...» 27 X. 1946 г.) Сам он за 20 лет до того создал такую же «изобразительно парящую фигуру» (там же) быка в эпизоде сна Марфы.
Сходство этого кадра с быком в небе и «летающих фигур» у Шагала относится не только к размещению фигур на верху и внизу картины (или кадра) и к их пропорциям, но и к возможной психологической интерпретации символов (мужского начала – у Эйзенштейна, символа женственности – у Шагала). G психологическом подтексте «Старого и нового» много раз высказывался сам Эйзенштейн. В одной из поздних записей Эйзенштейна по поводу мифа о совокуплении Неба с Землей у разных народов он говорит, что воссоединение их происходит благодаря ниспадающему с неба дождю, сравнивая это с быком в «Старом и новом»: «ср. у меня в “Старом и новом” – в небе бык, изливающийся потоками молока – в сне Марфы» (GP, «Потоп»).
Эта интерпретация родилась не в ходе «постанализа», а была непосредственным воспоминанием о рождении образа. В дневнике времени работы над фильмом Эйзенштейн записывал другой вариант близкого образа: «в облаках сосцы, из сосцов дождь» (ДЭ, т. V в. стр. 128). В фильме этот сон подготовлен кадрами, где наяву сняты рядом беременная женщина и бычок (элементы будущего сна, соединяемые еще только пространственно-метонимически, как сказал бы сам Эйзенштейн, а не метафорой, как во сне); полупатетическое (по образному – цветовому выражению), полупародийное разрешение эта же тема находит в эпизоде свадьбы быка в том же фильме.
Психологически тождествен образу быка в небе у Эйзенштейна (хотя и обратен по пропорциям, – уменьшен, а не предельно увеличен) козел, парящий в облаках над беременной женщиной в картине Шагала «Беременная» (1913 г.) Шагал решительно выступал против кубизма как течения, основывающего искусство на науке, и еще в споре с Аполлинером отстаивал искусство выражения души. Но пространственные поиски художников 10-х годов сказались на его полотнах так же, как и на картинах других его современников, например, Пикассо, чью «Плывущую женщину», «освобожденную от силы тяжести» (GP), разбирал с этой точки зрения Эйзенштейн. Это новое отношение к организации художественного пространства, по Эйзенштейну, развивающее «ротационный» принцип, который есть уже у Микеланджело, сказалось и в таких эйзенштейновских экспериментах, как сон в «Старом и Новом».
О целесообразности сравнения этого эпизода фильма с произведениями изобразительного искусства свидетельствует уже то, что, судя по дневниковой записи, Эйзенштейн думал сперва (в 1928 г. летом) решить этот сон рисунками – дав эту часть фильма «рисованной мультипликацией – белым по черному с досъемкой в нее натуральных элементов» (ДЭ, т. Va, № 84, стр. 83, т. V b, § 86, стр. 102–105); сохранившиеся в дневнике наброски к этому эпизоду показывают, насколько в это время ему были близки искания Диснея (позднее в 40-е годы он много им занимается теоретически, посвятив ему целый цикл записей, которые должны были сложиться в особый трактат). Но при этом, в отличие от Диснея, Эйзенштейну хотелось добиться синтеза рисованных частей и снятых. Позднее такой синтез, хотя и в другой форме, будет достигнут в декорациях к «Грозному» (в частности, в декорациях с рисованным изображением на потолке зала). В этом смысле они как бы образуют звено между экспериментами последних лет и опытами немецкого экспрессионизма, от которых Эйзенштейн, хорошо их зная, отталкивался, отрицая их, в ранних фильмах.
В рисунке Эйзенштейна «Прием послов (роспись потолка)» (30 III. 1942 г.) к эпизоду «Детство Ивана» и в соответствующих кадрах фильма по существу решается задача той круговой или ротационной композиции, которой Эйзенштейн занимается в те годы в своих теоретических работах. Роспись потолка представляет огромную «изобразительно парящую фигуру», при этом перевернутую головой вниз. В упомянутой записи о посещении Дрезденской галереи Эйзенштейн как бы дает комментарий к такой композиции кадра, отвечая на вопрос, «почему можно переворачивать Тициана вверх ногами».
Эйзенштейн писал о круговой композиции: «На определенной стадии вдохновенности – а мастерство состоит в том, чтобы наиболее полно закреплять в видимых образах видения вдохновенности – зрительный образ достигает в разрезе композиции – всесторонней (круговой) устойчивости. Буквальной “внутренней” гармонии – через создание “своего” собственного нового самостоятельного “мира”, подобно планетам и земле имеющего свой внутренний центр кругового притязания для всех слагающих его частей. Равно гармоничный и в себе всесторонне законченный». (GP, 27.Х.1946). Развивая эти мысли год спустя, он намеревался свести воедино заметки о Тинторетто, «композиционно (иногда) столь завершенном, что картину можно “крутить” – во всех положениях “пятно” равно композиционно уравновешенно» (GP, «Круг-ротация», 12 Х.1947). Такое же «не только круговое, но шаровидное» построение Эйзенштейн находит у Караваджо. Через «овалы и круги портретов» Эйзенштейн переходит к «уже чисто ротационно задуманным вещам» Пикассо, еще предметным, и к вовсе абстрагированному решению той же задачи у Леже.
В соответствии с общим стилем «Грозного» перевернутая фигура на росписи потолка не образует завершенного построения, она смещена относительно центра кадра, занимает большую его часть. Такая же намеренная диспропорция особенно наглядно выступает и в аналогичном противопоставлении Грозного, распростертого на полу, и фрески на стене в сцене «Исповеди» из 3-й серии. По существу здесь решается пластическая задача, близкая к той, о которой речь шла выше по поводу призрака Грозного перед Курбским в той же серии. В этом эпизоде фреска входит в сюжетное строение кадра: Грозный обращается к фреске, кается перед ней, приходит в бешенство, к ней обращаясь. Поэтому кажется правильным предположение, по которому фильм, задуманный в рисунках и постепенно из них выраставший, развивался в сторону все большего включения графического образа в композицию кадра. В какой-то мере к упомянутым эпизодам можно было бы отнести название «рисованного» или «частично рисованного» фильма, что объясняется, в частности, сознательным отделением от натуралистической линии в кино.
Опосредованную связь замысла, согласно которому в рисунке появляется «парящая фигура», с позднейшим кинематографическим воплощением, можно проследить и на рисунках к «Пещному действу», где над тремя отроками парит спасающий их ангел (как и на новгородской иконе, послужившей, видимо, прототипом для рисунков Эйзенштейна). При окончательной кинематографической реализации этого эпизода, однако, кадры с ангелом были устранены и оставлена только симметричная по отношению к ангелу фигура митрополита Филиппа.
| Рис.16. Федор Басманов с маской. Рисунок Эйзенштейна к фильму «Иван Грозный»  |
В последних фильмах Эйзенштейна каждый кадр обычно реализует замысел, уже достаточно четко разработанный и воплощенный в рисунке, что вызывает естественные возражения сторонников кино, ориентированного на непосредственную фиксацию действительности. При реализации с помощью конкретных актеров «проекция» такого замысла могла меняться в зависимости от особенностей внешности актера. Так, замысел кадра, в котором Федька сдвигает маску, отраженный в рисунке (рис. 16), при его воплощении меняется: округлые очертания лица актера, игравшего Федьку, заставляют отказаться от замысла одного из тех удлиненных лиц с ртом, сдвинутым к низу лица, которые характерны для многих этюдов юношей у Эйзенштейна (ср., например, РЭ I рис. 63, 77, 92, 94, 97, 120; II, рис. 6, 11, 17, 22). Соответственно и маска из треугольной, суживающейся книзу, стала круглой; треугольное навершие маски изменилось в многоугольную звезду, соотнесенную не с формой лица маски у Федьки и не с чубом на его голове (как в первоначальном замысле), а с растопыренными пальцами на поднятой руке опричника в правой части кадра; число зубцов на маске соотнесено теперь с числом пальцев руки. Мотив округлых очертаний маски и лица Федьки проектируется в правой части кадра в глубину – на круглые узоры на потолке. Из этого видно, что геометризованная симметричность рисунка, воплощавшего первоначальный замысел, сменялась более богатой, но еще более детерминированной симметрией всех основных компонентов кадра.
6.
Будущее звукового кино он видел в продолжении такого именно переплетения, благодаря которому, например, в спектакле «Цюсингура» («47 верных») звучащая флейта подчеркивает драматический момент обнаружения хижины – места укрытия злодея и заставляет как бы «слышать» пейзаж (т. 5; 307; т. 4; 233). В «Кабуки» Эйзенштейна привлекают не только такие случаи усиления воздействия зрительного образа благодаря звуковому (и обратно), но и образный параллелизм звукозрительных сочетаний, не становящихся никогда натуралистическим сопровождением изображения звуком. То сочетание жеста с движением звука, которое Эйзенштейн впоследствии разбирает в «Вертикальном монтаже» на примере сцены перед Ледовым побоищем в «Невском», он описывает за 10 лет до этого, говоря об актере Кабуки (т. 5; 307). Это восприятие японского театра Эйзенштейном близко к тому, как его учитель Мейерхольд еще в 1909 г. представлял себе синтетический театр (Мейерхольд 1968: 145).
О японском театре Эйзенштейн снова вспоминает в 30-е годы, когда он выступает (в частности, в своем докладе в Сорбонне, т. 1: 553–554) с программой развития звукового фильма, противопоставляя его говорящему (как позднее цветовой фильм противопоставит цветному). Под звуковым фильмом он имел в виду такой, где «звук используется не в натуралистическом плане» (АА, «О звуке», запись П.М. Аташевой). В качестве примера он приводит «великолепные фильмы» Диснея о Мики-Маусе, где «изящное движение ногой мышонка сопровождается соответствующей музыкальной фразой, котор[ая] является звуковым слышимым выражением механического действия» (там же, ср. т. 1: 553–554). Эти фильмы он сопоставляет с классической японской драмой, в которой харакири сопровождается исполняемой за сценой мелодией.
По существу вся работа с Прокофьевым над музыкальными фильмами была развитием этой программы звукового ненатуралистического кино, которое ориентировалось на опыт такого синтетического театра, как старый японский и китайский.
Заслугой Мэй Лань-фана перед китайским театром Эйзенштейн считал то, что тот воскресил его синтетическую природу, соединив культуру зрительной стороны театра, расцветшую на юге страны, с вокальным началом, которое в ущерб пластическому, закрепилось на севере (т. 5: 314).
Одним из главных достижений по пути к такому звукозрительному «контрапункту», где звуковой образ перестает быть избыточным дополнением зрительного, явился закадровый голос в итальянском неореалистическом кино – в тех случаях, когда он переставал быть комментарием к изображению. О введении «чтеца» в кино, который мог бы заменить «диалог» разных кадров (т.е. в какой-то степени мог бы передать то, что раньше делалось только средствами монтажа), Эйзенштейн еще в 1928 г. писал по поводу «Кабуки». В статье «Гордость», написанной 12 лет спустя. Эйзенштейн в той же связи вспоминает не только о чтеце в Кабуки, но и о чтеце в театре Поля Фора (т. 5: 91–92). Сравнивая такой голос чтеца с титром в немом кино, Эйзенштейн замечал, что драматургические возможности этого голоса в звуковом кино еще почти не использованы. Эйзенштейн обсуждал эти возможности (в какой-то степени осуществленные позднее в итальянском неореализме, одним из предтеч которого был Пиранделло в лучших своих прозаических вещах) с Пиранделло во время их встречи в 1929 г. (т. 5: 93), т.е. через год после того, как появляется первая запись об этих будущих путях кино в дневнике Эйзенштейна.
В собственной режиссерской практике Эйзенштейна попытка осуществления такого голоса чтеца, вводящего зрителя и слушателя в фильм, была сделана в увертюре ко второй серии «Грозного»; развить этот принцип, сделав его основным для всего фильма, Эйзенштейн собирался в последнем из задуманных им фильмов «Москва 800». По словам Эйзенштейна,«звукозрительное кино, как особая область выразительности в искусстве, начинается с того момента, когда скрип сапога был отделен от изображения скрипучего сапога и приставлен не к сапогу, а к …человеческому лицу, которое в тревоге прислушивается к скрипу» (т. 3: 585). Воплощением того понимания звукозрительного кино, о котором Эйзенштейн говорил на протяжении 20 лет, можно считать тот кадр в «Нюрнбергском процессе» Крамера, где изображение пустого стадиона, когда-то бывшего местом нацистских сборищ, рождает звучащий истерический голос Гитлера. Поэтому в глубочайшем противоречии с эстетикой звукозрительного контрапункта Эйзенштейна находится озвученный вариант «Октября», где последовательно шум аплодисментов приставляется к изображению хлопающих ладоней, музыка танца к изображению танцующих и т.д. Этого тем более нельзя было делать, что, как это подробно разъяснял сам Эйзенштейн, структура фильма и монтаж многих эпизодов определялись желанием передать средствами немого кино звук (т. 2: 456–457).
Эйзенштейна, прошедшего через эту немую музыку, очень занимали предзвуковые образы, как бы рождавшиеся внутри изобразительных искусств. Так, Китс в оде к греческой вазе или Мандельштам в стихах о флейтах, которые «свищут, клевещут и злятся» на ободе греческой вазы, стремились прежде всего услышать образ, представленный зримым изображением. Эйзенштейн подробно разбирает не такие буквально передающие звук зрительные образы, а пластическую музыку (в частности, древнекитайских пейзажей и живописи Чурлёниса), которую он сравнивает со своими пейзажными построениями в «Потемкине». Речь шла не столько о тяге к изображению звука, что Эйзенштейну при его нелюбви к изобразительности было чуждо, сколько к передаче его функции – ритма как образа.
Поэтому (начиная с первых же своих записей о звуковом кино) Эйзенштейн говорит о роли звука как эквивалента монтажа. В немом кино только монтаж должен был передавать ритм, что требовало иногда монтирования очень коротких кусков пленки, а это могло прервать рассказ, помешать восприятию повествования. Выход из этого противоречия, по Эйзенштейну, заключался именно в звукозрительном контрапункте, при котором звук может взять на себя функции передачи ритма, освобождая тем самым режиссера от необходимости короткого монтажа там, где он мешал бы повествованию (т. 2, 453), поэтому вопрос композиции кадра Эйзенштейну представляется для звукового кино особенно важным. Эти мысли о замене звуковым образом ритмической функции монтажа коротких кусков пленки, возрастании длительности отдельных планов и соответственно вырастающей роли композиции кадра, сформулированные Эйзенштейном еще в 1937 г., по существу предвещали те принципы кинематографического стиля, которые обычно связываются с именами теоретиков кино 50-х и 60-х годов. Но следует оговориться, что чаще всего Эйзенштейн продолжал пользоваться монтажной терминологией, введя для обозначения звукозрительных сочетаний термин «вертикальный монтаж». Эта терминология и уход Эйзенштейна-режиссера в его исторических фильмах в решение задач того, что он сам назовет «романтическим кино», долго мешали увидеть реальные связи ранних мыслей Эйзенштейна-теоретика о звуковом кино с основной линией эволюции современного кино и современных теорий кино. То, как Эйзенштейну перед началом работы над «Бежином лугом» мыслилось сочетание звуковых и зрительных образов, лучше всего видно по его заметкам к фильму «Условия человеческого существования». Сценарий для фильма по одноименному роману был написан А. Мальро. Сохранились режиссерские записи Эйзенштейна, сделанные в конце декабря 1934 г. и начале января 1935 г., когда он начал напряженно работать над фильмом. Среди разработанных эпизодов особенно существенна финальная сцена смерти одного из героев – коммуниста Катова, сожженного в паровозной топке чанкайшистами. Расправы Катов ждет вместе с китайскими коммунистами, двум из которых он отдает свою долю яда, сохраненного им на случай пыток. Эту сцену в романе Мальро Хемингуэй называл одной из лучших в литературе XX века (Хемингуэй 1942: XXX, 1966: 281).
Эйзенштейну представилось, что на основании этой сцены можно задумать «величайшую из когда-либо созданных фуг» («The greatest fuga ever made») (ЦГАЛИ, ф. 1923, on. 1, ед. хр. 363, л. 17). В этой фуге должны были сплетаться разные герои и группы героев романа и фильма – Катов и узники, изображенные Мальро в этой сцене, и отсутствующие в этом именно эпизоде романа «массы внутри Шанхая» и «войска, наступающие на Шанхай». У каждой из этих групп должны быть «своя музыкальная линия» («Each has its musical line», л. 17). Перечеркнув неудовлетворявший его конец сценария Мальро, Эйзенштейн написал на своем экземпляре, что вместо этого надо дать три параллельных действия этих групп, сплетающиеся в образе Катова. Перекликаясь с позднее данным анализом романов Мальро в терминах кинематографических планов и игры черно-белой светотенью (Фич 1964: 61–62), Эйзенштейн задумывал концовку фильма в набросках режиссерского сценария следующим образом.
После того, как Катов отдал товарищам свою долю яда, за ним приходит офицер; его уводят на пытки. В романе эта сцена описана так: «Фонарь отбрасывал тень Катова, теперь ставшую очень черной, на большие ночные окна; он грузно переступал с одной ноги на другую, раны мешали ему идти, по мере того, как его раскачивающийся шаг приближал его к фонарю, очертания его головы терялись на потолке. Вся темнота залы ожила и следила не отрываясь за каждым его шагом. Тишина стала такой, что пол откликался каждый раз, когда он тяжело становился на него ногой; все головы, то подымаясь, то опускаясь, следили за ритмом его ходьбы...». Конец этого «марша» Эйзенштейн записал подробно (поясняя его рисунками-схемами): «шаги Катова на замедление к дверям (спиной к другим, следящим за каждым его шагом). Катов останавливается. Поворот ног. Панорама вверх до лица. Глаза и 1) общий план: он один» (судя по рисунку, дан общий план темной залы, внутреннего двора школы, ставшего тюрьмой для двухсот коммунистов); «2) средний: он в дверях» (на рисунке силуэт Катова в дверях); «3) общий: в дверях, 4) тот же (2) средний: его уже нет! 5) общий план и изобразительный повтор схемы 1–2–3–4 в ритме свистка паровоза (Катов сожжен)» (л. 2, 41. 1935 г.).
Свисток в этой финальной сцене выступал дважды: Эйзенштейн намечает «показать непременно паровозы и сжигание (приготовление – переходящее в свист) раньше до казни Катова. Его же казнь лишь в звуке свистка» (л. 6). Изобразительно после смерти Катова в финале фильма (в отличие от романа) Эйзенштейн хотел показать наступление партизанских войск: «После свистка смерти Катова, сквозь общий ход наступления резко вступает ритм хромоты Катова (как продолжение его темы). Так же «грубо», как басы «Sanc-tus» (№ 20 мессы Баха) сквозь все остальное полифонии. И: хромота переходит постепенно в марш на обе ноги» (л. 8, 5 I.1935 г.).
Упоминание мессы любимого композитора Эйзенштейна Баха (по-видимому, Эйзенштейн имеет в виду мессу h-mol, b-minor, 4 «In spirito sanctum») существенно для понимания того, насколько реально в это время Эйзенштейн ориентировался в своих опытах создания звукозрительного контрапункта на опыт музыки. Ритм хромоты Катова для него становился ключом композиции всего финала фильма, определяя монтажную схему. Для уяснения принципов эйзенштейновского «контрапункта» важно и то, что смерть Катова он считает нужным дать только звуковым образом – свистком, но не изобразительно: изображением здесь уже вводится противоречащий звуку образ наступающих войск.
Как позднее в фильме Мунка «Эроика», музыкальная терминология в этих записях Эйзенштейна отвечала тому, что весь фильм был задуман в духе музыкальной композиции. Использование звука должно было лишь материально выявить скрытую музыкальность всего фильма, сказывавшуюся в его монтажной структуре.
В сценарии «Американской трагедии» эпизод, где Клайд и Роберта порознь едут на свое роковое свидание, решен как чисто музыкальное построение, использующее «конкретную музыку» движения поезда. Перемежаются две музыкальные темы – колеса поезда отбивают для Роберты ритм свадебного марша, а шум паровоза для Клайда воплощает лейтмотив «Убей-убей!» Нарастающее столкновение этих двух тем разрешается долгим пронзительным гудком паровоза, после чего поезд останавливается и Клайд из него выходит. Не исключено, что само по себе построение звукового образа на шуме (появляющееся только в этом – ключевом – месте сценария) для самого Эйзенштейна было продолжением того эксперимента, который был им начат, когда он заказывал композитору Майзелю музыку к «Броненосцу Потемкину».
Вспоминая о «музыке машин», которая должна была прозвучать по его замыслу при встрече с эскадрой, Эйзенштейн позднее говорил: «Для этого места я у композитора категорически потребовал отказа не только от привычной мелодичности и ставки на обнаженный ритмический стук ударных, но по существу, этим требованием заставил и музыку в этом решающем месте “переброситься” в “новое качество”: в шумовое построение» (т. 3, 67).
Так перебрасывается в шумовое построение (шум поезда) звуковой образ и в указанном месте сценария «Американской трагедии»; такова же роль свистков и гудков паровоза в финале «Условий человеческого существования». Подобное решение Эйзенштейн не считал универсальным: Майзеля он (присоединяясь к суждениям историков кино) упрекал в том, что атональную музыку, пригодную для этого именно эпизода «Потемкина», он (композитор) развил в прием, использованный им и в других фильмах (т. 2; 459–460).
Если в случаях, подобных «музыке машин» Майзеля для «Потемкина», основным организующим началом было изображение, монтажному строю которого подчинялась музыка, то в других эйзенштейновских экспериментах изображение могло подчиняться звуку. Но у Эйзенштейна этот прием всегда вспомогателен и нужен лишь как фон для разъединения звука и зрительного образа в следующих эпизодах.
Экспериментирование со звуком, задуманное, но не доведенное до конца в фильмах времени поездки за границу (которая основной целью ставила работу над звуковым фильмом), было продолжено в погибшем «Бежином луге», при реконструкции которого именно звукозрительный контрапункт восстановить не удается. Сравнивая ранние теоретические высказывания Эйзенштейна о звуковом фильме с его историческими фильмами, можно увидеть, как много из этих замыслов ему удалось осуществить вместе с Прокофьевым. Это касается как эстетики звукозрительного ненатуралистического кино в целом, так и отдельных деталей, вплоть до технических.
В частности, намеченные еще в высказываниях Эйзенштейна 30-х годов пути преобразования обычных звуков в фильме нашли развитие в том, как в музыке к «Александру Невскому» Прокофьев использовал деформацию звучности инструментов при их различном расположении перед микрофоном. Звукозрительные построения «Александра Невского», созданные в сотрудничестве с Прокофьевым, были опытом освоения «вертикального монтажа». Его принципы в ходе детального разбора 12 кадров этого фильма (сцена рассвета перед «Ледовым побоищем», рис. 17) были позднее изложены Эйзенштейном в статье «Вертикальный монтаж», остающейся в некоторых отношениях непревзойденным образцом исследования соотношения звука и изображения, как об этом свидетельствует, в частности, сопоставление с новейшими теоретическими и экспериментальными работами по световой музыке (Свет и музыка 1969).
Одним из основных рабочих приемов экспериментального исследования эстетики кино, а возможно, и экспериментального изучения других видов искусств, является исследование того, как один и тот же элемент (например, изображение лица в ранних опытах Кулешова) производит различный эффект в зависимости от той целостной структуры, в которую этот элемент вставлен. В этом отношении исключительно интересны результаты проведенного Эйзенштейном анализа повторяющихся музыкальных фраз в их взаимоотношении со зрительным изображением в кадрах, предшествующих ледовому побоищу (т. 2; 277).

Но гораздо более спорна попытка на этом основании провести непосредственное соответствие между вертикальным членением кадров и выделением долей тактов. Подобное соответствие, по словам Эйзенштейна (т. 2; 255), ощущалось им при монтаже; поэтому свидетельство статьи, написанной вскоре после окончания работы над фильмом, представляет несомненную психологическую ценность. Эйзенштейн сам оговаривает сугубую субъективность тех своих ощущений, которые помогали ему при монтаже (т. 2; 248). «Жест», который Эйзенштейну видится в музыке Прокофьева, интересен для анализа истоков его кинотворчества, но это описание остается вполне субъективной записью его восприятия музыки. Попытка же теоретически осмыслить подобное жестовое восприятие музыки, построив таблицу соответствий между рядами кадров, тактами музыкальных фраз и их долями и жестами, которые эти музыкальные фразы родят в восприятии Эйзенштейна, порождает существенные трудности.
Эйзенштейн свои впечатления от музыки склонен использовать для прямого отождествления временной последовательности звуков с пространственным членением кадра. Эту принципиальную трудность отмечает с достаточной четкостью сам Эйзенштейн: «Все наши рассуждения имели бы силу, если бы в кадре отдельные элементы появлялись бы последовательно» (т. 2; 252). Эйзенштейн отвечает на эти возражения указанием на развертывание кадров в данной сцене слева направо в духе современных теорий развертывания картины при оптическом восприятии, ему, разумеется, еще не известных (т. 2; 252–253). Согласно Эйзенштейну, рассматривавшему всякое произведение как «пропись» – инструкцию (программу в смысле современной кибернетики), «искусство пластической композиции в том именно и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины» (т. 2; 253).
С точки зрения современных кибернетических представлений речь может идти не столько о буквальном движении глаз, видимо, не играющем такой существенной роли при зрительном восприятии, сколько о развертке, сходной с телевизионной. Проблема характера зрительного восприятия эстетических образов остается нерешенной; до обработки данных соответствующих экспериментов допущения Эйзенштейна о параллелизме строения музыкальных тактов и кадров фильма остаются недосказанными. Стоит заметить, что причисление Эйзенштейна к сторонникам аналогических отношений между звуковым и зрительным образами основано более на его собственном цитированном «постанализе» (Бюрш 1967: 521), чем на материале самого фильма, который и в данном случае, как и в других выше упоминавшихся, допускает двоякое толкование – не только как основанный на аналогии звукового и зрительного образов, но и как строящийся на их частичном несовпадении. Это последнее согласовалось бы с теми мыслями Эйзенштейна о характере звукозрительного контрапункта, которые цитировались выше.
Случай звукозрительного параллелизма, разбираемый Эйзенштейном на примере этого эпизода из «Александра Невского», является лишь одной из возможных звукозрительных структур. В более ранних своих работах Эйзенштейн указывал и на другие возможности, включающие отсутствие звука, играющее существенную структурную роль; как отмечал Эйзенштейн, отсутствие звука может быть передано музыкой, как это делается в том же «Кабуки» (т. 4; 233). Значащее отсутствие музыки Эйзенштейн вводил в свое определение нулевого звука: «музыкальным мы полагаем такой фильм, где отсутствие музыки на экране считается как пауза или цезура: пусть иногда в целый ролик длины, по столь же строгого учета (чтобы не сказать – счета), как ритмически учтенный перерыв звучания, как строго отсчитанные такты молчания в единой общей системе тактов звучания» (т. 3; 582–583). Внимание к нулевому звуку было естественно для Эйзенштейна при его стремлении к установлению значащих соответствий между элементами целостной системы.
Последующее развитие звукового кино показало, что отсутствие звука (или во всяком случае речи) может быть существенным средством организации фильма во времени (минута молчания на бирже в «Затмении» Антониони) и становится даже приемом построения всего звукового фильма («Голый остров»). Благодаря роли звукозрительных несовпадений, рано выявленной Эйзенштейном, уже в первых звуковых фильмах оказалось возможным введение принципиально немого актера – например, Харпо Маркса – одного из братьев Маркс, чью игру высоко ценил Эйзенштейн. После того как «Великий немой» заговорил, в нем оказался возможен актер, играющий немого – притом музыкант, как Харпо Маркс, в самой функции которого подчеркивается, следовательно, противопоставление звукового кино говорящему, столь важное для эстетики Эйзенштейна.
7.
| Рис.18. Кадры из сцены с сепаратором (фильм Эйзенштейна «Старое и новое») 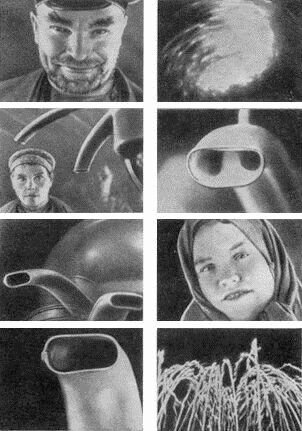 |
Сила Эйзенштейна заключалась не в конкретных технических достижениях, а в опережавшем развитие техники понимании тенденций развития цветового кино. Эти тенденции начали реализовываться лишь в самое последнее время в таких цветовых фильмах, как «Цвет граната» и «Красная пустыня», где, как об этом мечтал Эйзенштейн, цвет, освобожденный от предметной изобразительности, становится вместе со звуком средством воплощения темы. Сам Эйзенштейн долгое время не мог из-за отсутствия соответствующих технических возможностей реализовать свои намерения в кино и пробовал создать условные замены этим кинематографическим замыслам в театре. Театр, как и в юности Эйзенштейна, оказывался подготовительной лабораторией для кино – на этот раз цветового (в «Валькирии»).
Наиболее существенным промежуточным звеном между описанными выше ранними опытами Эйзенштейна по введению цвета в немое кино и его наивысшим достижением в цветовом звуковом кино (вторая серия «Ивана Грозного») был эйзенштейновский замысел постановки оперы Шостаковича «Катерина Измайлова». Об этом замысле по поводу «цветовой родословной» его фильмов не упоминали ни сам Эйзенштейн, ни исследователи его творчества. Между тем для исследования интуитивного роста цветовых образных решений в творчестве Эйзенштейна важна сцена убийства Зиновия Борисовича из упомянутой постановки «Катерины Измайловой», подробное изложение которой входит в «Режиссуру».
Замысел этой постановки особенно любопытен потому, что Эйзенштейн и Шостакович – близкие по духу художники, сходные в непосредственном воплощении своего времени. Формулу, которую полупародийно Эйзенштейн нашел в «Монтаже» для своего искусства (по поводу фильма о Мексике) – «ироническое по форме, трагическое по содержанию» (т. 2; 306) – с неменьшим правом мог бы тогда же применить к себе Шостакович. Именно в этом духе Эйзенштейн описывает в своей интерпретации «соединение трагического и буффонного, комического и патетического» в опере Шостаковича (т. 4; 539). По его словам, «в этой опере налицо самый заостренный тип гротеска: если отравляемый свекор скорее зловещ, то убиваемый муж явно карикатурен. ... А между тем и свекра и мужа убивают самым натуральным и трагическим образом, причем смерть ничего комического или условного не имеет. Это яд и кровь, а не “истечение клюквенным соком”, несмотря на то, что в этих персонажах, особенно в муже, все элементы буффа налицо» (т. 4; 540). Сцену после убийства Сергеем мужа Катерины Эйзенштейн предлагал решить так: «Люк открывает Катерина. Крышкой от публики. Светит Сергею свечкой, взятой со столика. Она в ночном уборе. Со свечой в руках. На фоне черной полосы... Я думаю, что здесь мы пластически выразили купчиху Измайлову, действительно поднявшуюся до леди Макбет Мценского уезда! Цветистая купеческая спальня, купеческая постель, купчиха и приказчик внезапно приобретают графическую строгость трагизма. После удушения комического персонажа гротеск и пластически оборачивается своей трагической стороной. Технические средства: кусок черной материи, ночной убор, люк и свечка» (т. 4: 571).
Не подлежит сомнению, что это решение сцены в замысле постановки оперы (где смена цветового эпизода графически отвечает введению похоронного марша) подготавливало переход от цветового эпизода пира опричников к «графической» сцене в соборе во второй серии «Ивана Грозного» (ср. обратное движение от графического к цветовому в таких позднейших фильмах, как «Ночь и туман» Алена Рене с контрастом черно-белых кадров фашистских концлагерей и обрамляющей цветовой безмятежности начала и конца фильма).
В приведенном описании убийства и сцены после убийства и в «Катерине Измайловой» и в двух сходных эпизодах (пире опричников и сцене в соборе во второй серии «Грозного») совпадает не только общий прием (характерный для Эйзенштейна) перехода от гротеска к трагедии (с убийством «комического персонажа») и цветовое решение этого перехода, но и такие детали, как фигура со свечой (люк функционально эквивалентен узкому проходу в собор). Можно заметить, что в том же тексте «Режиссуры» 1934 г. содержатся и подготовительные материалы к другой гротескной (трагикомической) сцене второй серии «Ивана» – Пещному действу (т. 4; 253).
До того, как черно-белая световая музыка и цветовая музыка снова соединились в контрасте двух эпизодов в «Иване Грозном», у Эйзенштейна две эти линии поисков временно разъединились. Черно-белая световая музыка, развивавшая некоторые пластические достижения «Броненосца Потемкина», была сознательной целью экспериментов в «Александре Невском». В это время у Эйзенштейна складывается то отношение к музыкальному театру и кино, которое все более сближает его с традиционным дальневосточным театром.
В последнее десятилетие своей жизни Эйзенштейн, задумывая цветовые фильмы (о Лоуренсе Аравийском, что было осуществлено на Западе много лет спустя, о Пушкине, о Москве), много теоретически занимается проблемой цвета. В эпилоге «Неравнодушной природы» он писал, что в свете «“цветовых катастроф”, чем являются почти все цветовые фильмы, сделанные по сей день, теоретическая работа над проблемой предмета фильма, его цвета и сочетания их с музыкой имеет громаднейшее значение» (т. 3, 425; выражение «цветовые катастрофы» по отношению к рядовой продукции цветных фильмов, в том числе и некоторых диснеевских, напоминающих «лубки дурной складки», т. 3; 426, Эйзенштейн употребляет и в других статьях: т. 3; 489).
Из утверждения о том, что цвет должен быть первичным по отношению к позднейшей его материализации в конкретных предметах (т. 3; 428, 508 и др.), вытекал интерес Эйзенштейна к таким случаям, где (как в детском рисунке и народной лубочной картине, высоко им ценимой) цветовое пятно не совпадало с очертаниями предмета (т. 3; 513). Не ограничиваясь этим общим положением, Эйзенштейн шел дальше, выдвигая мысль о необходимости отделения зеленого цвета от его носителя – травы.
Эйзенштейн был далек от установления жестких однозначных соответствий между цветовым рядом и другими рядами. Но он очень интересовался такими системами в древнедальневосточных эстетических теориях. В «Вертикальном монтаже» Эйзенштейн собрал и проанализировал огромный материал, относящийся к символическому значению цвета у разных художников.
Занимавшая Эйзенштейна с этой точки зрения проблема сюжетной функции дополнительных цветов, в частности красного и зеленого, может быть пояснена на примере одного из лучших цветовых фильмов – «Красного шара» Ламорисса. В фильме красный цвет шара как бы задает цветовую тему. В одном из эпизодов фильма внутри кадра рядом оказываются красный воздушный шар и зеленый круг огня светофора, по цвету дополнительный к красному. Относительно долго эти два образа, одинаковых по форме и дополнительных по цвету, находятся рядом, затем загорается красный огонь светофора, два красных шара мгновение находятся рядом и тут же красный шар отлетает от светофора, как бы отталкиваясь от красного круга. Здесь соотношения во времени подчинены цветовым соотношениям, как это и должно быть в том цветовом кино, о котором мечтал Эйзенштейн. В этом эпизоде фильма Ламорисса буквально воплотилось то сочетание красных и зеленых кружков (в том числе красного глазка светофора и зеленого) – в сопоставлении соответственно с зелеными и красными кружками (т. 3; 503), которое мечталось Эйзенштейну в его этюде о цветовом фильме, где «в сцене со светофором зеленое и красное расцветают... эмоцией» (т. 3; 506).
Считая необходимым отделение цвета от его носителя – изображаемого предмета в развитом искусстве, Эйзенштейн в то же время учитывал «обходный путь» передачи цветовых ощущений «с погружением в формы чувственного этапа мышления, когда цвет был неотделим от предмета» (GP). Такие «обозначения цвета через предметы – носители этого цвета» вызывают, по Эйзенштейну, «чрезвычайно повышенную интенсивность ощущения» (там же). Эти замечания были им сделаны по поводу материалов о цветовых метафорах у Шекспира, собранных в замечательной по полноте материала книге К. Сперджен об образности Шекспира (Сперджен 1965). Но из работ о цветообозначениях у писателей еще большее впечатление на Эйзенштейна произвела вышедшая почти одновременно с книгой Сперджен и сходная с ней (при неизмеримо большей глубине понимания образной структуры) такой же полнотой статистически обработанных данных книга Андрея Белого «Мастерство Гоголя».
К статистически обоснованным результатам исследования Белого о Гоголе Эйзенштейн обращается и в своем трактате «Вертикальный монтаж», когда, готовясь к занятиям цветом в кино, он подбирает доказательства идеи значимости определенного цвета (противопоставляя ее идее Кандинского о внутреннем звучании цвета вне его программного функционирования). Для доказательства своего предположения о мрачных ассоциациях, обычно связываемых с желтым цветом, Эйзенштейн использует статистически обоснованные выводы Андрея Белого.
Эти наблюдения Белого оказались очень важны и для художественного творчества Эйзенштейна (см. т. 3; 570).
Сравнивая воспоминания Эйзенштейна о начале замысла его цветового биографического фильма (героем которого должен был стать не Гоголь, а Пушкин) с его же рассуждением, основанным на статистике Андрея Белого, можно наглядно увидеть путь, связывавший для Эйзенштейна научные (в данном случае литературоведческие) занятия с художественными проектами фильмов. Но тут же следует отметить, что духу Эйзенштейна противоречило бы выведение замысла фильма только из научных (в этом примере статистических) исследований. Самым существенным было сопряжение их с автобиографическим впечатлением, давшим в сочетании с «чернотой» Европы 1933 года (после прихода фашистов к власти) эмоциональный фон фильму.
В одной из предсмертных записей (АА, наброски «К возможной полемике с Эйслером», 14 декабря 1947 г.) Эйзенштейн формулирует эту точку зрения на рождение образа, говоря о впечатлении, рождаемом домами города:
«Мы ищем соизмеримость; а не иллюстрирование или повторение... Как skyline [линия неба] почему [-то] этот излом ее дорог мне: так и звукоряд своим сочетанием пленяет.
И это почему-то за пределами отдельных сфер – образ и диктует выбор того или иного излома линии или очертания мелодии.
Образ – в жест : жест underlies [лежит в основе] обои[х]. Тогда можно любые контрапункты».
В экземпляре избранных переводов Пастернака (1940 г.) Эйзенштейн отмечает именно те строки, где подчеркивается близкое ему, как и Пастернаку и Вердену, импульсивное не рассчитанное существо поэзии. «Цветовая родословная» фильмов Эйзенштейна служит едва ли не лучшей иллюстрацией этих его мыслей о «протоплазматическом» зарождении образа, постепенно разрастающегося в дифференцируемую структуру.
8.
Искусство 20-х годов было в большой степени доведением до полного совершенства тех средств, которые могут находиться в распоряжении человека. Отсюда происходило и самодовлеющее внимание к средствам выражения, которое характеризует и науку и искусство того времени.
Эйзенштейн в 20-е годы прошел через техницистический подход к искусству; более того, свою социальную роль он определял именно через отношение к технике (т. 2; 98). Тогда же он отдал дань увлечению техникой как таковой, рационалистической технической цивилизацией «века победоносного индустриального становления» (т. 3; 416) в частности, и американской (хотя многое его отталкивало от Голливуда, где он не встретил понимания, и от Америки, что и привело к разрыву, кончившемуся катастрофой мексиканского фильма).
Роль индустриальных технических концепций для того времени несомненна.
30-е годы были временем торжества технического подхода не только к искусству; славословия технике проникали в стихи, становились общим местом, всеми повторяемым.
В трактатах Эйзенштейна этой поры можно найти наблюдения об эстетике машины, ее «одомашнении» (т. 4; 455 и 458). Образы машины как животного даны в «Старом и Новом» («Генеральной линии») и непосредственно (монтажом, соединяющим косилку и крупный план кузнечика, ср. ДЭ, т. IV, стр. 81), и косвенным внутренним контрапунктом: с труб сепаратора молоко капает так же, как (в противоположной мрачной сцене умирания природы) с так же изогнутых козьих и овечьих морд капала источаемая сушью влага. В «Старом и Новом» последовательно сменяют друг друга мотивы домашних животных – быка, коровы, лошади – и «домашних» машин – трактора, сепаратора. Пишущая машинка, показанная крупным планом, становится образом другой машины – бюрократического аппарата (т. 3; 441); эта тема продолжалась в замысле комедии «М.М.М», но ей не суждено было развиться.
В 30-е годы пафос техники как таковой, ее внедрения в деревне в известной мере становится основной темой для Эйзенштейна, как в «Старом и Новом». Эстетизация сельскохозяйственной техники в этих фильмах как бы уже предварена опытом художественного освоения техники броненосца в «Потемкине» (недаром в одном из вариантов сцены с сепаратором в «Старом и Новом» выводные трубки сепаратора монтировались для сравнения с жерлами орудий «Броненосца», см. т. 3; 78), техники заводской – в «Стачке» (как до этого в спектакле «Противогазы»). Здесь ранние фильмы (и спектакли) Эйзенштейна были близки всему инженерному строю искусства таких художников того времени, как Д. Вертов и Леже (чей экспериментальный фильм «Механический балет» был очень высоко оценен Эйзенштейном). Но пафос машины у Эйзенштейна был противоположен тому контрасту человека и машины, который (вскоре после выхода «Старого и Нового») становится темой Чаплина.
При постоянном внимании к истории занимавших его предметов Эйзенштейн задумывался и над историей техники. Более всего его занимало то, как развитие техники продолжало биологическую эволюцию. По его словам, «большинство технических методов есть как бы материализованные и перенесенные на аппараты характеристики не только человеческих физических действий, но и ряда психических процессов» (АА, «Рильке II»). Говоря о том, что «уменьшительный» станок Дюрера (XV в.) и следующее за ним изобретение XVIII в. «показывают нам инструментализацию двух стадий фиксации силуэта» и сравнивая эти технические способы с фиксацией силуэта у японских художников, Эйзенштейн, делает общий вывод: «Инструмент – есть “отвердевающий” в форму орудия принцип натурального физического процесса» (М, ч. II, 22 I.1944 г.).
Проблема соотношения органов человеческого тела и орудий, столь занимавшая Эйзенштейна, обсуждалась многими учеными века, начиная с Бергсона. На простом примере свою мысль о соотношении орудия и органа восприятия пояснял Нильс Бор (Дирак 1968: 21). П.А. Флоренский пришел к совпадающему с любимой мыслью Эйзенштейна выводу, что «разум осуществляет себя в технике, продолжающей тело посредством проекций его органов. Мы пришли к этому путем теоретических соображений. Дальнейшее за тем сопоставление органов и орудий доказывает, что последние действительно имеют своим типом первообразы органов, самые же органы – своею моделью» («Воплощение формы. Действие и орудие». Архив П.А. Флоренского).
Наибольший интерес представляют те наброски Эйзенштейна по истории техники передачи и хранения зрительной информации, которые содержатся в его неопубликованной рукописи «История кино» (22 Х.1946), где Эйзенштейн рассматривает «историю кинематографа под углом зрения механизации средствами техники самого процесса отражения и закрепления результатов подобного отражения», отмечая «проблему воссоздания средствами техники процессов: получения сколка с явления действительности механическим путем и закрепления его техническими средствами». В главе «Получение сколка» Эйзенштейн отмечает в тезисной форме последовательно «обведенный рукой абрис реального предмета или силуэта тени как перв[ую] попытк[у] механизировать отражение реального облика», «...фототехнический примитив механического получения силуэтного изображения. Силуэты на зреющих плодах путем наклеек, под собою сохраняющих нетронутую поверхность. Возрождение этого в фотограммах Мак Роя и Моголи На[ди] на поверхности светочувствительной бумаги».
В длинном ряду перечисляемых Эйзенштейном технических достижений восточных и западных цивилизаций древности, средневековья и нового времени его особенно занимают такие древнейшие способы закрепления обмена, как печати Вавилона, «древние набойки на материю и сохранение традиции в кустарном текстиле Востока и Запада», техника слепка маски, в которой он видел nux (орешек) всего этого ряда изобретений и открытий; в этом Эйзенштейн сходится с такими теоретиками кино, которые, как Базен, возводят кино как средство фиксации реальности к способам сохранения отпечатков или к муляжам.
Современная техника служила Эйзенштейну для осмысления далеких технических изобретений. Их он связывал с чертами древнего искусства. В заметке «Круг-ротация» (GP, 12.X 1947) (для объяснения «чисто ротационно задуманных вещей» Пикассо «Плывущая женщина», 1929 г.), Леже и тех статически-«ротационных» (Микеланджело, т. 3: 402–403) и круговых (Тинторетто, Караваджо) композиций, которые им предшествовали, Эйзенштейн высказывает гипотезу: «Здесь в живописи (видимо) повторение процесса от статики нормы круга к динамике ротации (или наоборот), которая в истории развития имеет свой момент видимо в изобретении колеса, т.е. ротирующего круга!». Делая в связи с серией своих заметок о круге и колесе в искусстве пометку «Заняться вопросом истории изобретения колеса», Эйзенштейн затем формулирует свою гипотезу в виде серии рисунков, где опять-таки современная техника (тяжеловозы, где он видит Rückgang – возврат к раннему этапу) служит ему для воссоздания цепочки: от переваливания к перекатыванию, от круга (в частности, ствола) к ободу со спицами. О серьезности занятий Эйзенштейна этой проблемой свидетельствует, в частности, то, что в качестве прототипа колеса па рисунке он изобразил то сплошное трехчастное колесо (из трех сбитых вместе деревянных частей), которое, как это подтверждено новейшими археологическими данными, было прототипом колеса на всей территории древних цивилизаций Евразии (Чайлд 1954: 2–10). Гипотеза происхождения колеса из катков-бревен подтверждается и такими новыми открытиями, как находки катков из толстых стволов в алтайских курганах (Семенов 1968: 260).
Едва ли не наиболее тонким наблюдением Эйзенштейна, касающимся воздействия техники и производства на раннее искусство, было объяснение некоторых особенностей орнаментации древнеперуанских сосудов (рис. 19), очень его занимавших тем, что на их округлую форму были перенесены законы орнамента, связанные первоначально с плетением (GP). Вывод о том, что орнамент в ряде случаев развился из техники плетения или тканья, в настоящее время можно считать доказанным. Следы техники плетения Эйзенштейн пробовал проследить и во многих значительно более развитых образцах искусства.
| Рис.19. Перуанский сосуд с изображением человеческого лица  |
Мысли Эйзенштейна о роли ремесел для развития ранних форм искусства были не столько следствием воздействия идей Земпера и его школы, объяснявшей происхождение художественных форм из техники соответствующих производств, сколько побочным продуктом его интенсивных занятий современной техникой, прежде всего кинематографической. По мнению Эйзенштейна, кино открывает не только невиданные возможности в самом искусстве, но вместе с тем позволяет открыть основополагающие эстетические законы. Проблема связи искусства с техникой для него представала прежде всего в свете соотношения техники кино с другими искусствами.
В написанных частях своего завершающего эстетического труда Эйзенштейн подчеркивал, что к излагаемой концепции он пришел именно через кино. Объяснение этому он видел в том, что «в наиболее совершенной разновидности искусства, каковой автор полагает кинематограф, совершенно естественно должны проступить методы искусства вообще» (GP, «Кино и основные черты метода искусства. Die rhytmische Trommel»). В кино (при изучении монтажа) «эстетика проверяема локтем и дюймом» (т. 2: 335). При исследовании звукозрительных сочетаний в звуковом кино «в руках наших обе сочетающиеся области существуют в виде двух самостоятельных лент, на одну из которых нанесены изображения, а на другую – записан звук» (т. 3: 585). Недаром Эйзенштейн жалеет Сальери за то, что в его время не было кино – главного средства, чтобы поверять алгеброй гармонию.
Кинематограф Эйзенштейну мыслился как грандиозный эстетический эксперимент, технически позволяющий осуществить прежде казавшееся несбыточным и в самом искусстве, и в теории искусства. Другие виды искусства, независимо от их возраста, осмыслялись им через кино. Любимой его мыслью, много раз повторявшейся, было утверждение, что в кино удается осуществить все то, перед чем остановилось искусство «второго барокко» – первых десятилетий XX в. Пространственные эксперименты кубизма, аттракционы левого театра, внутренний монолог Джойса – все эти замыслы и опыты новейших течений искусства Эйзенштейн рассматривал как подступы к кино. А недостатком, пагубно повлиявшим на эти течения, он считал то, что они пытались другими средствами решить те задачи, которые полностью под силу только кинематографу (т. 3: 298).
Как это естественно по отношению к столь заостренной формулировке, она не должна пониматься вполне буквально. Из других замечаний Эйзенштейна, например, о Джойсе и кубистах, ясно, что он признавал и самостоятельную ценность за тем, что было сделано ими. Но его самого они занимали прежде всего как промежуточный мост от всех предшествующих видов искусства к кино.
Эти мысли Эйзенштейна представляют огромный интерес с точки зрения такой сравнительной истории искусств, которая не замыкалась бы в каждой отдельной области, а попыталась бы установить соответствия между этими областями. Так же, как изучение отдельной культурной традиции (русской, западноевропейской, китайской, японской или мексиканской) производилось им на фоне общей типологии культур, каждый из видов искусств – и прежде всего кинематограф, особенно его занимавший – исследовался им в свете общей типологии искусств. По существу уже сейчас литературоведы при характеристике стиля писателя этого периода постоянно обращают внимание на его кинематографические эквиваленты, то есть идут по тому же пути. Но чаще всего речь идет об отдельных наблюдениях, тогда как Эйзенштейн при его тяге к общим построениям набросал эскиз движения всего искусства века.
По его мысли, эволюция средств выражения вела везде в сторону кино, выступающего в качестве венца эволюции. Но телеологическая модель развития, предполагающая обращенность его к некоторой цели, даже когда эта модель (как это было у Эйзенштейна) исходит из реальных опытных данных, содержит привносимый извне оценочный критерий. Предположение о том, что кино является «высшим этапом живописи» (т. 3: 285), театра, литературы означает оценку одного искусства по сравнению с другим, которая объективно не может быть мотивирована и по существу объяснялась тем, что сам Эйзенштейн был творчески увлечен кино и поэтому его выдвигал в центр своей системы.
Здесь сказывается тот подчеркнутый эволюционизм, который вообще был очень характерен для Эйзенштейна. Но его выводы допускают такую их переинтерпретацию, когда они сохраняют ценность типологии, хотя и не обязательно должны говорить о хронологическом и эволюционном приурочении разных типов. Увлечение техникой предполагало, что в искусстве, где на первый план ставилась техника, можно говорить о постоянном развитии в одну сторону. Но Эйзенштейн не раз оговаривался, что в искусстве (и в науке о нем) часто происходит зигзагообразное движение, иногда попятное. Не подлежит сомнению, что соответствия между новыми экспериментальными течениями в искусстве и кино, выявленные Эйзенштейном (и широко использованные им в его кинематографической практике), очень важны для установления общих типологических черт в разных видах искусства. В качестве одного из самых убедительных примеров можно привести данную Эйзенштейном характеристику графической стороны поэзии Маяковского (см. т. 2: 184–188) как отражающей монтажное мышление (или говоря современными терминами, установку на синтаксическую структуру текста), свойственное той эпохе.
Мысль о том, что кино является завершением всех современных поисков в искусстве, у Эйзенштейна была выведена, несомненно, из его собственного опыта. По отношению к левому театру в его отношении к кино это отчетливо сформулировал сам Эйзенштейн. Ранние театральные опыты, в которых Эйзенштейн обращался к «Коломбине десятых годов», для того чтобы дать гротескную интерпретацию классической пантомимы, были предвестием его кинематографических открытий.
Задолго до того, как Эйзенштейн выступил с речью о вертикальном экране, он (вместе с С. Юткевичем) работал над новой версией пантомимы Донаньи. Среди придуманных им трюков, по его собственным воспоминаниям, «не последнее место занимала вертикальная площадка сцены (потенциальный экран – своею вертикальной площадью противостоящий орхестре театрального действия!) – решенная плоскость[ю] окна, по переплетам переборок которого мизансценировалось действие двух картин» (М). Переход эйзенштейновского «Мудреца» в фильм («Дневник Глумова», сохранившийся лишь частично), реализовавший сценические метафоры спектакля, много раз им описывался. «Преломление» театра в кинематограф, совершившееся, по словам самого С.М. Эйзенштейна, именно в «Противогазах», можно точно датировать: выбирая место для фотосъемок спектакля, Эйзенштейн уже вел себя не как театральный режиссер, а как кинорежиссер» (Штраух 1966: 184–186).
Ограничения, которые на художника налагает театральная форма, в те же годы обсуждались в эстетических сочинениях. Эту проблему в связи с определением места искусства по отношению к технике и науке в 20-х годах глубоко изучил П.А. Флоренский, построивший с этой точки зрения классификацию искусств как способов организации пространства. К технике Флоренский относил способы организации пространства жизненных отношений, к науке и философии – «пространство мыслимое, мысленную модель действительности», тогда как пространства искусства «наглядны как пространства техники и не допускают жизненного вмешательства – как пространства науки и философии» (АП). По степени свободы организации пространства музыка и поэзия сближаются с наукой и философией, архитектура, скульптура и театр – с техникой, тогда как живопись и графика, являющиеся «художеством по преимуществу», занимают промежуточное место. Наименьшую активность зрителя и наименьшее многообразие в восприятии Флоренский видел в театре. Его критика театра, датируемая 1924 г. – временем наибольшего расцвета поисков новых форм в театре, переходивших прямо в кино (как в «Мудреце» и «Противогазах» Эйзенштейна), особенно поучительна как внутреннее эстетическое обоснование этих поисков (глубина этой аналогии подчеркивается тем именно, что ни об этих поисках, ни о кино Флоренский в этом месте своего труда не упоминал). Причину пассивности зрителя (которую в те же годы хотел преодолеть Мейерхольд) в театре Флоренский видел в «жесткости материала, его чувственной насыщенности, держащей с наибольшей определенностью и чувственной внушительностью форму, которую удалось наложить на него совокупности деятелей сцены, начиная от поэта и музыканта и кончая ломовщиком. Но наложить-то на этот упорный материал живых людей, человеческие голоса, чувственное пространство сцены – формы, задуманные драматургом или музыкантом, вовсе не всегда удается, в большинстве же случаев – просто совсем не удается. Будучи живыми телами, актеры слишком крепко связаны с пространством повседневной жизни, чтобы можно было перенести их, хотя бы временно, в иное пространство...» (АП).
Здесь можно видеть четко сформулированные причины отказа от самодовлеющей функции актера в театре 20-х годов, а затем и в кино, в частности в ранних опытах Эйзенштейна. Приводимые Флоренским примеры задач, которые оказываются не под силу театру, могут (в согласии с мыслью Эйзенштейна о кино как современной стадии театра) считаться примерами задач, позднее решенных в кино.
Эволюцию искусства Эйзенштейн, как это было естественно для художника XX в., не мог отделить от развития техники. Более того, его занимали возможности выявления таких принципов, которые оказались бы общими для истории техники и для «эволюции зрелища» от цирковой арены к рампе и киноаппарату (т. 4: 369). Недаром, опережая свое время, Эйзенштейн первым намечает пути освоения в кино звука (и позднее – стереозвука) и цвета, еще в 1930 г. произносит пионерскую речь о форме экрана, положения которой приобретают реальность лишь в наши дни, одним из первых открывает значение телевидения как искусства.
Говоря о своих технических экспериментах, Эйзенштейн постоянно подчеркивал, что они никогда не были только исканиями в области формы, а всегда при крайней их заостренности были поиском способов выражения занимавшей его темы (т. 3: 421). По его словам, небывалые новые темы, «помноженные на возможности новой техники, потребуют небывалой новой эстетики...»(т.3:483).
Характерный для 20-х и начала 30-х годов интерес к технике в искусстве как таковой прямо был связан с пониманием техники как решающего фактора во всем. Забывалась простая истина, о которой в 1938 г. в статье «О ликвидации человечества» напомнил Андрей Платонов, что техника есть именно признак воодушевленного человеческого труда; она и лежит в начале всякой культуры, а не в конце ее.
Для обнаружения зависимостей между увлечением техникой как таковой и литературной техникой из последующих сочинений очень показательна книга Олеши «Ни дня без строчки», недаром используемая в тех работах, которые в утрированной форме продолжают техницистический подход к искусству. В книге Олеши, отражающей почти без изменения это отношение к искусству, статистически характерное для 30-х годов, обнаруживается полный параллелизм в измерении истории техникой и литературы – метафоричностью (к которой с удивительной односторонностью сведена вся литературная техника). Далеко не все авторы, разделявшие эти технические увлечения 20-х годов, сохранили их в неприкосновенности; об отходе от рационализма к органике говорит Эйзенштейн (т. 5: 558).
В своих высказываниях последних лет Эйзенштейн был сознательным противником техницизма, ставя под сомнение свою приверженность ему и в прежние годы: «Режиссер, с которым работает Тобак, еще очень давно провозгласил подозрительную программу расчета в кинопроизведениях, расчета, столь же строгого и априорного, как в конструкциях мостов или заранее заведомо работающих станков. Выкрикнутым в эпоху общего увлечения машинизмом, урбанизмом, конструктивизмом и инженеризмом – этим программным лозунгам сейчас же поверили» (т.5: 485).
В последние годы жизни Эйзенштейн все больше задумывался о недостаточности чисто технического владения искусством. Проблема назначения средств, оказавшихся в руках человека, в равной мере волновала его и по отношению к искусству, и применительно к науке. Эйзенштейн характеризовал свой путь от рационалистического постижения законов искусства к его органическому осмыслению, которым объясняется и постановка им «основной проблемы» эстетики, говоря о том, как часто он пользовался в статьях «материалом Востока...
Но не случайна и сама последовательность: японцы и китайцы как бы повторяют соотношение: римляне – греки древности или американцы – европейцы современности... Там, где у греков тайна пропорций “золотого сечения”, у римлян – простая кратность и т.д. Так же механически двухмерны концепции рационализаторов японцев. И так же первичны, органичны, “оригинальны” (в гегелевском смысле) китайцы» (т. 5: 558).
В высшей степени знаменательно в цитированном рассуждении, принадлежащем к самым глубоким из всего написанного Эйзенштейном, упоминание рационализма американской цивилизации, с которой, в частности, связано прежде всего и распространение первых опытов, по необходимости примитивных, кибернетических описаний искусства. Они противопоставляются «неисчислимому», в духе упоминавшихся выше работ Колмогорова, где в полемике с примитивностью первых кибернетических экспериментов точно показана принципиальная сложность задач, ставящихся в искусстве.
[1] Хлебников 1940: 269. – Независимость анализа этой миниатюры в «Монтаже» Эйзенштейна (т. 2: 456) от стихотворения Хлебникова доказывается тем, что это последнее было издано впервые в 1940 г. (через 27 лет после написания), тогда как трактат Эйзенштейна написан в 1937 г. (и издан тоже через 27 лет после написания – в 1964 г.). См. об этой параллели между Хлебниковым и Эйзенштейном подробнее Иванов, 1967. Видимо, к этому же образу Хлебников возвращается и в стихах (Хлебников, 1930: 296):
В хоботе слоновьем тоже есть нега,и в прозе (в «сверхповести «Дети Выдры»):
Если в нем качается укротительница жена.
Один присел, другой ступил на плечи.
На трубном хоботе возникнул человек.
«Сын выдры с пером в руке идет один через зеленую чащу Индии [где в ветка<х> прячутся обезьяны. Очковая змея залегла на его пути]. Толпа служанок храма с велики<ми> оча<ми>, у них большие смелые рты, сплетаясь руками в нечто напоминающее слона и покрытое ковром, зовет его к себе знаками. Он садится на ковер покрывающ<ий> живого, но не подлин<ного> <?> слона и трогается дальше, держа в одн<ой>руке священну<ю> к<н>игу и лотос в другой...» (Рукописный отдел Института мировой литературы, ф. 139, оп. 1, ед. хр. 6, см. Баран 1975: прим. 1).
[2] Понимание поэта как «подмастерья», служащего «народу-языкотворцу», было отчетливо сформулировано в стихах и статьях Маяковского 20-х годов. Его формулировка о добыче одного «грамма» поэзии из тысячи тонн словесной руды» опережала науку о поэтическом языке, пришедшую к такому его пониманию лишь в математических исследованиях А. Н. Колмогорова, развивших традицию формального стиховедения 20-х годов. Тема сознательного сближения языка поэзии с общим языком (начиная с «Облака в штанах» и ранних статей) неотступно занимала Маяковского. Мандельштам в своих статьях о поэзии в 20-х годах указал на основную тенденцию развития языка русской поэзии – его «обмирщение», сближение с обычным языком (что близко к аналогичному пониманию функции поэзии в статьях крупнейшего английского поэта Т.С. Элиота, написанных несколько позднее). Особая роль в этом развитии, согласно Мандельштаму, принадлежит Хлебникову и Пастернаку. Сам Пастернак всю жизнь продолжал раздумья о разговорном языке, что объясняет, например, его интерес к осуществленной Джемсом «первой лексикографической описи русских речевых богатств в конце XVI в. Эта попытка Джемса составить русско-англ[ийский] словарь, равно как. и обстоятельства его записи песен и разговорной речи на пороге Смутного времени поразительны! Сверхъестественной кажется эта возможность проникнуть в отдаленную тремя с лишним столетиями жизнь, как бы еще текущую, на всем ее ходу и во всем разгаре, ошеломляющую, как нескромное подглядывание! И как мало изменился язык за столько времени! Видимо, только ссорящиеся бояре каждое десятилетие изобретают новые формы сакраментальной витиеватости, а ими управляемые веками выражаются приблизительно одинаково» (из письма Б.Л. Пастернака автору от 15 августа 1955 г.).